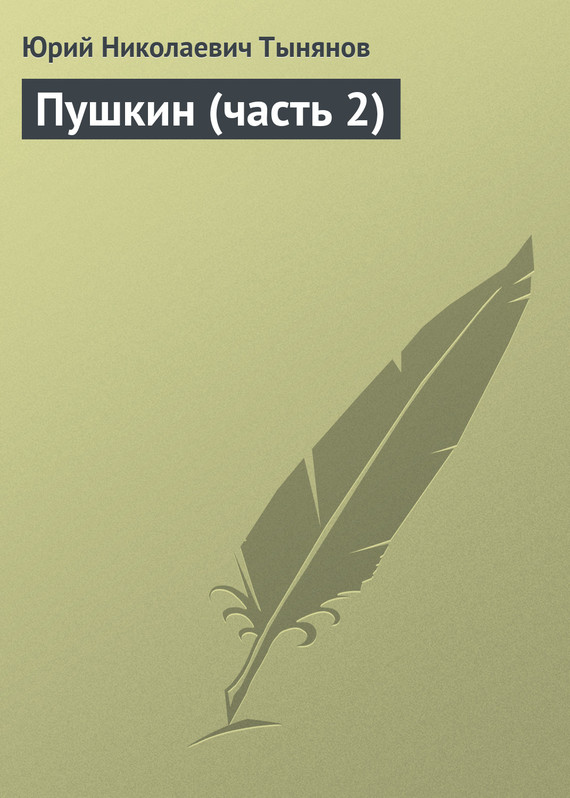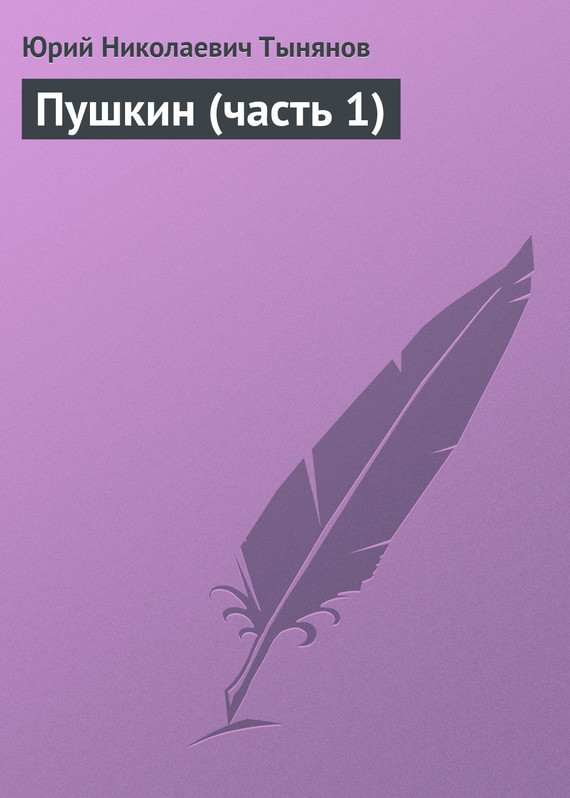Гроздья гнева Стейнбек Джон

— Это у тебя от жары. Зачем тебе лед на рождество?
Она фыркнула:
— И в самом деле! А все-таки пусть он всегда у нас будет. Ну, перестань! У меня голова кругом пойдет.
Сумерки перешли в темноту, и на бледном небе над пустыней показались звезды — колючие, яркие, с редкими лучиками, — и небо стало как бархатное. И жара стала иная. До заката зной словно хлестал, заливал огнем, а теперь он поднимался снизу, от земли, плотной, душной волной. Зажгли фары, и впереди в их тусклом свете виднелось шоссе, а по правую и по левую руку — узкая лента пустыни. Иногда вдали поблескивали чьи-то глаза, но звери не выбегали на свет. Под брезентом теперь стало совсем темно. Дядя Джон и проповедник лежали посредине, опираясь на локти, и глядели на дорогу, в задний треугольник навеса. Они видели у самого борта две бесформенные в темноте фигуры — это были бабка и мать, — видели, как мать привстает время от времени, меняет позу.
— Кэйси, — сказал дядя Джон, — ты должен знать, что с этим делать.
— С чем — с этим?
— Сам не знаю, — ответил дядя Джон.
Кэйси сказал:
— Нелегкую задачу ты мне задал.
— Ты же был проповедником.
— Слушай, Джон! Что вы все говорите: проповедник, проповедник. Разве проповедник не такой же человек, как все?
— Да, но он… он особенный человек… иначе какой же он проповедник. Я вот о чем… Может быть так, что приносишь людям несчастье?
— Не знаю, — сказал Кэйси. — Не знаю.
— Вот я… у меня была жена… красивая, хорошая. Как-то ночью у нее заболел живот. Она попросила меня: «Позови доктора». А я говорю: «Вот еще. Объелась, наверно, только и всего». — Дядя Джон положил проповеднику руку на колено и пригляделся к нему в темноте. — Ты бы видел, как она на меня посмотрела. Всю ночь стонала, а на следующий день умерла. — Кэйси пробормотал что-то. — Понимаешь? — продолжал дядя Джон. — Я ее убил. И с тех пор я старался искупить свою вину… старался делать добро… все больше ребятишкам. И жить хотел по-хорошему… и не могу. Напиваюсь, предаюсь блуду…
— Все блудят, — сказал Кэйси. — Я тоже.
— Да, но у тебя нет греха на душе.
Кэйси мягко проговорил:
— Как нет — есть. Грехи есть у всех. Что кажется нам грехом? То, в чем мы не чувствуем уверенности. А тех, кто во всем уверен и не знает за собой никаких грехов, — тех сволочей я, на месте бога, гнал бы пинком в зад из царства небесного. Видеть их не могу.
Дядя Джон сказал:
— У меня такое чувство, будто я своим же родным приношу несчастье. Думаю, уж не уйти ли от них? Так мне не житье.
Кэйси быстро проговорил:
— Что человеку надо делать, пусть он то и делает. Ничего тебе не могу посоветовать. Ничего. Я не знаю, бывает ли так, чтобы приносить счастье или несчастье. А доподлинно мне известно только одно: никто не смеет соваться в чужую жизнь. Пусть человек решает сам за себя. Помочь ему можно, а указывать — нет.
Дядя Джон разочарованно сказал:
— Так ты не знаешь?
— Нет, не знаю.
— А как по-твоему, грех это, что я жену не спас от смерти?
— У другого это было бы просто ошибка, — сказал Кэйси, — а если ты думаешь, что это грех, значит, грех. Человек сам создает свои грехи.
— Надо это обдумать как следует, — сказал дядя Джон, перевернулся на спину и лег, подняв колени.
Грузовик оставлял позади милю за милей. Время шло. Руфь и Уинфилд заснули. Конни вытащил откуда-то одеяло, накрыл себя и Розу Сарона, и, сдерживая дыхание, они обнялись под ним в темноте. Потом Конни откинул одеяло в сторону, и горячий воздух овеял прохладой их взмокшие тела.
Мать лежала на матраце возле бабки, и, хотя глаза ее ничего не видели в темноте, она чувствовала рядом с собой судорожно подергивающееся тело, судорожно бьющееся сердце, слышала прерывистое дыхание. И мать повторяла:
— Успокойся, успокойся. Все будет хорошо, все будет хорошо. — И потом добавила срывающимся голосом: — Ты же знаешь, нам надо переехать пустыню. Ты же знаешь это.
Дядя Джон окликнул eё:
— Ты что?
Прошла минута, прежде чем она ответила.
— Да нет, это я так. Должно быть, во сне.
А потом бабка затихла, и мать, не двигаясь, лежала рядом с ней.
Часы шли, темнота плотной стеной вставала перед грузовиком. Иногда их обгоняли машины, бежавшие на запад; иногда навстречу попадался грузовик и с грохотом пролетал мимо, на восток. Звезды медленным каскадом струились к западу. Было уже около полуночи, когда они подъехали к инспекторской станции около Деггета. Шоссе в этом месте было залито электричеством, а у инспекторского домика стоял ярко освещенный щит с надписью: Держи правее. Стоп. Том остановил машину, и инспекторы, слонявшиеся без дела по конторе, сейчас же вышли и стали под длинным деревянным навесом. Один записал их номер и открыл капот.
Том спросил:
— Это зачем?
— Агрономическая инспекция. Сейчас осмотрим всю машину. Растения, семена есть?
— Нет, — ответил Том.
— Посмотреть все-таки надо. Разгружайтесь.
Мать с трудом слезла с грузовика. Лицо у нее было опухшее, глаза смотрели сурово.
— Послушай, мистер, у нас больная. Старуха. Мы повезем ее к доктору. Нам нельзя ждать. — Она, видимо, еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться. — Отпустите нас.
— Нет. Без осмотра никак нельзя.
— Богом клянусь, ничего у нас нет! — крикнула мать. — Богом клянусь. Бабке совсем плохо.
— Вы сами, наверно, заболели, — сказал инспектор.
Мать взялась за планку заднего борта и подтянулась всем телом, вложив в это движение всю свою силу.
— Смотрите, — сказала она.
Инспектор направил луч карманного фонаря на сморщенное старческое лицо.
— И в самом деле, — сказал он. — Так, говорите, ничего нет — ни семян, ни фруктов, ни овощей, ни кукурузы, ни апельсинов?
— Ничего нет. Богом клянусь!
— Ладно, поезжайте. Доктор есть в Барстоу. Это всего восемь миль отсюда. Поезжайте.
Том залез в кабину и тронул грузовик с места.
Инспектор повернулся к своему товарищу.
— Чего их задерживать?
— Может, врут все, — сказал тот.
— Какое там! Ты бы видел эту старуху. Нет, не врут.
Том прибавил газа, торопясь поскорее добраться до Барстоу, и когда они подъехали к этому маленькому городку, он остановил машину, вылез из нее и подошел к заднему борту. Мать выглянула ему навстречу.
— Ничего, — сказала она. — Я просто не хотела задерживаться, боялась, как бы не застрять в пустыне.
— А что с бабкой?
— Ничего… ничего. Поезжай дальше. Надо поскорее одолеть пустыню.
Том покачал головой и отошел.
— Эл, — сказал он, — сейчас заправимся, а дальше ты поведешь.
Он подъехал к заправочной станции, работающей круглые сутки, наполнил бак и радиатор и подлил масла в картер. Эл передвинулся к рулю. Том сел с краю, отец — посредине. Они снова въехали в темноту, и вскоре невысокие холмы, окружавшие Барстоу, остались позади.
Том сказал:
— Не знаю, что это с матерью. Какая ее муха укусила? Разве долго посмотреть вещи? Сказала, что бабка совсем плоха, а сейчас говорит — ничего. Не пойму. Что-то с ней неладное. Может, помешалась в дороге?
Отец сказал:
— Она сейчас как в молодости — такая же отчаянная. Молодая была — ничего не боялась. Уж, кажется, пора бы ей присмиреть, ведь столько детей нарожала, работа какая тяжелая. Да где там! Помните, как она домкратом размахивала? Попробуй, отними — да я бы ни за что не согласился.
— Не пойму, что с ней такое, — сказал Том. — Может, просто устала?
Эл сказал:
— Вот уж не буду жалеть, когда наше путешествие кончится! Покоя мне не дает эта проклятая машина.
Том сказал:
— Ты молодец — хорошую выбрал. Без сучка, без задоринки едем.
Всю ночь «гудзон» вгрызался в душную темноту, и зайцы сбегались на свет его фар и удирали прочь, меряя землю длинными, размашистыми прыжками. И когда впереди блеснули огоньки Мохаве, позади уже начинало светать. В рассветных сумерках на западе показались горы. В Мохаве взяли воды и масла и поехали дальше, к горам, и теперь рассвет окружал их со всех сторон.
Том крикнул:
— Проехали пустыню! Па, Эл, да посмотрите! Ведь проехали!
— Я так устал, что мне все равно, — сказал Эл.
— Дай я поведу.
— Нет, подожди.
Техачапи проехали при свете. Позади вставало солнце. И вдруг внизу глазам их открылась широкая долина. Эл резко затормозил посреди дороги и крикнул:
— Ой! Смотрите! — Виноградники, фруктовые сады, широкая ровная долина — зеленая, прекрасная. Деревья, посаженные рядами, фермерские домики.
И отец сказал:
— Мать честная!
Городки вдали, поселки среди фруктовых садов и утреннее солнце, заливающее золотом долину. Позади дали сигнал. Эл свернул к краю шоссе и остановился там.
— Надо посмотреть как следует.
Золотые поутру поля, ивы, ряды эвкалиптов.
Отец вздохнул.
— Вот не думал, что такое бывает на свете.
Персиковые деревья, ореховые рощи и пятна темной зелени апельсинов. И красные крыши среди деревьев, и сараи — большие сараи. Эл вылез из машины и сделал несколько шагов, разминая ноги.
Он крикнул:
— Ма, посмотри! Приехали!
Руфь и Уинфилд сползли с грузовика на землю и замерли на месте, благоговейно и робко глядя на широкую долину. Даль застилало легкой дымкой, и казалось, что земля в этой дали, уходя к горизонту, становится все мягче и мягче. Ветряная мельница поблескивала крыльями, точно маленький гелиограф. Руфь и Уинфилд смотрели не отрываясь, и Руфь прошептала:
— Вот она — Калифорния.
Уинфилд повторил это слово по складам, беззвучно шевеля губами.
— Тут фрукты, — сказал он вслух.
Кэйси и дядя Джон, Конни и Роза Сарона спустились вниз. И они тоже стояли молча. Роза Сарона подняла руку пригладить волосы, увидела долину, и рука ее медленно опустилась.
Том сказал:
— А где ма? Я хочу, чтобы ма посмотрела. Ма, смотри! Иди сюда.
Мать медленно, с трудом перелезла через задний борт. Том взглянул на нее:
— Господи! Ты заболела, что ли?
Лицо у матери было одутловатое, серое, глаза глубоко запали, веки покраснели от бессонницы. Ее ноги коснулись земли, и она ухватилась за борт грузовика, чтобы не упасть.
Она проговорила хрипло:
— Значит, пустыню проехали?
Том показал на широкую долину:
— Смотри!
Она взглянула в ту сторону, и рот у нее чуть приоткрылся. Пальцы потянулись к горлу, захватили складочку мягкой кожи и чуть стиснули ее.
— Слава богу! — сказала она. — Приехала наша семья. — Колени у нее подогнулись, и она села на подножку.
— Заболела, ма?
— Нет, устала.
— Ты не спала ночь?
— Нет.
— Бабке было плохо?
Мать посмотрела на свои руки, лежащие у нее на коленях, как усталые любовники.
— Я хотела подождать, не говорить сразу. Чтобы не портить вам…
Отец сказал:
— Значит, бабка совсем плоха.
Мать подняла глаза и долгим взглядом обвела долину.
— Бабка умерла.
Они молча смотрели на нее, и наконец отец спросил:
— Когда?
— Еще до того, как нас остановили.
— Потому ты и не позволила осмотреть вещи?
— Я боялась, что мы застрянем в пустыне, — ответила мать. — Я сказала бабке, что поделать ничего нельзя. Семье надо проехать пустыню. Я сказала, я все ей сказала, когда она была уже при смерти. Нам нельзя было останавливаться посреди пустыни. У нас маленькие дети… Роза беременная. Я ей все сказала. — Она подняла руки с колен, на секунду закрыла лицо, потом тихо проговорила: — Ее надо похоронить там, где зелено, красиво. Чтобы кругом были деревья. Пусть хоть ляжет в землю в Калифорнии.
Все испуганно смотрели на мать, поражаясь ее силе.
Том сказал:
— Господи боже! И ты всю ночь лежала с ней рядом?
— Нам надо было переехать пустыню, — жалобно проговорила она.
Том шагнул к матери и хотел положить ей руку на плечо.
— Не трогай меня, — сказала она. — Я совладаю с собой, только не трогай. А то не выдержу.
Отец сказал:
— Надо ехать. Надо туда, вниз ехать.
Мать взглянула на него.
— Можно… можно я сяду в кабину? Я больше не могу там… я устала. Сил у меня нет.
Они снова взобрались на грузовик, отводя глаза от неподвижной длинной фигуры, закрытой, укутанной со всех сторон — укутанной даже с головой — одеялом. Они сели по местам, стараясь не смотреть на нее, не смотреть на приподнявшееся бугорком одеяло — это нос, на острый угол — это подбородок. Они старались не смотреть туда — и не могли. Руфь и Уинфилд, забравшиеся в передний угол, как можно дальше от мертвой, не сводили с нее глаз.
И Руфь сказала шепотом:
— Это бабка. Она теперь мертвая.
Уинфилд медленно кивнул.
— Она больше не дышит. Она совсем, совсем мертвая.
А Роза Сарона шепнула Конни:
— Она умирала… как раз когда мы…
— Кто же знал? — успокаивающе сказал Конни.
Эл залез наверх, уступив матери место в кабине. И Эл решил немного похорохориться, потому что ему было грустно. Он бухнулся рядом с Кэйси и дядей Джоном.
— Ну что ж, она уж старая была. Пора и на тот свет, — сказал Эл. — Помирать всем придется. — Кэйси и дядя Джон посмотрели на Эла пустыми глазами, точно это был куст, обретший вдруг дар слова. — Ведь правда? — не сдавался Эл. Но те двое отвели от него глаза, и он насупился и замолчал.
Кейси проговорил изумленно, точно не веря самому себе:
— Всю ночь… одна. — И добавил: — Джон! Такое у нее сердце, у этой женщины, что мне страшно становится. И страшно, и каким-то подлецом себе кажешься.
Джон спросил:
— А это не грех? Как, по-твоему, тут нет греха?
Кэйси удивленно взглянул на него.
— Грех? Никакого греха тут нет.
— А я что ни сделаю, так хоть немножко, а согрешу, — сказал Джон и посмотрел на длинное, закутанное с головой тело.
Том, мать и отец сели в кабину. Том отпустил тормоза и включил мотор. Тяжелая машина пошла под уклон, пофыркивая, подскакивая, сотрясаясь всем кузовом на ходу. Позади них было солнце, впереди — золотая и зеленая долина. Мать медленно повела головой.
— Красота какая! — сказала она. — Вот бы им посмотреть!
— Да, правда, — сказал отец.
Том похлопал ладонью по штурвалу.
— Уж очень они были старые, — сказал он. — Они бы ничего такого здесь не увидели. Дед стал бы вспоминать свою молодость, индейцев и прерии. А бабка — свой первый домик. Уж очень они были старые. Кто по-настоящему все увидит, так это Руфь и Уинфилд.
Отец сказал:
— Смотри, как наш Томми разговаривает, как большой, будто проповедь читает.
А мать грустно улыбнулась:
— Да… Томми стал большой, вырос… так вырос, что до него и не дотянешься.
Они спускались вниз, круто поворачивая, петляя вместе с шоссе, и то теряли долину из виду, то находили снова. Снизу до них долетало ее горячее дыхание с горячим запахом зелени, смолистым запахом гринделий. Вдоль шоссе трещали цикады. Том увидел впереди гремучую змею, наехал на нее, раздавил колесами и так и оставил корчиться посреди дороги.
Он сказал:
— Надо разыскать, где тут есть следователь. Надо, чтобы у бабки были приличные похороны. Па, сколько у нас осталось денег?
— Около сорока долларов, — ответил отец.
Том засмеялся.
— Здорово! Это для начала-то! Ни с чем приехали. — Он хмыкнул, и тут же лицо у него стало суровое. Он натянул козырек кепки на самые глаза. А грузовик спускался вниз под уклон, к широкой долине.
Глава девятнадцатая
Когда-то давно Калифорния принадлежала Мексике, а ее земли — мексиканцам; а потом в страну хлынула орда оборванных, не знающих покоя американцев. И так сильна была в них жажда земли, что они захватили эту землю — завладели землей Саттера, землей Герреро, захватили большие поместья, искромсали их, дрались каждый за свой кусок, рыча, как освирепевшие, изголодавшиеся звери, и охраняли захваченное с оружием в руках. Они построили там дома и сараи, они вспахали землю и засеяли ее. И стали считать себя хозяевами этой земли.
Мексиканцы были народ слабый и сытый. Они не могли отстаивать свои права, потому что не было для них в мире ничего такого, к чему можно тянуться с той жадностью, с какой тянулись к земле американцы.
И с годами скваттеры стали уже не скваттерами, а собственниками; и дети их выросли и народили детей на этой земле. И они утолили свой голод, звериный голод, сосущий, терзающий внутренности голод, утолить который могли только земля, вода, благодатное небо над этой землей, зеленые всходы, набухающие соками корни. Они владели всем этим в столь полной мере, что перестали что-либо видеть вокруг себя. Их уже не терзала тоска по акру плодородной земли и по блестящему на солнце плугу, по семенам и по ветряной мельнице, помахивающей крыльями. Они уже не вставали до зари, прислушиваясь к первому чириканью сонных птиц, не чувствовали на лице утреннего ветерка, не дожидались первых лучей, чтобы выйти на милое их сердцу поле. Все это отошло в прошлое; урожай исчислялся теперь долларами, земля оценивалась как основной капитал плюс проценты, урожаи покупались и продавались еще до посева. И теперь неурожайный год, засуха и наводнение стали для них не смертью, на какой-то срок обрывающей течение жизни, а всего лишь убытком. И деньги измельчили их любовь к земле, и их страсть каплю за каплей высушили проценты, и они стали теперь не фермерами, а мелкими лавочниками, торгующими урожаем, мелкими фабрикантами, которые продают прежде, чем производят. А потом неудачливым лавочникам пришлось распроститься со своей землей и уступить ее лавочникам более деловым. Как бы человек ни был разумен, как бы он ни любил землю и зеленые всходы, это не помогало ему уцелеть, если из него не получалось лавочника. И с годами землей завладели крупные дельцы; и участки становились все крупнее, но число их уменьшалось.
Теперь земледелие стало промышленностью, и собственники пошли по пути древнего Рима, хотя сами они не подозревали этого. Они ввозили рабов, хотя и не называли этих людей рабами: китайцев, японцев, мексиканцев, филиппинцев. Эти люди могут прожить на одном рисе и бобах, говорили крупные дельцы. Много ли таким надо? Платить им как следует? Да они не будут знать, на что тратить деньги. Вы посмотрите, как они живут. Вы посмотрите, что они едят. А если начнут привередничать — высылайте их отсюда немедленно.
Земельные участки росли и росли, число владельцев уменьшалось. А число фермеров, оставшихся на земле, стало просто жалким. Побои, страх и голод довели ввезенных рабов до того, что многие из них вернулись к себе на родину, другие отбились от рук, и их перестреляли или выгнали из страны.
И с этой земли стали собирать совсем другие урожаи: фруктовые деревья заняли место зерновых полей, и в низинах теперь росли овощи на потребу всему миру — салат, цветная капуста, артишоки, картофель, — все низкорослое, приземистое. С косой, с плугом, с вилами человек работает стоя, но ему приходится ползать, как букашке, между грядками салата, ему приходится гнуть спину и тащить за собой длинный мешок между грядками хлопчатника, ему приходится, точно кающемуся грешнику, становиться на колени перед цветной капустой.
И теперь хозяева уже не работали на своих фермах. Хозяйство велось на бумаге; хозяева забыли землю, — забыли как она пахнет, какая она на ощупь — и помнили только то, что они владеют ею, помнили только доходы и убытки, которые она приносит им. И некоторые фермы разрослись до таких размеров, что один человек уже не мог держать в голове все хозяйство; они разрослись до таких размеров, что здесь уже была нужна целая армия бухгалтеров, которые подсчитывали проценты, прибыли и убытки; химиков, которые исследовали почву и обогащали ее; управляющих, которые наблюдали за тем, чтобы люди, согнувшиеся в три погибели, двигались вдоль грядок так быстро, как только позволяли силы. И такой фермер на самом деле становился лавочником и открывал лавку. Он платил людям деньги и продавал им продукты — и получал свои деньги обратно. А в дальнейшем он уже переставал платить и тем самым экономил на ведении конторских книг. На этих фермах продукты отпускались в кредит. Человек работал и кормился; а когда работа кончалась, он обнаруживал, что задолжал компании. И владельцы не только перестали трудиться на своих фермах — многие из них даже никогда не видели, какие они, эти фермы.
А потом на Запад потянулся разоренный люд — из Канзаса, Оклахомы, Техаса, Нью-Мексико, из Невады и Арканзаса. Потянулись семьями, кланами, согнанные с мест пылью, трактором. Ехали в набитых битком машинах, целыми караванами — бездомные, голодные. Двадцать тысяч, и пятьдесят тысяч, и сто тысяч, и двести тысяч. Они двигались потоком через горы, голодные, беспокойные — беспокойные, как муравьи: спешили скорее дорваться до работы поднимать, носить тяжести, полоть, собирать, резать, — все что угодно, любое ярмо, лишь бы заработать на хлеб. Дети голодают. Нам негде жить. Бежали, как муравьи, спешили дорваться до работы, до хлеба, а больше всего — до земли.
Мы не какие-нибудь чужаки. У нас уже семь поколений родилось и выросло в Америке, а если копнуть поглубже, так там ирландцы, шотландцы, немцы, англичане. Один наш предок сражался за революцию, а сколько участвовало в гражданской войне — и с той, и с другой стороны. Мы американцы.
Они были голодные, злые. Они надеялись найти здесь дом, а нашли только ненависть. Оки… Хозяева ненавидели их, ибо хозяева знали, что Оки народ крепкий, а они сами слабосильные, что Оки изголодались, а они сами сыты по горло, и, может быть, хозяева слышали еще от своих прадедов, как легко захватить землю у слабосильного человека, если ты сам голоден, зол и у тебя оружие в руках. Хозяева ненавидели их. А в городах этих Оки ненавидели лавочники, ибо они знали, что Оки народ безденежный. Это самый верный способ заслужить презрение лавочника, ибо его симпатию вызывают как раз противоположные качества покупателя. Горожане, мелкие банкиры ненавидели Оки, потому что на них не наживешься. У этих Оки ничего нет. Рабочие на фермах тоже ненавидели Оки, потому что голодный человек должен работать, а если он должен работать, не может не работать, значит наниматель автоматически снижает плату, и тогда на более высокую уже никто не сможет рассчитывать.
И разоренные фермеры, кочевники, нескончаемым потоком тянулись в Калифорнию — двести пятьдесят тысяч, триста тысяч. Там, позади, новые тракторы распахивали землю и сгоняли с нее арендаторов. И новые волны выплескивались на дороги, новые волны разоренного, бездомного люда, ожесточившегося и опасного в своей ожесточенности.
Калифорнийцы много чего требовали от жизни — накопления капитала, успеха в обществе, удовольствий, роскоши, надежного помещения денег; а новые варвары требовали от нее только две вещи — землю и хлеб; и для них эти две вещи сливались в одну. И тогда как требования калифорнийцев были туманны и неопределенны, требования Оки отличались реальностью: все то, к чему они стремились, лежало тут же у дороги, дразня глаз, разжигая зависть. Плодородные поля — здесь можно рыть колодцы, — плодородные зеленые поля; земля — ее можно взять и раскрошить пальцами; трава — запах ее можно вдохнуть; стебли овса — их только пожуешь немного — и почувствуешь в горле терпкую сладость. Человек смотрел на невозделанную землю и знал, и видел мысленно, что гнуть спину и напрягать мускулы здесь можно недаром; здесь вырастет капуста и золотистая сахарная кукуруза, брюква и морковь.
Бездомный, голодный человек ехал по дороге — рядом с ним его жена, на заднем сиденье исхудалые дети — и смотрел на невозделанные поля, которые могли бы дать не прибыли, а пищу. И он знал, что невозделанное поле — грех, незасеянная земля — преступление против его исхудалых детей. И когда такой человек проезжал по дороге, поля для него были соблазном, и он отдал бы все, чтобы засеять их, — ведь его дети почерпнут здесь силу, жена обретет покой. Соблазн всегда стоял перед глазами. Поля искушали его, и оросительные канавы с чистой проточной водой — это тоже было искушение.
А на юге он видел золотые апельсины на деревьях, маленькие золотые апельсины в темной зелени деревьев; и вооруженную охрану, которая была поставлена в садах, чтобы человек не мог сорвать апельсин для своего исхудалого ребенка. Апельсины пойдут на свалку, если цена на них упадет.
Он въезжал на своей старой машине в город. Он рыскал по фермам в поисках работы. Где здесь можно переночевать?
А вон у реки, в Гувервиле[1]. Там Оки полным-полно.
Он подъезжал на своей старой машине к Гувервилю и потом уж не спрашивал, где заночевать, потому что на окраине каждого города был свой Гувервиль.
Ветошный поселок — скопление рухляди — обычно возникал у воды. Вместо домов здесь были палатки, шалаши, лачуги из картонных коробок. Человек ввозил семью в этот поселок и становился гражданином Гувервиля, — они все назывались гувервилями. Человек разбивал палатку как можно ближе к воде; а если палатки у него не было, он шел на городскую свалку, приносил оттуда гофрированный картон и строил из него жилье. А когда лил дождь, это жилье размокало и его уносило водой. Человек обосновывался в Гувервиле и рыскал по окрестностям в поисках работы, и те немногие деньги, которые у него оставались, уходили на бензин для разъездов. По вечерам мужчины сходились и вели беседы. Сидя на корточках, они говорили о земле, которую видели вдоль дорог.
Вон там, дальше на запад, тридцать тысяч акров. Лежит себе незасеянная. Эх! Что бы я сделал с такой землей — с какими-нибудь пятью акрами такой земли. Да у меня было бы все что хочешь.
А ты заметил? На фермах ни овощей не сажают, ни свиней не держат, ни кур. У них всегда что-нибудь одно — хлопок, или, скажем, персики, или салат. А в другом месте — одни куры. Все остальное покупают, а ведь могли бы тут же, у себя на огороде, вырастить.
Эх! Мне бы парочку свиней!
Попусту заришься. Это все не твое и твоим никогда не будет.
Что же дальше? Разве так можно растить детей?
В лагерях шепотом передавали друг другу вести. В Шефтере будет работа. И машины грузились среди ночи, на дороге не протолкнешься — погоня за работой, как золотая лихорадка. В Шефтер съезжались толпы народа, ровно в пять раз больше, чем требовалось. Погоня за работой, как золотая лихорадка. Они уезжали ночью, тайком, обуреваемые жаждой дорваться до работы.
А вдоль дороги — соблазны — поля, которые могут дать хлеб.
Тут на все свой хозяин. Это не наше.
Может, все-таки удастся получить хоть небольшой участок? Ну хоть самый маленький. Вон тот клочок. Там сейчас один бурьян. Эх! Я бы с этого клочка столько картофеля снял — хватило бы на всю семью.
Это все не наше. Бурьян? Пусть растет бурьян.
Время от времени кто-нибудь, не удержавшись, выбирал украдкой местечко и расчищал его, пытаясь по-воровски отнять у земли немного от ее богатств. Потайные огороды, прячущиеся среди зарослей бурьяна. Пакетик морковных семян и щепотка брюквенных. Сажали картофельные очистки, по вечерам тайком пробирались туда мотыжить краденую землю.
Оставь бурьян по краям — тогда никто не увидит, что мы тут делаем. И в середине тоже оставь, вон там, где повыше.
По вечерам тайком работали на огороде, носили воду в ржавой жестянке.
И в один прекрасный день — шериф: ты что здесь копаешься?
Я ничего плохого не делаю.