Знамение змиево Дворецкая Елизавета
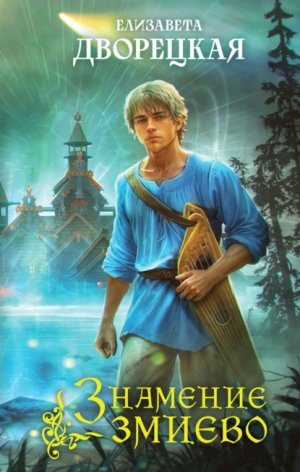
Внутри Власьева церковь тоже не могла соперничать с новгородскими: икон совсем мало, оклады старого серебра, стены простые бревенчатые, ни росписи, ни, конечно, мрамора. Алтарная занавесь, покровы и одеяния служителей были бедны и весьма стары. Только тябло[11], трудами местных умельцев украшенное резьбой в виде солнечных колёс, плетёнок, ростков и цветков, не выглядело так уж убого. Но и то – в резьбе столпов Вояте поначалу мерещились идольские лица. А всмотришься – просто угловатые узлы плетёнки.
Воята думал, что местный священник сам озабочен остатками поганских обычаев и обрадуется грамотному человеку, выросшему близ епископского престола. Но очень быстро понял: отец Касьян предпочёл бы, чтобы он там и оставался. Местный уроженец, он не хотел здесь чужих людей, если не посягающих на его власть, то к ней причастных. Не доверял чужаку.
И вот оказывается, что во Власьевой церкви был целый Апостол! Сам отец Касьян ни о нём, ни о Псалтири даже не упомянул ни разу…
– Он, отец Ерон ваш, давно помер? – начал Воята расспрашивать бабу Параскеву.
– Да уж лет… – Та задумалась и посмотрела на Ваволю. – Двадцать с лишним.
– Он меня крестил – совсем старый был, я его и не помню, – подтвердила та.
– А после него стал отец Горгоний?
– Нет, после Ерона был отец Македон. Лет пятнадцать он пел у нас тут, и Диодотушка мой при нём служил.
– От старца Панфирия, говорят старые люди, много книг осталось, – вставила Ваволя.
В её взгляде, устремлённом на Вояту, появилась некая новая подобострастность. Ещё вчера она так не смотрела. Правда, вчера она ещё рыдала по своему младенцу. Разродилась она в те самые дни, как Воята приехал с боярским обозом в Сумежье, и первые несколько дней баба Параскева всё у неё пропадала. Потом же Ваволя через день приходила к бабе Параскеве пожаловаться на жизнь, а на нового молодого парамонаря внимания обращала мало. Теперь же он, окрестив душу её помершего младенца, разом вырос в её глазах, и она с явным почтением взирала на парня лет на пять моложе себя. «Вот что значит человек учёный!» – читалось в её бледно-голубых, как незабудки в дождливую пору, глазах. Вояте стало неловко. Будучи парнем храбрым и решительным там, где могла грозить опасность или светила драка, он не был тщеславен и не привык, чтобы на него взирали с почтением.
– Много книг?
Воята удивился ещё и тому, что Ваволя об этом заговорила – уж она-то из тех, кто книгу видел вблизи только на своём венчании.
– Это же всё его книги, – пояснила та, как будто передаёт всем известное. – Евангелие, Апостол, Псалтирь. Из города Корсуни они вывезены князем Владимиром или Анной-царицей. Были те книги ценности несказанной – золотом и багрецом писаны, красками разными изукрашены, оклады в золоте и камнях самоцветных. Держал их старец Панфирий в пещерке своей, где жил. А как пришла пора ему помирать, призвал он к себе отца Платона, велел ему быть попом у Святого Власия, и те книги ему передал.
– И куда же они делись? – Воята посмотрел на бабу Параскеву, воодушевлённый мыслью о таких сокровищах, которые должны быть где-то тут, рядом!
– Чтобы Псалтирь… – стала припоминать баба Параскева, возведя глаза к матице, – не скажу, чтобы когда видела её. У отца Македона не было… У отца Илиана… не припомню, я тогда сама девкой была, чтобы мне до книг?
– Это было сколько лет назад?
– Отец Горгоний пел у нас семь лет, отец Македон – пятнадцать лет, отец Ерон – двадцать три года. Отец Илиан, стало быть, преставился…
Баба Параскева вопросительно посмотрела на Вояту, и тот быстро подсчитал в уме:
– Сорок пять лет назад.
– Вот, сорок пять. Это у Македоновой дочери спросить надобно, что у него было из книг. А вот Псалтирь у отца Ерона верно, была, это я помню. Да куда делась…
– Про Апостол отец Касьян ведает, – подсказала Ваволя. – Ты сама говорила: он ради того Апостола и женился, оттого что в нём сила особая заключена.
– Что? – Воята воззрился на Ваволю и даже привстал на скамье.
– Да это я так, болтала по закону бабьему. – Параскева слегка нахмурилась. – Не слушай, сынок.
– На ком отец Касьян женился?
– Да на Еленке же. У отца Македона она была единственная дочь. По всей волости считалась первая невеста…
Воята ещё подумал, пытаясь собрать в голове всё ему известное. Потом повернулся к Ваволе:
– Так если единственная, у кого ж теперь спросишь?
– У неё, – невинно ответила Ваволя. – У Еленки.
– Так она умерла! Я, думаешь, с покойниками разговаривать умею? Такому делу богопротивному не учили меня!
Ваволя фыркнула, зажав рот кулаком, и воровато посмотрела на Параскеву.
– Да жива она! – с недовольством ответила старуха.
– Отца Касьянова жена жива?
– Ну да. В Пестах она сидит, на старом дедовом дворе.
– Да как же… – Воята слегка опешил. – Я думал, она умерла… Отец Касьян вроде говорил…
Он попытался вспомнить, что ему об этом говорил отец Касьян, но не смог. А вернее, тот ничего и не говорил толком. Приехав в Сумежье, Воята обнаружил, что священник Святого Власия, к кому его прислали в помощь, сидит на поповском дворе один, а по хозяйству ему помогает старуха Ираида, но не живёт у него, и решил, разумеется, что отец Касьян вдов.
С первого взгляда было ясно, что батюшка до праздной болтовни не охотник. Рослый, плечистый, с тёмными длинными волосами, тот имел угрюмый и замкнутый вид. Сросшиеся чёрные брови, резкие черты лица, тёмные глаза и плотно сжатые губы в густой чёрной бороде. Во всей внешности его было нечто тяжёлое и мрачное, будто его вырезали из тёмного камня, и земля всё время тянет его назад к себе. Одним видом отец Касьян внушал робость, и Воята, парень довольно общительный, перед ним смущался и без особой нужды не беспокоил. Видя, что отец Касьян путается в службе, поправлять не смел. Где уж любопытствовать, куда жена делась! Ему-то что за печаль?
– Я думал, он вдовец, оттого и смурной такой, – сказал Воята Параскеве. – А что же она?
– Сбежала она от него, – неохотно пояснила старуха. – Давным-давно, лет десять уже или больше. То дело тёмное и не нашего ума. Не спрашивай его.
– Сбежала?
Воята был потрясён. В большом городе чего только не услышишь, он знал, что иные жёнки беспутные сбегают от мужей, но чтобы такое непотребство случилось в поповском дому!
– Она что… блудливая какая была?
– Да нет. – Баба Параскева чуть ли не обиделась. – Не блудливая она. Такого за нею не замечали. Одна сидит. Он-то к ней… зла не держит, припасами помогает. А вот она…
Было видно, что углубляться в это, при всей бабьей любви судить о чужих делах, у Параскевы охоты нет.
– Ну, бог с нею. Книги-то где? У отца Македона, выходит, был Апостол?
– Был. – Когда разговор вернулся к книгам, лицо бабы Параскевы слегка прояснилось. – У отца Македона был, и он говорил, что отдаст его тому, кто вслед за ним станет у Власия петь и дочь его в жёны возьмёт. Да и Апостола я не видела… – Она воззрилась на Ваволю, надеясь, что вид молодой бабёнки наведёт её на память, хотя та сама помочь тут не могла. – Да с самой его смерти и не видела… Как отец Горгоний начал у нас петь… не было у него других книг, кроме Евангелия. Только Еленка, может, знает. Но я не спрашивала, мне-то что…
– В Пестах, говоришь, сидит она? – в задумчивости повторил Воята.
Если бы достать тот Апостол! Всякая святая книга стала бы для здешнего прихода сокровищем, а тем более – от старца Панфирия, что и принёс в Великославльскую волость Божье слово. Но уместно ли искать его у поповой беглой жены? Хотел бы отец Касьян – сам бы и забрал. А если он не хочет, то чужому парню лезть к той бабе никак не годится.
– Ну, ступай, Вава, – поглядев на него, велела гостье баба Параскева. – А то Павша тебя искать станет, чего худое подумает.
– Будьте здоровы! – Ваволя встала и поклонилась. – И впрямь пойду. Полотно занесу на днях.
Она удалилась; Воята только кивнул ей на прощание. Мысли его вращались возле другой, неведомой бабы, зачем-то державшей у себя старинную книгу.
– Может, пойти бы разведать… – рассуждая вслух, он вопросительно посмотрел на хозяйку. – Правда ли у неё книга… или уже избыла, может, куда?
– Ты, яхонт мой, не лезь в это дело! – уверенно посоветовала баба Параскева. – Держись-ка от этих дел подальше – целее будешь. Своей лучше бабой обзаведись, о ней и думай!
Если баба Параскева намеревалась этим советом смутить поповича и заставить прервать разговор, то своей цели добилась.
Выехав из Сумежья, Воята почти сразу догнал Меркушку. Поначалу Воята знал в Сумежье только Параскевиных зятьёв да Трофима-тиуна – тоже новгородца родом, – но за пару месяцев перезнакомился со всем населением Погостища и частью жителей посада. Меркушка – рослый, худой, с вытянутым лицом и жидкой рыжеватой бородёнкой, был лет на десять старше Вояты и отличался разговорчивостью.
– Дороженька скатертью! – приветствовал он Вояту. – Куда путь держишь, попович?
– И тебе дай Бог добра! – Воята придержал лошадь. – Да вот, отец Касьян в Песты послал, жито отвезти. – Он кивнул на два мешка в телеге. – Жёнке одной…
– В Песты? – Меркушка обрадовался. – А не подвезёшь ли? Мне полпути с тобою, у путика[12] на Жабны сойду.
– Да полезай.
Меркушка бросил в телегу короб и забрался сам.
– На бобра ловушки буду ставить, – пояснил он, когда телега снова тронулась, а сам он уселся рядом с Воятой. – Бобра этого на Болотицком ручье нынче пропасть. А ты к Еленке же едешь?
– Сказал отец Касьян, спросить Елену Македоновну, – подтвердил Воята. – Ему, сказал, недосуг…
Сам бы он не решился расспрашивать отца Касьяна о его беглой жене, но тот сам вчера, окончив службу, подозвал Вояту.
«Завтра поутру бери ржи два мешка, что из Мокреди мужики привезли, запрягай Соловейку и вези в Песты, – велел отец Касьян. – Спросишь, где живёт Елена, попа Македона дочь, ей отдашь. А я в Ярилино наведаюсь, в часовню, мне недосуг разъезжать…»
Отвернулся и ушёл. Вороной конь, лучший из двух, уже был осёдлан, и священник тут же и отбыл. Воята был даже рад: его взволновало это поручение, так отвечавшее его тайным желаниям, а пристальный взгляд тёмных глаз отца Касьяна видел, казалось, всю душу и все помыслы насквозь.
– Недосуг ему! – Меркушка хмыкнул. – Это он видеть её не желает. Или она его.
– Она же правда… его жена? – решился спросить Воята.
– А как же! Она красавица была, Елена Македоновна-то! Я-то ей был не жених, ещё в отроках ходил, а она из всех девок на игрищах у озера была первая коловода![13] Старый поп ей и платья цветного надарил, и бус всяких! Из Новгорода нарочно купцам наказывал привозить. Да жениха-то у неё было два… – Меркушка глянул на Вояту весёлыми серыми глазами и подмигнул. – И по сердцу ей вроде другой приходился. Да…
– Что – да? – несколько сердито повторил Воята: ему было и стыдно, что слушает давние сплетни, и казалось важным хоть что-то узнать о той женщине, к которой он ехал.
– Да сгинул тот второй, будто в воду! И досталась она Касьяну. Только жили они худо с самой свадьбы… Говорили так, а отчего худо – того я не ведаю. А потом, лет уж десять тому или больше, сбежала Еленка из дому и в Пестах поселилась. Дед её, Ульян, помер, двор пустой остался, вот она туда и села. Отец Касьян сперва всё ходил, вернуться просил, да не пожелала она. Может, застала его с кем…
Меркушка прикрыл рот рукой и воровато оглянулся, хотя ехали они через лес и подслушать их было некому, кроме белок и сорок. Воята покачал головой: на охотника бегать за бабами отец Касьян ничуть не походил. Он и на людей-то не смотрит, будто они ему противны все до одного.
– Ты скажи лучше, правда ли, что у той Еленки от отца книга Божественная осталась? – решился он спросить о том, что занимало его мысли.
– Книга? – Меркушка удивился. – Вот уж чего не знаю. Зачем ей книга-то? Если осталось что от отца Македона, то у отца Касьяна, не у неё. Она-то в церкви не поёт!
И то правда, мысленно согласился Воята. Некоторое время они ехали молча. Издали донёсся волчий вой, и Меркушка приподнял голову, вслушиваясь.
– Это где-то у Видомли, – определил он. – Дядька Нежил сказывал, выводок там… Ну, придержи, тут сойду!
– Ступай с Богом. – Воята придержал лошадь, и Меркушка достал из телеги свой короб с ловушками. – Черна бобра в лукошко!
Меркушка хмыкнул в ответ на это пожелание и будто нырнул в заросли, куда уводила узкая тропа; Воята не успел и глянуть ему вслед, как его заслонили еловые стволы.
Песты были деревней из полутора десятка дворов, лежащей на небольших пригорках; один двор карабкался на гребень, другой уже его одолел и осторожно сползал с той стороны, и все они опасливо косились в заводь Болотицы, густо заросшую камышом. В двух-трёх местах камыш был срезан, в чистую воду протянулись мостки, вокруг них плавали утки и гуси, совали головы в воду, отлавливая жучков среди плавающих жёлтых листьев. Какая-то баба гордо шествовала по улице, ведя за собой двух белых коз – с таким видом, будто взяла их в полон.
– Бог помочь! – окликнул её Воята. – Где тут живёт Елена, попа Македона дочь?
Баба оглянулась на него, широко раскрыла глаза и молча махнула рукой куда-то вдоль деревни. Поблагодарив, Воята проехал, а она всё не сводила с него изумлённых глаз, будто здесь катался сам Змий Горыныч о трёх головах. Воята сюда наведался в первый раз. Каждое второе воскресенье отец Касьян ездил петь к Николе в Марогощи, вторую в волости церковь, и брал с собой парамонаря, но туда ехать на полудень, через Видомлю.
Перевалив горушку, Воята увидел ещё несколько дворов, широко разбросанных по обе стороны от дороги. Огляделся, но больше никого из людей рядом не приметил.
– Ну и куда мне дальше? – спросил он у лошади за неимением других советчиков.
– Вон туда, милок, – раздался рядом приветливый голос.
Вздрогнув от неожиданности – не Соловейка же отвечает! – Воята обернулся. Неподалёку стояла, обеими руками опираясь на палочку, старушка в беленьком платочке, сухонькая и маленькая, но по виду бойкая.
– Вон там Ульянов двор. – Старушка показала рукой. – Где ветла с дуплом и загородка покосилась.
– Спасибо, мати. – Воята кивнул в благодарность, хотя и удивился, откуда эта бабка тут взялась. Вроде он её не обгонял…
Ульянов двор возле старой ветлы показывал признаки запустения: жердевая ограда вся перекосилась, двор был закидан грязной соломой и козьими орешками, везде торчала жухлая злая крапива, в углу догнивали давно заброшенные сани. Однако на жердях торчали горшки, сушилось какое-то тряпьё, намекая, что изба обитаема. Оставив телегу у ворот, Воята огляделся, не будет ли пса, но из живности нашёл лишь несколько кур, гуляющих перед хлевом. Вокруг колоды были рассыпаны ошмётки щепок, сухих веток и коры, возле тощей поленницы свалено несколько охапок сушняка. Во всём видна была слабость хозяйской руки. Воята ожидал увидеть старуху, и, когда из-за угла хлева вышла женщина средних лет, подумал, что это соседка.
– Помогай Бог!
Женщина взглянула на него – и Воята вздрогнул от неожиданности, встретив взгляд необычайно ясных голубых глаз. Не яркие – светло-голубые, мягкие, – они светились, как летнее небо под первым утренним лучом. И годов ей было немало, и лицо потемнело от обычного для крестьянок загара, но сияние этих глаз проливалась в душу, будто благодать.
– И ты… – в удивлении начала женщина, окидывая Вояту взглядом с ног до головы, – бывай здоров.
– Как бы мне Елену повидать, попа Македона дочь? – пробормотал Воята, уже догадавшись, что она перед ним.
– Это я, – так же удивлённо ответила женщина: не ждала, что её не узнают на собственном дворе. – Ты кто такой?
– Парамонарь я новый, в Сумежье прислан от Нежаты Нездинича и владыки Мартирия. Звать меня Воята.
– Парамонарь? – Женщина недоверчиво взглянула ему в лицо. – Больно ты молод…
– Лет мне уже двадцать, а грамоте я обучен сызмальства, батюшке моему, попу Тимофею у Святой Богородицы в Людином конце, помогал уж лет восемь. Прислал меня владыка в помощь отцу Касьяну.
– А! – Женщина слегка вздрогнула и опустила глаза.
Вояте показалось, что это упоминание об отце Касьяне так на неё подействовало – угасило то небольшое оживление, вызванное удивлением. Хозяйка была замотана в платок по самые глаза и голову держала как-то наискось, не глядя на гостя. От этого Воята терялся, и всё хотелось ещё раз встретить этот ясный взгляд.
– Ко мне почто? – так холодно спросила она, будто перед ней стоял сам отец Касьян.
– Жито батюшка прислал. Два мешка у меня в телеге. Покажи, куда снести?
– Пойдём.
Хозяйка направилась к покосившейся клети, знаком велев Вояте идти за ней.
– Сюда. – Она показала в сусек, давно уже пустой. – Погоди, вымету.
Пока Воята переносил мешки, она подмела в сусеке пыль, сор и мышиное дерьмо. Ожидая, пока она закончит, он так и этак прикидывал, как бы завязать нужный разговор; не так чтобы он боялся девок или женщин, но перед таким явным нежеланием вести беседу любые попытки были бы грубыми.
Пересыпая зерно в сусек, он подумал: может, пригласит в дом? Время обеденное, от Сумежья тут не ближний путь… Но, когда мешки освободились, хозяйка не сказала ни слова и явно ждала, что он уберётся восвояси.
– А вот что ещё… – в тайном отчаянии начал Воята, поняв, что иной помощи, кроме собственной, ему не дождаться. – Слыхал я от людей… будто у тебя от отца твоего осталась книга Божественная… Апостол… от старца Панфирия…
Женщина молчала, но теперь в её молчании слышалась враждебность.
– Правда ли? – довольно беспомощно закончил Воята, с трудом подняв на неё глаза.
Сейчас она скажет «неправда», и конец беседе.
– Это что же, – Еленка скрестила руки на груди, – тебе отец Касьян велел про книгу выспросить?
– Н-нет… – Воята в полном смущении опустил глаза.
Скажи он «да» – это не поможет делу, ведь хозяйка не настроена идти навстречу мужу; но и «нет» не улучшало дела – с какой стати он суётся к чужому наследству? Да ещё и совсем новый человек в этих краях?
– Я сам… – добавил он, чувствуя, что окончательно тонет. – Прислал меня владыка Мартирий в церкви читать, а читать-то нечего! Одно Евангелие у отца Касьяна. А от старца Панфирия, слышно, остались хорошие книги – и Псалтирь, и Апостол. Их бы в церковь… Да есть ли те книги… или сказки одни?
Еленка ещё помолчала, оглядывая его; Воята чувствовал её взгляд, хотя сам на неё взглянуть не смел. Даже куры, казалось, из открытой двери во двор поглядывали на него, невежду, с осуждением.
– Нет у меня никаких книг, – медленно ответила Еленка. – Никаких. Так и передай.
– Кому? – Воята удивлённо взглянул на неё.
– Знаешь кому.
– Да я не…
Но Елена, больше не слушая, мимо него прошла к двери и исчезла. Скатертью вам дорога, как говорится.
На обратном пути испортилась погода: натянуло тучи, подул сильный ветер. Настоящего дождя пока не было, но ветром несло капли мороси, и Воята, поглядывая с недовольством на тёмную тучу впереди, натянул шапку поглубже на уши. Случится дождь – придётся мешками из-под ржи укрываться.
Незадача с беседой тоже не добавляла бодрости. Хозяйку он толком не разглядел и не понял, что она за человек – она будто отталкивала взгляд, не давала приглядеться. Она ли виновата, что в семье разлад? Коли жёнка сбежит, это ей чести не сделает, какова бы ни была причина, и Еленка, видно, знает это, стыдится. Но уже много лет живёт одна, не поддаётся на уговоры мужа и косые взгляды людей. Причины этой Воята знать не мог, но одно по лицу Еленки понял: не по легкоумию она, попова дочь, так поступает.
«Она красавица была, Елена Македоновна-то!» – говорил Меркушка. Красоты Воята не увидел, но те глаза… Неудивительно, что отец Касьян хочет её воротить – он-то помнит, какой она была лет двадцать назад. Не могла женщина с такими глазами ничего беспутного сотворить!
Когда въехал в лес, непогода разгулялась ещё сильнее: вихрь качал вершины деревьев, гудел и завывал. Раздавался треск ветвей. Раз позади возник такой грохот, что Воята оглянулся: старая ель медленно падала наискось через дорогу, с протяжным треском и воем разламываясь, цепляясь лапами за ближние деревья, будто надеясь задержать падение. Воята перекрестился, благодарно взглянув в небо. Замешкай он чуть-чуть – ель упала бы на него, на телегу, на лошадь. Могла бы насмерть задавить. Да и впереди рухнула бы – как бы он проехал? Вокруг через заросли с телегой не пробраться, да и отволочь с дороги ствол, весь в ветках, даже при его силе было бы едва ли возможно. И топора не прихватил, дубина…
Воята ещё размышлял об этом, когда лошадь вдруг дёрнулась и попятилась – испугалась чего-то. Придерживая её, Воята глянул вперёд.
Посреди дороги валялся плетёный берестяной короб. Остановив лошадь, Воята огляделся, но ничего больше не увидел. При виде короба ему вспомнился виденный утром на этой дороге Меркушка, но Меркушкин это короб или нет, так сразу Воята сказать не мог. Скорее тот – грибы и орехи давно сошли, народ с коробами в лес не ходит.
Соскочив с телеги, Воята подошёл к коробу и огляделся. Хотел позвать – и тут увидел ногу, торчащую из куста.
Первым чувством было изумление. Если это Меркушка – Воята думал о нём, поскольку других людей в этот день в лесу не встречал, – то с чего бы ему ложиться в куст? Пьян не был – не с бобрами же на Болотице пил!
– Эй! – окликнул Воята. – Кто там?
До ума дошло: неладно дело. Меркушка там или нет, а в эту пору никто просто так на землю не приляжет.
Воята подошёл осторожно и заглянул в куст. Всё тело было там, но густые ветки сильно дрожали под ветром и не давали ничего разглядеть. Ещё раз окликнул в последней надежде. Раздвинул куст… стала видна кровь на палых листьях.
Меркушка лежал на спине, раскинув руки. Вместо горла и верхней части груди была зияющая кровавая рана, лицо в крови, глаза выпучены.
Воята отшатнулся, схватился за собственное горло. Стал судорожно сглатывать, борясь с тошнотой. Отойдя в сторону, крестился и глубоко дышал, стараясь прийти в себя. От ужаса пересохло в горле. Огляделся – никого не увидел, но шум ветра в лесу, дрожь и качание ветвей не давали понять, есть ли кто поблизости. И позвать тут некого, только сороки скачут по веткам.
Некоторое время простоял, привалившись к толстой ели и стараясь унять гул в голове. Меркушка мёртв – уж это верно. Дикий зверь… волк?
Скрепя сердце, Воята взял тело за ноги и выволок из куста. Или медведь постарался? Но медведь сразу сожрал бы половину, а остатки прикопал бы под листья и валежник. Меркушка был загрызен, но если и съеден, то на небольшую часть… Но ведь ещё не зима! Звери от людей подальше держатся. Не мог же он сам напасть на хищного зверя – с пустыми руками?
И что теперь делать? Несмотря на холод и морось, Воята стащил шапку и вытер вспотевший лоб. Оставить тело здесь и привести людей из Сумежья или самому везти в погост? Делать этого не хотелось – хорош будет новый парамонарь, ввалившись в погост с мёртвым телом здешнего жителя! Но день на исходе. Пока доедешь до Сумежья, пока соберёшь людей да опять сюда прибудешь – стемнеет, да и дождь того гляди польёт. Искать труднее в темноте… особенно мертвеца. А если зверь вернётся? Если тот медведь где-то рядом… Воята содрогнулся и живо глянул по сторонам. Уйдёшь – а тот уволочёт добычу, так что потом и хоронить нечего будет.
Воята привязал лошадь к стволу, чтобы не пятилась от мёртвого тела, взял бедолагу Меркушку на руки, положил в телегу и накрыл пустыми мешками. Голова у трупа так болталась, будто сейчас оторвётся: зверь вырвал из шеи половину всей плоти. Туда же в телегу Воята забросил лёгкий короб – ловушки, надо думать, бедняга поставить успел, и зверь на него накинулся на возвратном пути.
– Ох, зря ты, парень, с места его стронул! – сказал ошарашенный Павша; как ближайший сосед, он первым успел на двор к бабе Параскеве. – Таких дурных мертвяков там и погребают, где сыскали. На жальнике не место им – земля их не принимает, могила не держит. Так и будут лежать они без тления, а тень по свету бродить. И куда ни отнесёшь его, всё равно будет на старое место приходить, где умер, и так семь лет.
– Это ты, Павша, с самоубийцами путаешь, – возра-зила Параскева. Она тоже немного переменилась в лице, побледнела, но держалась храбро, не вопя. – А тех, кто зверем уяден, в особом месте хоронят, но не там, где взяли.
– Я сам «Мертвенный канон»-то помню, – ответил им хмурый Воята. Они втроём стояли на дворе у Параскевы возле телеги, пока люди бегали к Меркушкиным домашним и за старостой. – Так владыка Мартирий велит: поминки по тем творить и на кладбище погребать нельзя, кто сам удавится, или зарежется, или с качели убьётся, или в воде шаля, утонет, или ещё какую смерть сам своими руками над собою учинит. Или ещё кто на разбое или воровстве каком убит будет, тех мертвяков у церкви Божией не погребать и над ними отпевать не велеть, а велеть их класть в лесу или на поле. Но тут не сам человек жизнь свою покончил, а уяден зверем, и читать по нему можно, хоть не в церкви, а дома.
– Читать! – Баба Параскева всплеснула ладошками. – Кто же будет по нём читать…
Но тут во двор вбежала Еликонида – Меркушкина баба, и разговор потонул в воплях и причитаниях.
Тело унесли в баню, во дворе у Параскевы собиралось всё больше народу. Для каждого пришедшего Вояте приходилось заново рассказывать, как он утром встретился с Меркушкой, как подвёз его и как потом нашёл.
Собираясь кучками, сумежане толковали между собой и тревожно оглядывались; то и дело косились на Вояту. Однако, как ему показалось, народ был больше напуган, чем удивлён.
– Что они так смотрят на меня? – в досаде спросил он у Павши. – Или думают, я сам его порвал?
– Э, да что ты! – Павша махнул рукой. – Это нам от Бога казнь такая положена.
– Что? – Воята пришёл в изумление. – От Бога? Какая казнь?
– В год по человеку… Осенесь[14] из Видомли одного мужика так вот порвало. А третьего лета – бабку одну из Овинов. Это так вот оно… водится.
– За что же вам такая казнь?
– А за то… – с важностью начал Павша, но сам себя прервал. – Что в месте таком живём… нехорошем.
– Чем же оно нехорошо?
– Поживёшь у нас поболее – узнаешь.
– Да что же вы облаву не сделаете, коли у вас так волки шалят? Собрались бы все мужики да и постреляли тех волков…
– Говорю же тебе – казнь нам такая. А стрелами того волка не возьмёшь. Не такой этот волк. Он уж двести лет в лесах наших ходит.
– Двести лет? – Воята совсем перестал понимать, о чём речь. – Что ты мне за сказки рассказываешь, дядька? Не живут волки двести лет.
– А этот и вовсе не живёт, – загадочно ответил Павша. – Оттого и не умирает.
Судя по Павшиному лицу, объясниться толковее тот не был настроен, и Воята решил расспросить лучше бабу Параскеву. А во дворе тем временем разгорался спор.
– Нельзя такого человека на жальник нести! – твердил дед Овсей. – Не примет земля, обидится, будут у нас летом бездожжие, а весной заморозки, и придёт голод на семь лет!
– Не пугай народ, Овсейка! – возражал ему Арсентий, староста. – Это если кто сам себя сгубит. Меркушка не сам же зарезался или удавился.
– Бросить его в озеро Дивное, да и всё! Иначе не видать нам хлеба семь лет!
– Нет, это уж никак нельзя! – возмутился Воята. – Такого дела безбожного и беззаконного нельзя допустить – человека без погребения оставить.
– Приедет отец Касьян, как он решит, так и будет, – сказал Арсентий. – Да только… Судьшу из Видомли в Лихом логу положили, как бы и с Меркушкой не велел отец Касьян того же сотворить…
– А что это за Лихой лог?
– Да есть у нас там… – Арсентий кивнул на восток, – место одно. Там кладут тех мертвяков, кого нельзя в земле хоронить. Кто утонет, или сгорит, или с дерева свалится. Бабка моя рассказывала, когда-то давно, ещё при Панфирии, там в первый раз нашли мужика, кого озёрный бес порвал, на месте и оставили. С тех пор всех свозят…
– Озорной бес? – Воята не расслышал.
– Озёрный.
– Оно обычно как – если помрёт человек своей смертью, то идёт, куда ему положено: либо в рай, либо к чертям в пекло, – добавил другой старик, Савва. – А кто дурной смертью помер, век свой не доживши, тот на небо не идёт, а ходит себе по земле. Так и ходит, пока час его не придёт. Вот и надо так их упрятывать, чтобы ходить им было несподручно.
– Ноги отрубить, – вставил кто-то из толпы.
– В воду метнуть! – добавил ещё кто-то.
– У вас в Новгороде, видно, нету таких. – Дед Овсей посмотрел на Вояту. – Вот вам и невдомёк.
– Даже если бы человек сам себя жизни лишил, владыка Мартирий не дал бы его в воду или в овраг бросать! – Понимая, что он тут моложе всех и к тому же чужой, Воята всё же не мог смолчать. – Владыка и самоубийц велит хоронить – не при церкви, а в поле, но всё же в землю.
– А вот оттого у вас и мор был, и скудельницы полные покойников наклали! – Дед Овсей погрозил пальцем. – У нас такого не водится – землю гневить. На всё свой порядок есть.
– Как отец Касьян велит, так и сотворим! – сурово напомнил Арсентий. – Давай, крещёные, расходись!
Вот о чём предостерегал его владыка! Какой-то озёрный бес, а главное, нелепые эти обычаи, что лишают невинного человека погребения! Глубоко дыша, Воята старался успокоить возмущение сердца и не дать воли «задорному бесу», который толкал его продолжать спор. Но что толку спорить с мужиками – решать будет отец Касьян.
Отец Касьян вернулся в сумерках, когда тело Меркушки, вымытое и завёрнутое в саван, уже лежало в избе. Воята, желая знать, чем кончится дело, и ожидая, что его свидетельство снова понадобится, весь вечер околачивался у Параскевиных ворот и видел, как священник проехал к своему двору. Заметно было, что утомлён: ехал, опустив поводья и свесив голову на грудь; даже в начавшихся сумерках было видно, что отец Касьян бледен, под глазами набухли мешки, складки возле рта стали более резкими. Воята только поклонился, ничего не сказав, и отец Касьян ему слегка кивнул.
– Отвёз? – Уже поехав мимо, он вдруг вспомнил утреннее поручение и придержал коня.
– Что отвёз? – Воята удивился; мельком подумал о теле Меркушки и ещё раз удивился, как отец Касьян успел об этом прознать.
– Жито отвёз в Песты?
– Господи помилуй! – Воята подивился на свою забывчивость – с чего всё началось, у него уже вылетело из головы. – Отвёз, как ты велел. Тут после того…
Но отец Касьян кивнул и поехал дальше. Воята вздохнул и остался у ворот – ждать, что будет.
Вскоре, как он и думал, к отцу Касьяну прошёл староста Арсентий. Через какое-то время вышел и махнул рукой, глянув на Вояту, будто хотел сказать: ничего не вышло. Арсентий двинулся к Меркушкиному двору, и Воята пошёл за ним.
– Я тут одна с ним не останусь! – услышал он, входя следом. – А то он ночью встанет да удавит меня! К матери пойду.
Меркушка, закутанный в саван, лежал на столе, а Еликонида, уже в белом платочке, повязанном по-вдовьи, стояла перед Арсентием. Меркушкина жена была коренастой, плотной, невысокой женщиной – мужу макушкой по плечо, – но жили они, по слухам, хорошо. Четверо их детей уже отвели куда-то к соседям.
– Что же ты – покойника одного на ночь оставишь? – спросил староста. – А если ночью… придут за ним?
– Ну да, и меня с ним заодно утащат! – Еликонида, с заплаканным лицом, вид имела решительный. – Детей на кого покину? К матери пойду! Пусть тут его, как ему судьба…
– Кто же будет над ним читать? – спросил Воята, и оба обернулись к нему. – Ты сговорилась с кем?
– Да с кем тут сговоришься? – Арсентий повёл рукой. – Грамотеев у нас не водится, да и Псалтири нет ни одной.
Воята мельком вспомнил, что ездил к Еленке в Песты, надеясь узнать о Псалтири, – книге, по которой читают целую ночь над умершими. Если умерший был хорошего рода, то в Новгороде и по три ночи читали, до самого погребения.
– У нас если кто доброй смертью помрёт, то отец Касьян над ним читает, сколько на память знает, – добавил Арсентий. – А если так вот… как тот мужик из Видомли или вот Меркушка… не станет он. Я к нему ходил, он сказал, в Лихой лог завтра свезти.
– Да как же так? – В душе Вояты поднималось возмущение. – Меркушка же не убивец какой и не сам на себя руки наложил. Как же его оставить нечисти на поживу – без чтения, без погребения! За что душу сгубить? Или он был такой дурной человек?
– Да человек как человек… А вот судьба выпала дурная…
– Нет никакой судьбы – есть Божья воля! – сурово возразил Воята. – А в Священном Писании нет такого – чтобы если кто волку в зубы попал, того христианского погребения лишать.
– Это, скажут, его бес озёрный выбрал себе в поживу…
– Он выбрал, а мы просто так и отдали? Человек ведь был, не курёнок!
– Отец Касьян так судил, ему виднее…
– Я пойду потолкую с ним! – решил Воята. – Не может такого быть, чтобы иерей крещёного человека вот так нечистому отдал!
– Сходи, миленький! – Еликонида сморщилась жалостливо, опять собираясь заплакать. – Может, он послушает тебя? Ведь Меркушка-то не шиликун был какой, не чернознай, человек простой, да не хуже других! Что же его, как пса… Весь грех-то его, что не уберёгся… А уж мы с Егоркой не вздорили никогда, и пироги ему носим, и яичко красное…
Что за Егорка и при чём здесь красное яйцо, Воята спрашивать не стал – уже думал о разговоре с отцом Касьяном. По пути к поповскому двору крепился. Сердце обрывалось от мысли о собственной дерзости. Кто он такой, попович, в Сумежье живёт всего ничего, чтобы священнику, здешнему уроженцу, указывать, кого как хоронить? Но и смириться он не мог – совесть замучила бы. Выросший в городе, где за всеми обрядами наблюдало недреманое око владыки Мартирия, он тем не менее знал по разговорам отца и других пастырей о сельских суевериях – о том, что селяне неохотно соглашаются хоронить в земле тех, кто умер дурной смертью. Видов дурной смерти много – «кто был водою покрыт либо бранью пожран, или убийцею убит, или огнём попалим, или попаляем от молний, морозом измёрз или всякою раною погублен». Но даже истинных грешников, самоубийц, кто сам полезет в петлю, или утопится, или зарежется, владыка Мартирий запрещал бросать в овраг, хотя и не разрешал отпевать их в церкви или погребать в освящённой земле. Утренняя встреча с Меркушкой хорошо помнилась Вояте – мужик был как мужик, ничем особенным не провинился. И что это за бессмертный волк его задрал? На какого беса озёрного все ссылаются? Отец Касьян, надо думать, об этом знает… Жаль, не успел расспросить бабу Параскеву.
Когда Воята вошёл, отец Касьян сидел за столом и вяло хлебал что-то из миски. Старая Ираида стояла у печки, дожидаясь, пока пора будет убирать со стола. Воята порадовался в душе её присутствию: оставаться наедине с отцом Касьяном он не любил, так и не сумев к нему привыкнуть. Широкий, рослый, тот не был выше самого Вояты, но подавлял, как грозовая туча над самой головой.
– Хлеб да соль! – Воята поклонился, не подходя близко к столу.
– Помогай Бог! – Отец Касьян с недовольством взглянул на него.
Взгляд его тёмных глаз под густыми чёрными бровями ложился на душу, будто камень. И сам весь он напоминал глыбу тёмного стоячего валуна: длинные, густые тёмные волосы с проседью – будто пряди метели в ночи, – продолговатое лицо с высоким лбом, прорезанным вдоль глубокими морщинами, густая тёмная борода, тоже с проседью по сторонам рта, острый нос с горбинкой. Выглядел он ещё не старым, но эта чернота и седина навевали мысли о чём-то потустороннем, ночном, мрачном. За всё время жизни в Сумежье Воята ни разу не видел у священника улыбки, приветливого взгляда, хоть проблеска радости в глазах или речах. Он будто носил с собой сумрачный поздний вечер и мог набросить тень на самый ясный полдень.
– Ну, что там? – К облегчению Вояты, отец Касьян сам начал разговор. – Передала она чего?


