Заповедник для академиков Булычев Кир
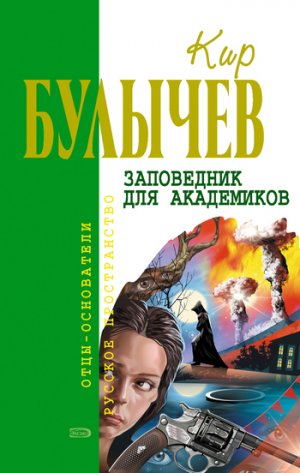
– Я не хочу оставаться в Ленинграде. Это великолепная, блестящая и обреченная на деградацию провинция.
– Ну и как идут ваши переговоры?
– Об этом тебе рано знать, ангел мой, – сказал Матя. – Главное, чтобы они поверили в мою исключительность и незаменимость. Чтобы они заплатили за мою голову как следует.
– Разве Алмазов годится на эту роль?
– А он у них один из лучших. Он даже почти кончил университет. Впрочем, дело не в образовании, а в понимании момента. У них идет отчаянная борьба за власть…
– Вы рискуете, гражданин Шавло!
– Да, я рискую. Но я знаю, ради чего, и у меня высокая карта!
– Может, смиритесь?
– Девочка моя, вы не жили до революции, вы не жили за границей. По наивности, внушенной вам комсомолом и партией, вы полагаете, что во всем мире крестьяне мрут с голоду, горожане покупают хлеб по карточкам, и за всем вплоть до булавки по милости кремлевских мечтателей надо маяться в очереди. Есть другой мир. И я хочу либо жить в нем, либо заставить их перенести сюда часть этого мира – для меня лично.
– А вы?
– А я взамен дам им новое оружие, о котором Гитлер и Муссолини только мечтают.
– Они возьмут, а потом вас выкинут.
– Так не бывает. – Матя был убежден в себе. – То, чем я занимаюсь, их пугает. Отношение ко мне почти религиозное. Я – колдун. И если я покажу им мой фокус, то стану страшным колдуном. Они не посмеют меня обидеть. Они просты и религиозны.
Рука Мати снова перекочевала на колено Лидочке. Рука была тяжелая, теплая, и коленке было приятно оттого, что такая рука обратила на нее благосклонное внимание. Но Лидочка понимала, что хорошие девочки не должны разрешать самоуверенному Мате класть руки куда ни попадя. Потом его не остановишь.
Пришлось руку вежливо убрать, Матя вздохнул, как вздыхают уставшие от скачки кони.
– Вы забываете, что я великий человек, – сказал он как будто шутя.
– Я ничего не забываю, – возразила Лидочка. – Я буду ждать, пока вы станете великим человеком. Пока что вы, как я понимаю, торгуете воздухом.
– Может быть, до сегодняшнего дня вы имели право меня упрекнуть в этом. Но не сегодня.
– А что произошло?
– Пока мы разговаривали с настырным Александрийским, я понял принцип, который позволит создать сверхоружие! Я сделал шаг, до которого не дошел старик Ферми!
– Он старик?
– Господи, вы меня не хотите понять! Ферми моложе меня, ему только-только исполнилось тридцать. Но он – гений.
– А вы? Разве вы не гений?
– Если бы я был ничтожеством или хотя бы середнячком, я бы на вас обиделся, Лида, я бы вас возненавидел. Но я так велик, что комариные укусы прекрасных девочек меня не раздражают. Каждому свое.
– Вы весело настроены.
– Да, потому что я люблю женщин. Умных женщин. Больше всех я люблю вас, Лидочка, и немолодую австриячку, которую зовут Лизой Мейтнер. Я ее очаровал, она мне доверилась.
– Вы в самом деле любите ее? – Еще не хватало ревновать этого петуха к какой-то австриячке.
– Лизе за пятьдесят. Два месяца назад я провел у нее три недели в Берлинском университете. Она рассказала мне о делении атомов урана. Она считает, что именно в уране можно вызвать цепную реакцию деления атомов. Об этом не думал никто. Что вам говорит понятие критической массы урана? Той, после которой начинается цепная реакция? Ничего? Так вот, кроме меня и Лизы Мейтнер, сегодня это ничего не говорит ни одному из физиков мира. Даже Бор или Ферми сделают большие глаза, когда вы об этом расскажете. А через пять, от силы через семь лет наши беседы с Лизой за чашкой кофе перевернут мир. И на перевернутом мире, как на стульчаке, буду сидеть я, собственной персоной, в новом костюме и лакированных ботинках. А в руках у меня будет бомба, которая может взорвать всю Москву. Смешно?
– Страшно.
– Бояться не надо, бояться будут другие.
– А если эту бомбу сделают?
– Ее обязательно сделают, – сказал Матя. – Не сегодня, так завтра. И все те гуманисты, которые сегодня вопят о сохранении мира, отлично будут трудиться над сверхбомбами или ядовитыми газами. Я лучше их, потому что не притворяюсь ягненком, а понимаю, что происходит вокруг. И, понимая, использую слабости диктаторов. На сеновал придешь, девица?
Лидочка не сразу сообразила, что Матя уже сменил тему, и переспросила его глупым вопросом:
– Что? Куда?
Потом засмеялась. Они оба смеялись, когда пошли прочь из бильярдной. Матя поцеловал Лидочке руку и сказал:
– Прости меня, мой друг желанный, мне надо будет немного почитать в постели – идеи, которые будоражат мой мозг, не дают мне спать спокойно.
Он пошел к себе в правый, северный корпус, где жили академики и профессора, – там у каждого была отдельная комната, а у академиков даже с отдельной уборной.
Лидочка была встревожена разговором с Матей. Матя не шутил и не хвастался. Он был человеком достаточно простым, открытым, он любил нравиться. Вот и Лидочке он хотел понравиться – и если он не мог играть с ней в лаун-теннис, плавать в бассейне, кататься на извозчике по набережной Неаполя, он говорил о своих научных успехах и будущей славе, во что сам верил. Но его решение продаться подороже не показалось Лиде убедительным и безопасным. Алмазов не делает подарков. Сила Алмазовых заключалась в том, что им не были нужны правила игры или порядочность. Если можно было – они брали бесплатно. Если не получалось, платили, но злопамятно помнили, что эти расходы при первой возможности надо возвратить.
Лидочка поднялась на второй этаж. Ей захотелось спать. Дома она никогда не спала после обеда, но свежий воздух и насыщенность жизни событиями склоняли ко сну.
В дверь своей комнаты она стучать не стала – не пришло в голову. Она толкнула дверь и вошла.
Несмотря на то что день был пасмурным и перед окном длинного пенала, в котором обитали Марта с Лидочкой, стояла колонна, преграждавшая путь свету, Лидочка во всех деталях увидела любовную сцену, которая разыгрывалась на койке Марты. Правда, потом Марта упорно утверждала, что дверь была закрыта на крючок и лишь дьявольская хитрость и коварство Лидочки, которая хотела скомпрометировать Марту в глазах общественности, и в частности ее мужа Миши Крафта, позволили этот крючок откинуть, не повредив. На самом же деле ни Максиму Исаевичу, ни Марте не пришло в голову закрывать дверь на несуществующий крючок, так как они не намеревались грешить. Максим Исаевич заглянул к Марте, чтобы дать ей последний номер журнала «Огонек», который обещал ей еще за завтраком. А уж потом, слово за слово… Ведь не секрет, что санатории и дома отдыха обладают странным и еще не до конца изученным порочным свойством снижать уровень сопротивляемости порядочных женщин перед поползновениями развратников мужского пола. Впрочем, Лидочка могла бы в том убедиться на своем опыте – ведь только что она сидела рядом с Матей Шавло и не возмущалась, когда тот клал руку ей на коленку.
Лидочка настолько не ожидала увидеть то, что увидела, что, войдя в комнату и поглядев на койку Марты, никак не могла понять, почему большие крепкие ноги Марты Крафт, затянутые в серые шелковые чулки, направлены к потолку, а между ними находится округлая спина в розовой рубашке и обнаженные ягодицы, которые подпрыгивают в такт тонким удивленным вскрикам Марты.
– Как? – вскрикивала Марта. – Как? Нет! Что? Где?
На глазах у Лидочки совместное движение полуодетых тел все ускорялось, и вопросы Марты становились все более громкими и настойчивыми.
Объяснение странному поведению Лидочки можно найти лишь в том, что ее собственный опыт в этой области был невелик и ограничивался лишь Андреем и ей никогда не приходилось видеть акт любви со стороны в исполнении иных людей. Надо сказать, что это представление Лидочке не понравилось и показалось некрасивым.
– Да! Да! Да! – торжествующе закричала Марта, и тут оцепенение спало с Лидочки, и, догадавшись, невольной свидетельницей какого таинства стала, она отступила к двери, правда, к сожалению для всех, уйти не успела. Марта, придя в себя, воскликнула:
– Ты что здесь делаешь?
Приземистый Максим Исаевич не стал даже оправдываться – он соскользнул с Марты и ловким движением отыскал на полу возле кровати свои брюки, сделал шаг к окну и быстро стал их натягивать.
– Ой, простите! – сказала Лидочка.
– Шпионка! Диверсантка! – вдруг закричала Марта, натягивая на себя покрывало. Ее черные глаза сверкали ненавистью, и Лидочка поняла, что ей лучше ретироваться.
Так и получилось, что Лидочка оказалась одна в коридоре в половине четвертого пополудни, когда весь санаторий погрузился в послеобеденный сон.
Она спустилась вниз, прошла в гостиную. В гостиной никого не было, а библиотека была закрыта. По стеклам окон текли струйки воды, ели подступали к окнам, чтобы было еще темнее и сумрачней.
«И зачем я согласилась поехать в санаторий в это мертвое время? Я же не увижу ни капельки солнца, я буду ходить по этим скрипучим лестницам и мрачным, недометенным залам, откуда даже привидения эмигрировали в Западную Европу, я буду избегать Матю, чтобы он меня не соблазнил, и Алмазова, чтобы не прижал в углу, за что ангельского вида Альбина ночью выцарапает мне глазки. А теперь еще осложнятся отношения с Мартой, которая на меня обижена за то, что я не стучусь, входя в дверь, не говоря уж о президенте Филиппове, который меня не выносит…»
Пребывая в таком печальном настроении, Лидочка прошла в альков гостиной, где под портретом молодой женщины, заморенной Петром Великим, стояли павловский диван и два кресла. Возле них торшер. Лидочка решила, что посидит здесь, и хотела зажечь торшер, чтобы не мучиться в полутьме, но торшер, конечно, не зажегся, и Лидочка уселась просто так. Никого ей не хотелось видеть. Ни с кем не хотелось разговаривать.
В тот момент она услышала нежный шепот:
– А я вас искала.
Темная тень скользнула из-за киноаппарата, который стоял перед диваном, и уселась на диван рядом с Лидой.
Лида сразу узнала Альбину, спутницу Алмазова, из-за которой вчера и разгорелся весь сыр-бор. Меньше всего ей хотелось общаться с этой ласковой кошечкой.
– Я как раз собиралась к себе пойти, – сказала Лидочка.
– Ой, не надо врать, – прошептала Альбиночка. – Я же за вами от бильярдной следила. Вы у себя в комнате были, а там Марта Ильинична с администратором из мюзик-холла, правда?
Альбина засмеялась почти беззвучно, но без желания кого-то обидеть. Ей казалось смешным, как Лида стала свидетелем такой сцены.
– Я все замечаю, – сочла нужным пояснить она. – Я даже не хочу, а вижу. Как будто меня кто-то за руку подводит к разным событиям. Вы не думайте, что это Ян Янович, он даже и не знает, как я все замечаю. А зачем ему знать?
Лидочка не стала возражать. «Пускай говорит, потерплю». Но намерение Лидочки отсидеться, пока Альбина кончит свой монолог, оказалось тщетным, потому что уже следующей своей фразой Альбина удивила Лиду.
– Вы, наверное, думаете, чего меня Ян Янович к вам прислал. А все совсем наоборот. Если он узнает, что я с вами разговаривала, он так рассердится, вы не представляете. Он меня может побить, честное слово…
Альбина сделала паузу, как бы желая, чтобы смысл ее слов получше дошел до Лидочки, а Лидочка успела подумать, что Альбина испугалась соперницы: она, видно, решила, что Лидочка готова заступить на ее место при бравом чекисте.
– Вы уже, наверное, догадались, что я вам скажу, только вы неправильно догадались.
Альбина говорила вполголоса, впрочем, говорить громко в той гостиной было бы неприлично – такая тишина царила в доме. Альбина, поудобнее устраиваясь на узком диване, подобрала под себя ноги, и диван заскрипел, будто был недоволен тем, что кто-то посмел забраться на него с ногами.
От Альбины пахло хорошими французскими духами – Лида любила хорошие духи, и ей было грустно, что теперь у нее нет таких духов и вряд ли в жизни ей удастся снова надушиться ими. И как ни странно, этот добрый терпкий запах примирял Лиду с присутствием этой чекистской шлюшки – как будто возможность вдыхать аромат была платой за необходимость слушать ее излияния. А может, и угрозы.
– Мне бы не хотелось, – сказала Альбина, – чтобы вы сблизились с Яном Яновичем. Я человек прямой, я сразу вам об этом говорю, без экивоков.
– А почему вам кажется, что мне этого хотелось?
– Нас редко кто спрашивает, – сказала Альбина и улыбнулась, в полутьме сверкнули ее белые ровные зубы. – Нас, красивых женщин, берут, и от нас зависит лишь умение отдаться тому, кто нам больше нравится. Только, к сожалению, даже этого нам не дают.
– Ваш Алмазов, – сказала Лидочка с прямотой дамы с хорошим дореволюционным воспитанием, – мне ничуть не симпатичен, и я не собираюсь с ним сближаться.
– Я вижу, что вы искренняя, – сказала Альбиночка, – но ваше решение так мало значит!
– Если оно так мало значит, зачем со мной разговаривать!
– Потому что я хочу, чтобы вы отсюда уехали. Тут же.
– Почему?
– Вы ему страшно понравились! Если вы останетесь здесь, Лида, вы обречены. Я клянусь вам.
– Вы ревнуете? – спросила Лида. Чтобы что-то спросить – нельзя же так: слушать и молчать.
– Господи, сколько вам лет?! – Альбина сморщила нос, нахмурилась, сразу стала старше – даже в полутьме видно. Наверное, со стороны они кажутся добрыми подружками, обсуждающими мелкие дела – какую шляпку купить или где достать муфту из кролика. Пустяки… делят чекиста Алмазова, а он Лидочке вовсе не нужен. Не нужен, но как не хочется признаваться в этом мямле с томными глазками. «Боишься потерять паек и защиту, надеешься, что он возьмет тебя в жены и станешь ты комиссаршей на конфискованном фарфоре». Эти мысли неслись где-то в подсознании и никак не отражались на лице Лидочки – она вела себя как ирокез на ответственных переговорах с бледнолицыми.
– Разве мой возраст так важен? – спросила Лидочка.
– Я думаю, вам не больше двадцати, – сказала Альбина. – А мне уже тридцать.
– И что из этого следует? – Лидочкиному тщеславию захотелось поглядеть на себя со стороны. Приятно быть сильнее и знать, что Альбина вымаливает у нее то, что Лидочке не нужно, то, с чем она готова расстаться, не имея. Но пускай помучается.
– Вы его любите? – спросила Лидочка.
– Господи, о чем вы говорите?
– Тогда зачем вы со мной разговариваете?
– Потому что вы еще ребенок, вы не понимаете, на что себя обрекаете, если попадете в когти этому стервятнику.
– А вы?
– Обо мне уже можно не думать, со мной все кончено. Он – моя последняя надежда, нет, не надежда – он моя последняя соломинка.
Лидочке хотелось ей сказать: «Не говорите красиво!» – но нельзя переступать определенные правила поведения. Хорошо бы кто-нибудь сейчас пришел, и тогда бы разговор кончился…
Альбина, как и следовало ожидать, достала из махонькой бисерной сумочки махонький шелковый платочек. Из сумочки вырвался такой заряд запаха французских духов, что Лидочка чуть не лопнула от зависти. Сейчас бы сказать ей: меняюсь – тебе Алмазов, мне духи.
Альбина промакивала глаза, чтобы не потекла тушь с ресниц.
– Я не могу, он для меня все…
– Я даю вам честное слово, – сказала Лидочка, – честное благородное слово, что у меня нет ровным счетом никаких видов на вашего Алмазова. Мне он даже противен. Я скорее умру, чем буду с ним близка.
– Вы честно говорите?
– Я же дала честное слово.
– Тогда вам надо будет скрыться из Москвы.
«Господи, она просто дурочка! Она забыла, где мы живем». Но Лидочка не могла оставить последнего слова за Альбиной.
– Приедет мой муж. Он обещал…
– Ты с ума сошла! – Только тут Лида увидела, как Альбина испугалась. – Умоляю, пускай он не приезжает!
Почему-то тут Альбина задрала широкую шелковую юбку, оказалось, что на ее панталонах был сделан карман – оттуда Альбина вытащила помятую на углах и сломанную пополам фотографию-визитку и протянула ее Лиде. Можно было лишь угадать, что на фотографии изображен какой-то мужчина и рядом с ним Альбина – они похожи друг на дружку, даже головы склонили одинаково, а у Альбины на шее те же бусы, что сегодня, и так же завиты кудри на висках. Значит, фотография снята не так давно.
Альбина обернулась – никого близко не было, – дом Трубецких застыл, сонно зажмурился в полумраке дождливого дня. Она спрятала визитку на место и оправила юбку.
– Поняли? – спросила Альбина шепотом. – Это мой муж. Вам понятно?
Лиде ничего не было понятно. И она задала глупейший из возможных вопросов.
– Он приедет, да? – спросила она.
Альбина смотрела на Лиду широко открытыми глазами, на нижних веках скопилась вода, которая никак не могла превратиться в слезы и скатиться вниз.
– Когда Георгия взяли, – сказала Альбина как во сне, ровно и невыразительно, – то он меня допрашивал… Ян. Он меня допрашивал и отпустил. Но потом приехал ко мне и сказал, что может нам помочь. Хоть дело очень сложное и помочь почти невозможно. Мой муж грузин, вы понимаете?
Лидочка ничего не ответила.
– Все это очень сложно. У них там все перепуталось. Мой Георгий – дальний родственник Ильи Чавчавадзе, это вам что-нибудь говорит? Тогда не важно, это и мне было не важно. Георгий из очень уважаемой фамилии – мы с ним бывали в Вани, там у них дом на берегу Куры, там очень красиво. Но Георгий мне говорил, что он обречен, – а я смеялась, понимаете, он театральный художник – он даже в партию не вступал… Ян сказал, что я одна могу помочь Георгию. Если я буду покорна. Вы меня поняли? Теперь я понимаю, что я тоже обречена. Даже если он спасет Георгия. Вы верите, что он спасет Георгия? Не говорите – я не верю. Он говорит, что время идет и он старается, но не все от него зависит, я играю в театре, и у меня была роль в кино – я сейчас все бросила. Он сказал, что все зависит от того, смогу ли я его полюбить. Он понимает, что я делаю это для Георгия, но, когда Георгий придет, он меня убьет. Вы не представляете, какой он у меня дикий. Но я же не могу… если есть один маленький-маленький шанс. Я должна сделать, чтобы Ян меня любил, если он меня любит, он сделает что-то – он ведь не совсем плохой, иногда бывает такой забавный… Так вы уедете, Лида?
Лида ответила не сразу. Она не думала над ответом, она думала: а что, если Алмазов начнет раздевать Альбину и найдет эту фотографию? Наверное, он рассердится, – но куда спрятать фотографию?…
– Вы думаете о другом, да?
– Я думаю… что если я сейчас уеду и постараюсь скрыться, то, может, будет еще хуже. Он вас заподозрит.
– Но я не знаю, что делать! Ну просто хоть вас убивай.
И Лидочка вдруг поняла, что Альбина сказала это совершенно серьезно, что она готова убить Лиду, потому что зашла так далеко в своих жертвах Георгию, что смерть Лиды мало что меняла в ее трагедии.
– Не надо меня убивать, – сказала Лида. – Я обещаю вам, что он ко мне не притронется. А если притронется, я уеду.
– Вы мне даете слово?
– Даю.
– Только не уходите. Я вам все рассказала, а теперь вы одна все знаете. А мне обязательно надо вам еще сказать, потому что я не могу все хранить в себе. Вы знаете… – Альбина говорила быстро, скороговоркой, глаза ее лихорадочно блестели. – Я должна вам рассказать, что он со мной делает. Георгий очень целомудренный человек, для него любовь – это слияние двух любящих сердец. Вы давно замужем?
Лидочке не хотелось слушать. Альбина была больным человеком – она уже две недели жила в постоянном обреченном ужасе, она поддерживала себя пустой надеждой на возвращение Георгия, хотя знала, как и все вокруг, наверное, знали, что Георгия она не вымолит и не заработает. А если случится чудо и Георгий останется жив, то он на самом деле либо убьет ее, либо, пожалев, бросит – он не сможет жить с ней, как, впрочем, и она… И мука Альбины усугублялась тем, что она вынуждена была сносить косые взгляды, насмешки и даже оскорбления близких, потому что все видели то, что лежало сверху, – ее жизнь при Алмазове, что вдвойне было предательством мужа.
С каждым днем Альбина все глубже увязала в двусмысленности своей жизни – отказаться от Алмазова и с этим от иллюзорной надежды спасти Георгия было невозможно. Значит, надо было сделать так, чтобы Алмазов полюбил ее, чтобы он ее ценил, чтобы ее тело казалось ему лучшим и самым желанным, чтобы ее поведение, ее послушание и всегдашняя улыбчивость ему нравились и радовали его взор. И тогда он, преисполненный благодарности и нежности к ней, освободит Георгия.
Все в Альбине было расколото надвое. Она ненавидела Алмазова – его пальцы ей были отвратительны, его улыбка страшна, а гнилой обломанный зуб – правый клык – вызывал тошноту. Все было ненавистно в Алмазове – но надо было терпеть, улыбаться ему, разрешать его рукам трогать живот, грудь и ягодицы, вести себя так, чтобы Алмазов не догадался об ее отвращении, наоборот – думал о радости, которую он ей доставляет своими ласками. Ни на секунду Альбиночка, которая всю жизнь до того существовала в атмосфере нежного мужского поклонения, шуток и загородных пикников, мелких театральных интриг и совсем уж пустяковых ссор с ревнивцем Георгием, ни на секунду не могла расслабиться, рискуя показать Алмазову, как на самом деле она к нему относится. Ни на секунду – это было самым страшным, самым трудным, самым невыносимым и вело, как ни странно, совсем уж к неожиданным последствиям. Во-первых – Альбина, опомнившись, сама не могла понять, как такое возможно, – она испытывала порой ненависть к Георгию, даже желала ему смерти. «Как ты смел сделать то, что ты сделал! Обидеть и рассердить товарища Сталина и товарища Алмазова! Как ты смел вести себя так, чтобы тебя арестовали и мне пришлось из-за этой твоей глупости пойти на такое унижение!» Это он, именно Георгий, виновник всех бед Альбиночки, и потому он ненавистен, да, ненавистен! Это настроение проходило, сменялось еще большей виной перед страдающим Георгием и пониманием того, что, как бы она ни любила мужа, на что бы ни шла ради его спасения, сами ее действия – смертный приговор их будущей жизни.
Но даже это было не самым страшным. Оказалось, что человек может пасть еще ниже, чем сам предполагает возможным. С самой первой ночи, проведенной с Алмазовым, с ночи, как и последующие их свидания, переполненной ужасом и отвращением, с Альбиной происходило нечто постыдное и необъяснимое – но происходило. Отчаянно, но лишь мысленно сопротивляясь каждому движению Яна, рукам, которые ее раздевали, тяжелому телу, которое придавливало ее к кровати, губам, которые слюнявили ее губы и щеки, зубам, которые делали так больно ее соскам, Альбина через пять-десять минут подчинялась ритму Алмазова, воистину становилась его любовницей и забывала на секунды об ужасе и отвращении, потому что проваливалась в пучину позорного безумного наслаждения, и руки ее помимо воли прижимали к себе рычавшего Алмазова, и ногти впивались ему в широкую спину, а тело раскрывалось навстречу ударам, которые он наносил ей, а губы искали рот Яна… Когда же обессиленный и потный Ян скатывался в сторону, Альбина прижимала к глазам кулачки и закусывала губу – только чтобы не заплакать, только не показать, какая громадная, удушающая волна ужаса и ненависти к себе накатила на нее… Но Алмазов ничего не замечал, он быстро, но ненадолго засыпал и во сне неразборчиво бормотал и скрипел зубами, а Альбина лежала рядом, на спине, так и не пошевельнувшись, – и мечтала о том часе, когда вернется Георгий, она встретит его, накормит, улыбнется ему, потом пройдет на кухню и выбросится с восьмого этажа: она уже примерилась – створка окна была узкой, но Альбина могла в нее протиснуться…
Не все, но какие-то невнятные обрывки этого внутреннего монолога Лидочка услышала, и поняла остальное, и сжалась в ужасе перед неизлечимой бедой этой милой, очаровательной, элегантной женщины, созданной для милой и элегантной жизни и обреченной теперь на ничтожество и смерть. И выхода не было, и Лидочка ничем не могла ей помочь.
А сейчас Альбина была занята лишь одной мыслью – не потерять страшного ненавистного любовника, потому что тогда никто не захочет помочь Георгию и ни с чем не соизмеримая жертва Альбины окажется лишней. Ты можешь с болезненным наслаждением думать о том, что выбросишься из окна, когда твоя жертва принесет свои плоды, когда рядом будет спасенный такой дорогой ценой Георгий. Но насколько пуста и никому не нужна смерть в одиночестве, в сознании того, что Георгий мерзнет на Соловках или даже стоит у стены в ожидании залпа.
Лидочка как могла утешала Альбину, хотя понимала, что пройдет несколько минут, и Альбина снова начнет терзаться подозрениями…
К счастью, Альбина разрыдалась – она дрожала, пряталась на Лидочкиной груди, словно та была ее мамой, которая утешит и спасет от безвыходности взрослой жизни.
– А я боялась, – бормотала она в промежутках между приступами рыданий, – я боялась, что вы такая… что вы хотите его отнять… а может, я думала, у вас кто-нибудь тоже там… и вы хотите, как я, спасти… А он меня заставляет еще следить, за Матвеем Ипполитовичем велел следить, с кем он разговаривает и о чем… а я совсем не умею следить и не понимаю. Они разговаривают с профессором Александрийским, они говорят про свои дела, а Ян Янович сердится, что я не понимаю… Ой, если он увидит, что у меня глаза распухли, что он со мной сделает…
Лидочке и жалко было Альбину, и хотелось уйти от нее, забыть, как уходят звери от больного собрата – ты не поможешь, но боишься заразиться.
Стало совсем темно, хотя еще не было шести. Лида думала, как сделать, чтобы Альбина ушла, – она так устала от этого разговора и чужого горя. Но никак не могла придумать повода, который заставил бы Альбину подняться.
– Я так боялась, – снова зашептала Альбина, – я так боюсь – у меня неделю назад уже месячные должны были начаться. А ничего нет. Как будто и не должно… Скажите, а может быть, это от нервов? Ведь бывает, что от нервов?
«Господи, – подумала Лида, – за что же Ты так жесток к этому созданию? Чем Альбина могла прогневить Тебя?»
– Конечно, – сказала Лидочка, – это очень похоже на нервы.
И тут в тишине послышались четкие женские – на каблуках – шаги.
Шаги завернули из прихожей в гостиную. Альбина вскочила.
И тут же щелкнул выключатель и зажегся свет.
В гостиной стояла Марта Ильинична, жмурилась, вертела головой, приглядывалась – увидела.
– Так я и думала, – заявила она. – Где ты могла быть? Свет нигде не горит, в бильярдной Вавилов с Филипповым шары катают… Извините, я помешала, у вас интимная беседа?
Альбина сказала:
– Ничего особенного, – и пошла из гостиной, отворачиваясь от Марты.
Марта смотрела ей вслед и, дождавшись, пока та вышла, спросила:
– Лида, ты что, забыла, кто эта тварь?
– Вы не все знаете.
– Я знаю то, что видят мои глаза. И единственное возможное оправдание для тебя, что она тебе нравится как девочка.
– Я не понимаю.
– Отлично понимаешь, котенок. Но я не об этом.
Марта уселась на диван рядом с Лидой.
– Ох, уморил он меня, – сообщила она.
Лида никак не могла вернуться к мелочам санаторной жизни после монолога Альбины. Она даже не сразу вспомнила, что была свидетельницей романа Марты, и та теперь намерена каким-то образом подвести итоги этой сцене.
– Мне надо идти, – сказала Лида.
– Погоди, успеешь, я только два слова.
Марта дотронулась до плеча Лидочки.
– Мое горе в том, – сказала она торжественно, – что я люблю одинаково страстно и мужчин, и женщин. Видимо, я существо высшего порядка.
Марта тихо рассмеялась и показала ровные желтоватые зубы.
– Максимка – мой старый приятель. Ты еще под стол пешком ходила, когда мы с ним подружились. Я это говорю на случай, если ты что-нибудь подумала.
– Я ничего не подумала!
– Нет, вижу, что подумала! Признавайся, подумала?
– Марта, клянусь вам, я даже ничего не видела!
– Как так не видела? – Этого Марта не смогла перенести. – Я думала, что всю подушку зубами изорву, а она – не видела!
– Ну видела и забыла.
– Вот и хорошо. У меня к тебе одна просьба – Мишка Крафт не должен ничего знать. У него слабое сердце и нет чувства юмора.
– Он ничего не узнает, – сказала Лида.
– Вот и отлично.
От бильярдной послышались голоса, в гостиную вошли какие-то мужчины, но Лидочке из-за колонн не было видно кто.
– Предупреждаю, – сказала Марта, поднимаясь с дивана, – если этот сексуальный маньяк будет к тебе лезть, отшей его немедленно! Иначе будешь иметь дело со мной.
– Вы о ком?
– Как о ком? О Максиме!
Марта пошла прочь, исчезла за колоннами, и оттуда послышался ее оживленный голос:
– Ну как бильярдные страсти? Надо играть на коньяк, товарищи. А коньяк отдавать дамам.
И Марта заразительно рассмеялась.
Глава 3
Вечер и ночь 23 октября 1932 года
Лиде не хотелось идти на ужин. Она надеялась, что, если спрячется в комнате, не зажигая света, о ней забудут.
За окном лил бесконечный дождь, но само стекло было сухим: в этом месте над входом нависал опиравшийся на колонны портал.
Два фонаря, висевшие на столбах перед домом, освещали начала дорожек, что спускались к среднему пруду. Между дорожками лежал широкий, покатый газон, а за ними стояли ряды вековых лип.
Парк будет таким же пустынным, когда вымрет все человечество – от чумы или от войны. И окажется, что все, еще вчера бывшее антуражем, не более как фоном, частично созданным человеком, а частично использованным, вдруг обернется истинным содержанием земного пейзажа, и окажется, что человек в нем вовсе не обязателен. Это было грустно, еще вчера Лидочка так бы и не подумала, а сегодня не только думала, но и понимала справедливость такого решения судьбы человечества, недостойного лучшей участи. И особенно нелепо было видеть сходство в судьбах двух столь непохожих женщин. Казалось бы, ничего не было общего в приключении, которое устроила себе Марта, завлекши в постель Максима Исаевича, и той тоске, с которой отдавалась вчера и будет отдаваться сегодня Алмазову милая Альбиночка. Сходство было не в соитии, но в отсутствии любви – завтра обстоятельства могут перемениться, и тогда Марта Ильинична будет обнимать Алмазова, наивно полагая, что тот, насладившись ее прелестями, выпустит на волю Мишу Крафта, а Альбиночка, не подозревая, какая чаша ее миновала, заманит к себе в комнату театрального администратора Максима Исаевича, то ли из маленькой актерской корысти, то ли просто от ощущения особой курортной свободы и безнаказанности…
В дверь постучали.
Лидочка не стала откликаться – ей никого не хотелось видеть и было страшно, если это окажется Алмазов. Лидочка вцепилась ногтями в широкий деревянный подоконник, спиной ощущая желание невидимого человека войти в комнату. Какая глупость, что здесь не положены крючки или замки, – это идет от больничных правил, сказала еще днем докторша Лариса Михайловна. Был случай, лет пять назад, когда жена одного академика умерла в комнате от удара; пока стучали, да бегали за слесарем, да ломали дверь – она и умерла. И тогда директор сказал: у нас лечебное учреждение, а не развратный курорт для скучающих баб. И замки, а также крючки сняли. Совет отдыхающих Санузии, оскорбленный тем, что его заподозрили в стремлении к разврату, взбунтовался и устроил митинг, который постановил отказаться от компота. Но Президиум Академии наук поддержал инициативу директора – хотя бы потому, что академики были стары, но у некоторых были молодые жены, приобретенные после революции. Эти жены ездили отдыхать в Узкое и подвергались соблазнам.
Еще раз постучали. Уйдет или нет? Нет, не ушли! Дверь заскрипела, и незнакомый тихий голос несмело произнес:
– Простите, я догадался, что вы здесь, я только на минуту.
Господи, какое облегчение испытала Лидочка оттого, что голос принадлежал не Алмазову.
– Входите, – сказала она, оборачиваясь, – я задумалась.
Мужчина приблизился, и по силуэту, по росту и толщине Лидочка догадалась, что рядом с ней стоит старый друг Марты, жертва отсутствия крючков Максим Исаевич.
– Вы сегодня присутствовали… – сказал он и сделал длительную паузу, за которую он успел извлечь из кармана и развернуть большой носовой платок.
– Присутствовала и забыла, – сказала Лидочка. – И вы забудьте.
– Я, как член партии, нахожусь в очень сложном и деликатном положении, – быстро заговорил Максим Исаевич, словно в нем открылись шлюзы и он спешил выложить заранее заготовленный и заученный наизусть текст. – Вы не представляете, сколько в театре у меня недругов и завистников. Если же кто-нибудь узнает, что я сблизился с женой сосланного элемента, разве я могу кому-нибудь доказать, что я абсолютно ни при чем – я был завлечен и совершенно не представлял, потому что был уверен, что и в самом деле меня пригласили занести номер журнала «Огонек», в котором напечатан очень увлекательный рассказ Пантелеймона Романова, но обстановка меня расположила… да… Да! Что было, то было!
– Уходите, – сказала Лидочка, жалевшая теперь, что так долго слушала этого напуганного человека. В его монологе Лидочке открылся еще один секрет – сколько же ей еще предстоит их узнать! – оказывается, наш Миша Крафт, который находится в ответственной командировке, на самом деле сослан. Но почему тогда Марта попала сюда, в святая святых Академии, уж наверное, об этом должны знать сотрудники товарища Алмазова. Неужели проворонили? Значит, в комнате две соломенных вдовы, и обе таятся…
Максим Исаевич продолжал бормотать, останавливаясь лишь затем, чтобы промокнуть платком потный лоб.
– Тогда я сама уйду, – сказала Лидочка. – Из-за вас мне нет покоя в собственной комнате!
– Нет, вы меня неправильно поняли! – крикнул ей вслед Максим Исаевич, когда она выполнила угрозу, но сам из комнаты не вышел, так и остался в темноте.
Лидочка пробежала несколько шагов. Дверь в кабинет доктора была приоткрыта. Лариса Михайловна сидела за столом и писала в большой амбарной книге. Наверное, составляла отчет об истраченных лекарствах или квартальную сводку об улучшении здоровья вверенных академиков, но Лидочка вообразила, что докторша пишет донос – сидит тут день за днем и пишет донос: «Палата номер три. Содержание палаты: доктор исторических наук Пупкин и младший научный сотрудник Рабинович. Вчера до трех часов ночи вели недозволенные рассуждения об обязательном провале первой пятилетки и невозможности построения Магнитогорского металлургического комбината в одной отдельно взятой стране».
Лидочка миновала кабинет докторши. Сзади скрипнула дверь. Лидочка обернулась – это из ее комнаты выглядывал Максим Исаевич.
Куда деваться?
Лидочка спустилась вниз по узкой служебной лесенке. Там пахло пищей. Отдаленно звенела посуда, слышались голоса. Белый короткий коридорчик заканчивался двумя дверями – Лидочка толкнула ту, что была прямо перед ней, – оказалось, это – клозет для уборщиц: там стояли щетки, метлы и ведра. Лидочка закрыла дверь и повернулась к другой двери. За ней обнаружился коридор: направо он вел на кухню, впереди была комната, где мыли посуду, а налево можно было пройти в буфетную и обеденный зал, откуда доносились голоса – ужин уже начался.
Лидочка стояла в нерешительности, придерживая приоткрытую дверь. Она ждала чего-то, как отбившаяся от стаи антилопа ожидает неминуемой гибели. Неизвестно лишь, откуда она грядет.
Наверху скрипнула ступенька. Кто-то осторожно спускался на первый этаж. Лиде было неприятно, что ее кто-то выслеживает. И даже страшно.
В коридоре было пусто. Лида шагнула туда и повернула налево.
Здесь было светло и многоголосо – страх исчез. Лидочка пересекла буфетную. Навстречу ей спешила толстая подавальщица с пустым подносом. За спиной стучали шаги – из моечной появилась Полина. Она прижимала к груди небольшую кастрюлю. В ту же секунду вновь отворилась дверь, ведущая на лестницу, и из нее вышел усатый мужчина в синих галифе и пиджаке – именно он и спускался вслед за Лидочкой по лестнице.
Увидев Полину, мужчина в галифе предупреждающе крикнул:
– Полина! Полина Покровская, я к тебе обращаюсь!
– А чего? – крикнула в ответ Полина, отступая назад в посудомоечную.
Мужчина пошел за ней.






