Заповедник для академиков Булычев Кир
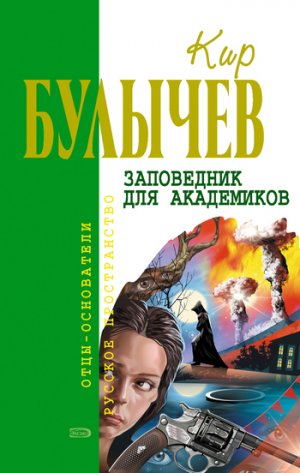
Из прохода на кухню вышла Полина.
Полина передала Мате стакан с водой, но не ушла, а что-то стала ему говорить. Матя пожал плечами, он был недоволен, но Полина продолжала говорить. Матя отрицательно покачал головой и пошел к Лиде.
– Пейте, – сказал он, – вы о чем-то задумались?
– Спасибо. – Пить совсем не хотелось. – О чем вы разговаривали с подавальщицей?
– Вы подглядывали, моя фея?
Глазенап завел фокстрот, и они снова танцевали, но Матя был занят своими тревогами. В гостиной стало меньше людей – многие разошлись по комнатам.
– Она напомнила мне об одном эпизоде из моей жизни, – сказал Матя. – Я был тогда совсем мальчишкой и постарался потом изгнать из памяти все, что со мной произошло. У меня такое впечатление, будто это было не со мной.
Лида не стала спрашивать. Захочет – сам расскажет. Ему хотелось рассказать, но он не решался.
С каждой секундой настроение Мати портилось.
Он оставил Лиду посреди комнаты и пошел прочь, как будто забыл о том, что с ней танцует. Лида растерянно поставила пустой стакан на столик рядом с Глазенапом.
– Спасибо, – сказал старик.
Лида пошла из гостиной и догнала Матю в дверях.
Как раз в этот момент он обернулся.
– Лида, – сказал он, – не уходите, я не хотел вас обидеть.
Они стояли в прихожей – медведь с подносом в лапах скалился и косил стеклянным глазом.
– На самом деле, – сказал Матя, – я совершил дурной поступок. Но я тогда даже не догадывался, что это дурной поступок. Все так себя вели… это была гражданская война, и я был на одной стороне, а те люди были на другой… Простите, Лида, я говорю совершенно лишнее…
– Я ничего не слышала, – сказала Лида и повернулась, чтобы уйти.
– Нет, Лида, погодите, – сказал Матя. – В такие минуты нужен человек, которому ты веришь. Я знаю, что в наши дни уже нельзя верить никому, но если в обществе никто не верит никому, значит, оно погибает. Ведь верит же Ягода своей жене?
– Может быть, пойдем погуляем? – спросила Лида.
– Вы хотите сказать, что здесь у стен есть уши?
Лида пожала плечами.
– Не думаю, – сказал Матя, – хороший маленький микрофон – дело серьезное. Его еще надо из Германии привезти, валютные расходы оправдать. Нет, здесь их ставить не стали.
– Вы правы, – сказала Лида, – только не из-за валюты, а потому, что нет смысла выслеживать – когда надо будет, нас заберут!
– Наша с вами задача, Лидочка, чтобы в отличие от других нас с вами не взяли – ни сейчас, ни завтра. А тут, как назло, лезут с угрозами!
Матя очень расстроился – он был из тех людей, кто не умеет и не желает скрывать своих расстройств.
– Вы никому не расскажете? – спросил он.
– Нет, – сказала Лидочка.
Не было у него никаких оснований доверять ей, но Матя был игроком и к тому же верил в свою способность приручать людей.
– Я был мальчишкой, гимназистом. Шел девятнадцатый год. Я был в охране поезда. – Матя поднял руку, останавливая возражение Лиды. – Честно сказать, я рисковал куда меньше, чем мои сверстники в окопах. В двадцать лет я демобилизовался по ранению, окончил университет и забыл обо всем. В конце концов, я выполнил свой долг, мне не в чем раскаиваться. Вы верите?
– Я не знаю, – сказала Лидочка, потому что по всему виду Мати было видно, что у него в шкафу стоит скелет и Полина неосторожно, а может, сознательно этот шкаф приоткрыла.
– Это все пахнет пылью, – сказал Матя, словно угадал мысли Лиды.
Кто-то прошел к лестнице, музыка прекратилась, поднялись шумом голоса и потом сразу стихли – танцоры стали расходиться.
Все, что было связано с Полиной, вызывало в Лиде интерес настолько жгучий, что она ничего не могла с собой поделать, – Полина была окутана тайной.
– А кто она такая? – спросила Лида.
– Черт ее знает. Я ее не помню. И всего, что она говорит, не помню. Бред какой-то!
Матя говорил для себя, он не притворялся.
– Но что же ей надо?
– А зачем вам это знать? – В мгновение ока Матя подтянулся, как часовой, услышавший близкий выстрел, замедленность речи и движений исчезла. И если минуту назад он исключал Лиду из враждебного мира, то теперь он мгновенно лишил ее иммунитета.
– Мне ничего не надо, – сказала Лида, – и не я вас сюда пригласила на исповедь. Спокойной ночи, Матвей Ипполитович.
– Господи, Лида, вы не так меня поняли, – спохватился Матя. – Я вам все расскажу – эта чертова подозрительность! У меня нервы натянуты, как будто на каждом по пудовой гире висит. Эта женщина требовала, чтобы я признался в том, что участвовал в одном инциденте… а я не помню, не помню я, и все тут!
– Ага, вот вы где скрываетесь! – К ним из гостиной шел Алмазов.
Лидочка могла поклясться, что во время танцев его в гостиной не было. Он мог скрываться в буфетной и тогда слышал все, что говорилось Матей и подавальщицей… А мог спуститься по задней лестнице…
Матя пошел навстречу Алмазову, преграждая тому путь к Лидочке.
– Что вам от меня нужно, Ян Янович? – спросил он. – Я к вашим услугам.
– Ну и отлично, – сказал Алмазов. – Надеюсь, что вы не секретничали с Иваницкой?
– Мы говорили о любви и погоде.
– Отлично. И больше ни о чем?
И о том, что вы умеете появляться там, где вы не нужны, чуть было не сказала Лидочка. Но сдержалась.
– Спокойной ночи, – сказала Лида.
– Ну почему вы нас так рано покидаете? – сказал Алмазов, даже не стараясь казаться искренним. Он взял Матю под руку и повел в сторону, толкнул дверь в бильярдную – там было темно. Не отпуская руки физика, зажег там свет, затем обернулся и сказал Лидочке, широко улыбаясь: – Спать, спать, пошла спать!
Подходя к лестнице, Лидочка обернулась – Алмазов усаживал Матю на диван, на котором скончался философ Соловьев, – с дивана Алмазову было удобно смотреть на дверь. А то, что сам факт такого вечернего разговора мог кого-то удивить, Алмазова, видно, уже не беспокоило.
«Пожалуйста, – подумала Лидочка, поднимаясь по лестнице. – Мне надоели ваши тайны, я не хочу в них участвовать. Если бы Пастернак завтра позволил, я бы пошла с ним пешком по грязи до Калужского шоссе». Лидочка остановилась у своей двери. Как бы переехать в другую комнату? Она ведь никому не мешает, она только просит, чтобы ее соседка не меняла так часто и так шумно своих любовников. Это же какой-то Казанова в юбке!
Лидочка постучала. Не исключено, что после всего происшедшего Марта рыдает на своей девичьей койке.
Никто не ответил.
Лида вошла, свет зажигать пока не стала, а спросила:
– Марта, вы здесь?
Марты в номере не было. Но это еще ничего не значило – Марта могла появиться, и не одна. Лидочка попыталась увидеть в этом забавную сторону, но настроение не располагало к юмору.
Лидочка посмотрела на фосфоресцирующий циферблат часов. Одиннадцатый час. Почему же не бьет гонг? Он должен бить в десять. Потом она зажгла лампу. Тусклая лампа висела под самым потолком, и от этого комната становилась казенной и недружелюбной. Как палата в бедной больнице.
Переодевшись в халатик, Лидочка отправилась в умывальную – надо было помыть волосы, но, наверное, в душе опять нет горячей воды, завтра возьму на кухне – в кастрюле… ах уж эта кастрюля, скорей бы Полина приходила за своей.
Лидочка вошла в умывальную. Там лампа тоже светила тускло, но, отражаясь от кафеля стен, свет казался живее.
Как только Лидочка закрыла за собой дверь, дверца в душевую кабинку открылась, и оттуда выскользнула Полина.
– Ой, – сказала она, – я уж и не чаяла, что вы придете.
– Я сейчас отдам, – сказала Лидочка, стараясь не показать, как напугана неожиданным появлением Полины.
– Спасибо, что сберегли, – сказала Полина. – Ведь теперь мало кто захочет помочь.
– Подождите, я только умоюсь.
– А вы не торопитесь, – сказала Полина, – я хотела вас предупредить, что завтра ее возьму.
– Почему?
– Сегодня ночью они у меня обыск устроят – они меня так не отпустят. Я пришла вам сказать – если со мной что случится, оставьте себе.
– Спасибо, мне ничего не нужно.
– Это большая ценность.
– Возьмите кастрюлю, спрячьте где-нибудь в парке – парк громадный, в нем не то что кастрюлю, человека можно спрятать.
– Нельзя, – сказала Полина, – они увидят, как я в парк пойду. Они следят за мной.
– А сейчас?
– А сейчас как следить? С улицы не увидать, а если кто войдет, мы с тобой сразу увидим. Слушай, а как тебя звать?
– Полина, зачем вы притворяетесь крестьянкой? Это же не ваш язык, не ваши манеры.
– Какой был мой язык и мои манеры – забыто. Об этом и разговор…
Настроение Полины, до того деловое и связанное с сохранностью кастрюли, вдруг резко изменилось. Кастрюля ее перестала интересовать.
Полина отошла к окну, замазанному до половины белой краской, как в вокзальном туалете, и привстала на цыпочки, заглядывая в темноту.
– Сколько лет прошло, а он здесь, живой и сытый, – других уже давно постреляли, а он живет. Ты говоришь, почему у меня чужая речь, – а она моя. Я отвыкла от другой.
И она продолжала говорить, не оборачиваясь, словно обращаясь к кому-то снаружи.
– Вы меня осуждаете? Я кажусь вам недостаточно благородной? Допускаю. Но у меня нет иного выхода. Мне не выбраться из этой страны, я обложена, как дикий зверь, и мне не от кого ждать милости. Почему я должна быть милостивой к нему? Он пожалел меня, девчонку! Я не прошу чрезмерной платы за мое молчание. Нет, не прощение, прощение он может вымолить только у Господа. Но молчание могу подарить и я.
Полина отвернулась от окна. В тени надбровий ее глаза казались бездонными ямами.
– Я не знаю, о ком вы говорите, – сказала Лидочка.
– В девятнадцатом добровольческая армия отступала, нас эвакуировали из Киева – Петроградский Елизаветинский институт. Кем мы были? Курятник голодных, обносившихся, постоянно перепуганных, но уже привыкших к такой жизни цыплят, не забывших, что есть иная жизнь, и молящих Бога о возвращении в прошлое, чтобы не было хуже. Наше путешествие началось еще зимой восемнадцатого года, когда детям враждебных элементов не давали пайков. Тех, у кого были родственники, разобрали по домам, а сиротам на казенном коште, нищим эксплуататорам трудового народа, ничего не оставалось, как бежать из Петрограда. Кто-то из таких же, как и мы, бездомных преподавателей раздобыл два вагона, и наш институт добрался до Киева. Там пожили, то получая милостыню неизвестно от кого, то подрабатывая – старшие научились торговать собой, – а почему нет? Меня они не взяли – слишком была худая и некрасивая. Они не себе зарабатывали, они для всех зарабатывали – вы не представляете, какие мы бывали счастливые, потому что в том аду мы были вместе и заботились друг о дружке. Уже осень кончалась – красные опять в Киев пришли, – и нашей Марии Осиповне Загряжской, даме-директорше, стало ясно: надо бежать в Екатеринослав – на что она надеялась, я не знаю. Мы радовались, что будет тепло, говорили, вот поживем в Екатеринославе, нас там ждут, уже квартиры подготовлены и жизнь сытая, – а там дальше, к морю, в Новороссийск. Мы немного до Екатеринослава не доехали. Вы курите?
– Нет.
– Ладно, потерплю. Значит, я помню, как поезд остановился, ночь была. Я проснулась от ужаса – еще ничего, только голоса снаружи, кто-то проходит мимо нашего состава. Потом тихо. Понятно, что мы на станции стоим. Поезда подходят, кто-то нас обогнал. Другие девочки не просыпались. Наш поезд дернулся, поехал, я сначала думала – дальше, а оказывается, нас перегнали на какой-то десятый запасной путь. Но все равно почти все спали. Нельзя же всю жизнь бояться. А мне не спалось. Мне бы одеться, взять узелок и уйти – это я теперь понимаю: как чувствуешь опасность – сразу вставай и уходи, никогда не разбирайся где, кто, – бросай все и уходи. А тогда не сообразила, не знала, еще маленькая была, четырнадцать лет. Мне тоже тепло было, уютно – зачем вставать и уходить. Я на второй полке лежала, на животе, смотрела в окно. Увидела, как рядом с нами другой состав остановился – вот темно было, снег с дождем, 29 декабря 1919 года – как раз под Новый год. Я смотрела на поезд и не понимала, что в нем особенно праздничного, а потом поняла – окна. В нем все окна горели электрическим светом и были прикрыты шторами – как до революции, даже ярче. Спереди и сзади платформы с пушками, а в центре новые пульмановские вагоны. Из поезда стали выскакивать солдаты – без погон, большей частью в кожаных куртках. Я не догадалась, что это красные, – у них фуражки были кожаные, а звездочки маленькие – я не разобрала. Некоторые вдоль состава побежали, кто-то в нашу сторону. И тут я слышу, как по коридору быстро идут – это те, в куртках. Мне бы хоть тогда испугаться, а я и тогда не испугалась. Я же не знала, что мы встретились с поездом вождя Троцкого, а люди в коже были его охраной.
– При чем тут Троцкий? – спросила Лида тихо, оборачиваясь на дверь, потому что имя это было запретным, смертельно опасным.
– Ни при чем, – отмахнулась Полина. – Я его и не видала. Они к нам по делу пришли – проверяли состав, ведь на соседнем пути с самим командующим, – а вдруг мы диверсию устроим? Они к нам в купе заглянули, посветили фонариком и дальше пошли. А я тут совсем проснулась и чувствую, какая я голодная. Я и говорю Таньке – не помню уж ее фамилии, – она старше меня была: пойдем к господам военным, попросим чего поесть. Мы с ней уже так делали, и другие девочки тоже.
Надо было сиротками казаться… А что казаться, мы и были сиротками. Нас жалели и не трогали. Девочек не так часто трогали, как теперь говорят… Тебе скучно?
– Нет, говорите.
– Мы оделись, выскочили из вагона, а они там стояли, курили. И среди них ваш Матя стоял. Матвей Ипполитович.
– Шавло? Не может быть!
– Он самый.
– А что он там делал?
– Что и все – курил, анекдоты травил. Что молодежь делает ночью, если спать не велят?
– Ну почему вы так уверены, что это был именно он?
– А потому, что люди не меняются. Это только в романах жена мужа через двадцать лет узнать не может. А в жизни ты никого не забываешь. Да он и не изменился особенно – тогда ему лет двадцать было. Только без усиков. Мы к ним подошли и говорим, нет ли чего покушать. С ними Татьяна разговаривала – она постарше. Тогда твой Матя засмеялся и говорит, чтобы мы через полчаса к пакгаузу приходили – и показал куда. Они нам вынесут.
– И вы не испугались?
– Ты, видно, никогда голодная не была.
– Была.
– Тогда молчи. Если человек очень голодный, у него осторожность отказывает… Приходите, говорят, через полчаса, ваш поезд никуда не уйдет, мы уже Екатеринослав берем, сейчас у себя чего поесть сообразим и вам принесем. Через полчаса мы пришли, с нами Ирка третьей пошла. Мне бы не надо связываться с девицами, они же почти что взрослые, лет по шестнадцать, а я еще ребенком была, но, конечно, увязалась, потому что была голодная и не боялась. Мы пошли с ними в этот пакгауз, а там какие-то тюки были и стол, а на столе они поставили бутыль самогона, сало и хлеб – они без обмана. Мы вместе с ними ели, они только велели, чтобы мы не шумели, потому что у них начальник строгий, если что, он их выгонит или расстреляет, итальянская фамилия, я точно не помню – они Троцкого редко называли, он для них был вроде бога, где-то высоко, но они сказали, что, если мы будем кричать и его побеспокоим, они нас зарежут. Но чего резать, их много было, человек десять, а нас трое, они тоже молодые были, а когда выпили, то полезли нас насиловать, но не дико, а как будто был раньше уговор – моим подругам было легче, они уже не девочки, а мне всего четырнадцать, и мне очень больно было, но, когда я хотела кричать, твой физик – он стоял, своей очереди ждал, – он мне саблю показал и смеялся, а я плачу, прошу: дяденька, не надо, мне больно, а он смеялся, нервничал, очереди ждал… дождался! Они нам потом с собой сала дали, для девочек. Мы дальше Екатеринослава не пробрались тогда, я только следующим летом в Бердянск попала, когда там уже Врангель был. Оттуда на юг, в Батум, там у нас домик с братом остался.
– А Матвей Ипполитович? – спросила Лидочка.
– Что? Чего хочешь знать? Он мне как бы первая любовь, только без спросу.
Лидочка знала, что Полина не врет. Так все и было. И может, трудно теперь обвинять этих молодцов – они же не знали, что хорошо, а что плохо, они даже девочек накормили… «Что я говорю? Я могла бы очутиться там, на пыльных мешках, в пакгаузе, а любимый ученик Ферми грозил бы сабелькой – молчи!»
– А он вас узнал? – спросила Лида.
– Не знаю. Но я ему напомнила! Он говорит – не помню. А я думаю – все помнит!
– Вы ему сказали? Зачем?
– Потому что он мне нужен. Потому что он испугается за свою карьеру и поможет мне выбраться живой отсюда.
– А если он скажет, что ничего не было? Да и какое может быть наказание: девушка говорит, что он изнасиловал ее на фронте гражданской войны. А вам скажут – ничего особенного.
– Глупая ты, Лидия, – сказала Полина. – Я не знаю, чего ему здесь нужно, но не зря он вокруг гэпэушника вертится. А что, если завтра станет известно, что твой Шавло был охранником Троцкого? И не важно – насиловал, не насиловал, главное – Троцкий. И он это понимает.
В этот момент за спиной что-то скрипнуло. Лидочка даже не поняла что, но Полина метнулась – прыгнула к кабинке, – рванула дверь, крючок в сторону – а там, внутри, съежившись, сидела на стульчаке Альбина, глаза нараспашку.
Альбина не могла отвести испуганных глаз от Полины и, поднимаясь и натягивая штанишки, повторяла:
– Я нечаянно здесь, я нечаянно, я только вошла, а потом вы здесь говорите, а мне выйти было неудобно, вот я и терпела, извините, я здесь нечаянно.
И, беспрестанно говоря, Альбиночка запахнула халатик – шелковый китайский с драконами, такие за большие деньги привозили с КВЖД, и, уже не оглядываясь, побежала к двери.
– Зря я ее отпустила, – сказала Полина.
– А что было делать?
– Придушить, сразу придушить. Она все слышала. И про кастрюлю, и про Матвея Ипполитовича.
Полина еще не кончила говорить, а Лидочка уже была в коридоре – халатик Альбины сверкнул возле лестницы.
– Альбина, – позвала Лида, стараясь говорить внятно и тихо.
Альбина остановилась, словно ждала этого.
– Вы одна? – спросила она. – Тогда не страшно.
– Я прошу вас, – сказала Лида.
– Вы думаете, что я ему расскажу? – удивилась Альбина – брови полезли по гладкому лобику. – Ни в коем случае!
– Я вам так благодарна.
– Хотя мы с вами узнали такие ужасные вещи! – прошептала Альбина. – Об этом, наверное, должна знать милиция.
– Нет!
Следуя взгляду Альбины, Лида повернула голову – Полина стояла зловещей тенью у приоткрытой двери туалетной. Лидочка махнула ей рукой – уходи!
– Какая ужасная жизнь у людей, – прошептала Альбина. – А вы могли такое представить про Матвея Ипполитовича?
Дверь рядом приоткрылась – неизвестно кому принадлежащий голос изрек:
– Гонг был уже давно. Постарайтесь соблюдать тишину в общественных местах.
– Завтра все надо будет обсудить, – сказала Альбиночка. – Хорошо?
– Хорошо.
– Я только вам здесь доверяю. Как ужасно – кто-то покажется тебе приятным человеком, а он окажется насильником.
С этими словами Альбина убежала вниз по лестнице, а Лидочка еще некоторое время стояла неподвижно, потому что не могла разобраться в своих мыслях. Ей хотелось поверить Альбине, и она даже надеялась, что Альбина искренне говорила с ней. Ведь никто, кроме Лидочки, не знал, кто такая Альбина на самом деле и как она страдает от своего унизительного положения.
Расставшись с Альбиной, Лида вернулась в туалетную, но Полины не застала – жаль, могла бы немного и подождать. Тем более когда Альбина знает о кастрюле, спрятанной в комнате у Лиды. Если остается хоть маленькая опасность, что Альбина – вольно или невольно – проговорится Алмазову, то Лидочка окажется в опасности. Выбросить бы эту кастрюлю…
Лидочка дошла до конца коридора, заглянула на лестницу – Полины нигде нет. Пойти спать? Совершенно не хочется – ни в одном глазу. Снизу доносилась тихая музыка – неужели еще кто-то танцует? Лида начала было спускаться по лесенке вниз, к кухне, но тут музыка оборвалась. И Лида поняла, что никого не хочет видеть. Что она смертельно устала за этот день – если бы она знала, что хотя бы за час сможет добраться до трамвая, до какой-нибудь телеги, которая привезет ее в Москву, она бы не испугалась дождя и ветра – только бы отделаться от тягучей действительности, от ощущения, будто ты упала на дорожку из размокшей глины, набирая скорость, скользишь под уклон, стараясь уцепиться за мокрые травинки по сторонам. Но разве так остановишься – а внизу гладкая поверхность омута, черного в тени стволов, так и ждет, когда ты влетишь в пруд.
Лидочка вернулась к себе, по дороге заглянула в докторский кабинет. Дверь в него была приоткрыта, Лариса Михайловна, освещенная слабым светом настольной лампы, спала на кожаном диванчике, подтянув ноги. В Узком рано ложились и рано вставали. Лида поглядела на свои часы – половина одиннадцатого, – а кажется, словно далеко за полночь.
По парадной лестнице кто-то поднимался. Лида увидела, как в коридоре появился президент Филиппов, который нес, прижав к животу, патефон, за ним шла, осторожно ступая, Марта, несла пластинки в бумажных конвертах. Свободной рукой она то и дело взбивала волосы – видно, была пьяна.
– Лида, ты почему не спишь? – спросила она, увидев соседку. – Гонг уже звучал. Товарищ Филиппов тобой недоволен!
Филиппов зашагал быстрее, будто старался показать Лиде, что незнаком с Мартой.
– Вы идите, идите, – сказала Марта, – я принесу пластинки через три минуты!
И при этом она локтем отталкивала Лиду к двери в их комнату и делала страшные глаза – впрочем, ей и не стоило для этого особо напрягаться – глаза блестели воодушевленно, и вряд ли какие соображения, этические, моральные, либо устрашение могли бы остановить Марту, которая намеревалась – в том у Лиды не было никакого сомнения – подарить свое тело товарищу президенту Санузии, чего ей не удалось сделать днем. «Только бы не в нашей комнате, – мысленно заклинала Лидочка, – я так хочу лечь в постель». Она об этом искренне мечтала, совершенно забыв о том, что всего три минуты назад ей вовсе не хотелось заходить в комнату.
Остановившись в дверях, Марта прошептала:
– Я только отнесу ему пластинки, он такой беспомощный, все мужчины такие беспомощные.
Мысль о беспомощности мужчин страшно развеселила Марту. Лидочка, хоть и зажатая в дверях, видела через плечо Марты, как президент на цыпочках пробежал полосу света, падавшую в тускло освещенный коридор из докторского кабинета, и замедлил движение у лесенки, откуда был поворот в маленький коридорчик к комнате президента санатория.
– Ты дверь не запирай, – продолжала жарко шептать Марта, обдавая Лидочку запахом портвейна. Лида отворачивалась, но Марта этого не замечала. – Я через час вернусь, а может, позже, но ты спи, не обращай внимания, он очень страстный, ты же знаешь, какие страстные эти худенькие! – Мысль показалась Марте и вовсе забавной, и она начала смеяться высоким голосом. И Лида сказала:
– Вы идите к нему, а то всех разбудите.
– Кого еще всех?
Сказано это было тоном фаворитки, которая отныне не намерена считаться с удобствами прочих чинов двора.
– Там Лариса Михайловна, – сказала Лида, показав на полосу света из докторского кабинета.
– А мне что? Я имею право гулять где хочу! – сказала Марта, но уже не так уверенно. – Значит, не запирай, хорошо, птичка?
Лида не стала напоминать Марте, что дверь в комнату не запирается, так как Марта знала об этом лучше, чем Лида, хотя умудрялась об этом забывать.
Марта поцеловала Лидочку в щеку и оттолкнулась от нее, как пловец от стенки бассейна, чтобы лучше и быстрее доплыть до финиша. Она прошла по центру коридора, стараясь не сбиться с установленной мысленно прямой линии, и оттого ее бросало от стены к стене. Но Лида решила не смотреть, доберется ли Марта до объятий президента. Она вытерла щеку от Мартиной помады, закрыла дверь, зажгла тусклую лампу под потолком. Лида улеглась в постель, открыла книжку и тут же поняла, что читать не хочется. Она вскочила, босиком добежала до выключателя. В комнате стало так темно, что перед глазами вспыхнули белые круги. Нащупав постель, Лидочка улеглась и закрыла глаза. Но перед глазами плыли сцены и люди прошедшего дня, впрочем, они уже не пугали и не вызывали отвращения – если их всех понять, то они не такие плохие… кровать превратилась в темный вагон, колеса постукивали на стыках рельсов, по коридору шли какие-то люди, не видные, но слышные по шагам и разговору, Матя заглянул в купе и склонился к Лиде. «Не спишь? – спросил он. – Мне придется лечь с тобой, потому что иначе они подумают, что ты одна, и я не смогу тебя защитить от иудушки Троцкого». Лидочка испытывала радостное и благодарное чувство к Мате, который рисковал навлечь на себя гнев самого военкома, но остался. Матя обратился к ней лицом, Лидочка попыталась обнять его, но на Мате была такая скользкая кожаная куртка, что ее руки соскальзывали с его спины, и от этого возникало раздражение – он сейчас уйдет. Лидочке хотелось попросить Матю, чтобы он снял эту проклятую куртку, но она знала, что он охраняет товарища Троцкого и поэтому не имеет права снять куртку, но никому нельзя было сказать это слово: «Троцкий». Это страшное слово, и оно означает вовсе не человека, и некогда было придумать, что же оно значило. Лидочка боролась с проклятой курткой – ну как ее снимешь? Матя помогал ей, но без особой охоты, потому что он был на службе и ему нельзя было снимать куртку. Ну вот наконец-то пальцы Лиды дотронулись до плеч Мати – только бы кто-нибудь не вошел в дверь! И как будто сглазила! – вагон дернулся, дверь с грохотом поехала в сторону, и в дверях возник сам товарищ Троцкий в черной маске…
Лида проснулась, продолжая оставаться в страхе, и ей все еще казалось, что она в вагоне – только поезд стоит. Она осторожно двинула правой рукой, словно желая удостовериться, там ли Матя, или он успел убежать, – и почти одновременно облегчение оттого, что Матя убежал от гнева товарища Троцкого, сменилось внутренним пониманием, что все это был лишь сон, а на самом деле она лежит у себя в комнате в Узком и проснулась она от шума – от того, что кто-то вошел в комнату. Сейчас-то было тихо, совсем тихо, но она точно знала, что ее разбудил кто-то вошедший сюда. И этот человек не хочет, чтобы она его услышала.
Надо было подняться и выгнать этого человека… Или хотя бы закричать. Ведь она не в пакгаузе каком-нибудь, а в санатории ЦЭКУБУ, наполненном народом, как банка селедкой, – сейчас закричу, и все станет на свои места. Но она не кричала, потому что кричать неловко, только такие невоспитанные люди, как Марта Крафт, могут закричать посреди ночи и всех перепугать. Вместо этого надо спокойно встать с постели и посмотреть, кто там вошел к ней в комнату.
Убедив себя в этом – на это ушло, наверное, секунды две-три, – Лида поняла, что сделать этого никогда не сможет. Слишком страшно. Она продолжала лежать неподвижно, стараясь уловить в тишине дыхание пришельца и предвосхитить его опасное движение. Подушка была невысока, и, лежа на спине, Лидочка видела только потолок и верхнюю часть дальней стены, но даже по этим деталям она поняла, что дверь в комнату приоткрыта, – на потолок и стену падал отсвет коридорной лампы.
Наконец Лиде, как ей показалось, удалось в почти беззвучных, но многочисленных шепотах старого дома различить быстрое дыхание человека. Он стоял и ждал чего-то. Не решается броситься на нее?
Дальнейшее бездействие было совершенно невыносимо, потому что чужой беззвучно приближался на расстояние броска – и у него был нож! И Лидочка скорее инстинктивно, нежели по велению разума, приподняла голову, склонив вперед шею – сама оставаясь неподвижной, – и увидела светящуюся щель в двери, которая была перекрыта черной тенью человека. Он стоял у двери, он не смотрел на Лиду, он был далеко от нее и смотрел наружу – значит, он шел по коридору, почему-то захотел спрятаться – и спрятался в комнате Лидочки. Правда, это было самоутешением, – скорее всего он выглядывал в коридор, чтобы убедиться, что там никого нет, а затем обратить свои подлые лапы против беззащитной Лидочки.
Но раз человек был у двери и в один прыжок ему до Лиды не добраться, Лида решила спрятаться под кроватью – она не придумала ничего лучше. Да и не было в комнате другого места, чтобы спрятаться. Окно заперто, а путь к двери перекрыт насильником.
Для того чтобы спрятаться под кровать, надо с нее слезть. Лидочка осторожно села и спустила ноги на пол, а кровать отозвалась на это осторожное движение дружным визгом всех своих пружин. Таким громким и наглым, что Лидочка спрыгнула с кровати и кинулась к окну, а насильник издал приглушенный звук, открыл дверь и выскочил в коридор. Дверь закрылась, и стало совершенно темно. Слышно было, как по коридору простучали шаги насильника, но куда они простучали и что было потом, Лидочка не знала, потому что в ушах у нее кровь стучала громче шагов.
Лида не знала, сколько она простояла неподвижно, ожидая, когда насильник вернется, чтобы довершить свое гадкое дело, но тут до нее дошло, что это – далеко не лучшая линия поведения. Она поняла также, что у нее есть два выхода – либо бежать из комнаты, либо забаррикадировать дверь. Можно, конечно, было сходить к президенту и вытребовать назад Марту, но, вернее всего, этим она огорчила бы и президента, и Марту.
Так что Лида избрала второй путь и пошла к двери, чтобы ее забаррикадировать. Для этого она взяла тот стул, что стоял у окна, и одновременно стала подталкивать к двери тумбочку. Ведь если поставить стул на тумбочку, то, открывая дверь, насильник устроит такой шум, что снова убежит.
Толкая перед собой тумбочку и держа над головой стул, Лидочка почти дошла до двери, когда натолкнулась на неожиданное препятствие.
Нечто мягкое и податливое заполнило проход в комнату и не давало тумбочке продвинуться вперед.
Не догадываясь, что это могло быть, Лидочка поставила стул на пол, обошла тумбочку и протянула вперед руку. И рука ее натолкнулась на чуть теплое человеческое лицо.
Почему-то первая мысль – может, оттого, что мозг всегда норовит изгнать из себя самое страшное, – была такая: «Ну вот, такой пьяный, что заснул!» Рука скользнула по волосам – волосы были длинные, голова под давлением руки бессильно свалилась набок – Марта? Это Марта вернулась домой в таком виде?
Лидочка хотела зажечь свет, но мешали тумбочка и стул – проще было дотянуться до двери и толкнуть ее, чтобы разглядеть Марту. Лидочка уже догадалась, что в роли насильника выступал президент. Он дотащил свою подругу до комнаты, а потом сбежал. Внутренне улыбаясь оттого, что страшное пробуждение завершилось таким обычным анекдотом, Лидочка толкнула дверь, дверь отворилась. Лидочка хотела сказать: «Марта, пора спать».
И в тот же самый момент она поняла.
Во-первых, что на полу неловко сидит, как брошенная мягкая кукла, подавальщица Полина.
Во-вторых, Полина мертва. Глаза ее были приоткрыты, и видны полоски белков, да и сама голова склонена так, как не может склонить голову живой человек.
Глава 4
Утро 24 октября 1932 года
Потом уж Лидочка удивилась – почему она не закричала? В таких страшных ситуациях положено кричать, звать на помощь, бежать по коридору с распущенными волосами, фактически неглиже… Трудно поверить, но Лидочку остановили и заставили молчать вовсе не уроки, полученные от жизни, а мысленный взгляд на саму себя – она же была в одной ночной рубашке, босиком, взлохмаченная, – возможно, в подобном виде и положено бегать по ночным коридорам с криком: «Убили-и-и!» – но женщины хорошо воспитанные себе этого не позволяют.
Следовательно, надо было вернуться к кровати, нащупать висящий на ее спинке халатик, желательно сделать еще два шага к зеркалу и причесаться – и все это сделать в присутствии трупа женщины, с которой ты только что разговаривала. Нет, двигаться можно было только в одном направлении – в коридор, прочь из комнаты. Но в коридор идти было нельзя по той простой причине, что где-то там таился убийца, желавший в первую очередь убрать свидетеля – то есть Лидочку.
Раздираемая этими мыслями и страхами Лидочка стояла, замерев над телом Полины.
Так прошло, может быть, несколько минут, а может – несколько часов.
Время остановилось – в доме не было ни звука, за окнами не шумел ветер… Лидочка попала как бы в центр подводного сна – вокруг зеленая темная вода и ни звука.
Убийца не возвращался. Может быть, он стоит поблизости? Надо бежать из комнаты. Лидочка заставила себя сделать два быстрых шага к кровати, схватить халатик и сжать в кулаке. Это движение, удавшись, вселило в нее какую-то толику уверенности в себе – оказалось, ноги подчиняются, руки движутся, глаза смотрят… Теперь бы дойти до двери – вертикальная, шириной в ладонь полоса света щель притягивала Лиду, как бабочку фонарик. Так и не надевая халатика, она шагнула было к двери, но тут же нога натолкнулась на заголенную ногу Полины, еще хранящую остаток тепла. Не отдавая себе отчета, Лидочка подпрыгнула и отлетела назад. Сердце колотилось как сумасшедшее, воздуха не хватало. Лидочка постаралась считать, чтобы успокоить сердце, и досчитала до пятидесяти – ей был виден склоненный набок четкий профиль Полины. «Никто уже никогда не поцелует эти губы… Что я думаю, что я несу! Мне же надо бежать!»
Лидочка досчитала до пятидесяти. И снова двинулась к двери. На этот раз она осторожно перешагнула через Полину и замерла, схватившись за ручку двери.
В коридоре тихо…
Лида прижала лицо к щели. Направо коридор был пуст. Теперь надо приоткрыть дверь пошире, высунуть голову в коридор и поглядеть в другую сторону.
Лида потянула дверь на себя, и дверь неожиданно заскрипела. Лида снова замерла. Она подумала: «Вот я сейчас увижу, что коридор пустой. А дальше что? Куда я побегу? К кому?»
Алмазов? Ему по должности надо бы оказаться здесь первым. А может, это он оставил тело убитой Полины здесь, потому что Альбиночка все рассказала ему и теперь он хочет погубить Лиду? Может быть, позвать Матю? А что, если убийца и есть Матя? Полина пригрозила его разоблачить – он испугался…
Бежать к президенту и стаскивать его с Марты?
Нет… спасительным облегчением возникла самая простая и естественная мысль – дежурная докторша Лариса Михайловна!
Лидочка накинула халатик и со смешанным чувством страха и облегчения выскользнула в слабо освещенный дежурной лампочкой, над лестницей, коридор, который с другой стороны тонул в полной темноте, и именно оттуда за ней наверняка наблюдал убийца.
Но если он и наблюдал, то кинуться на нее не посмел – понимал, что у Лидочки будет время закричать и, может, даже убежать.
Ступням было холодно – оказалось, Лидочка забыла обуться.
До кабинета врачихи – четыре двери. Между дверями по три шага – казалось бы, всего девять. Но их надо пройти, а спину тебе сверлят глаза убийцы: путь до кабинета Ларисы Михайловны казался бесконечным.
Лидочка добежала до кабинета на цыпочках. Дверь была закрыта, Лидочка легонько ткнулась в нее – не открывается. Лидочка нажала сильнее – ручка послушно повернулась вниз, но дверь была заперта. Как же так! Лидочка даже рассердилась – ведь доктору положено оставаться рядом с больными. Куда могла уйти Лариса Михайловна?
Лидочка постучала костяшками пальцев. Изнутри никто не отозвался.
Тревога заставила через плечо поглядеть в черную даль коридора. Показалось, что там кто-то шевельнулся.
Лидочка в отчаянии трясла дверь. Конечно же, заперто!






