Владимир Высоцкий: козырь в тайной войне Раззаков Федор
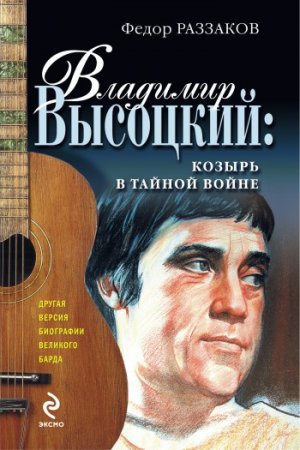
Как и положено умудренному царедворцу, писатель поступил хитро, завуалировав истинную суть любимовского творения под следующими словами: «Я давно не видел спектакля, в котором так непримиримо, в лоб, именно в лоб… били по капиталистической идеологии и морали и делали бы это с таким талантом».
Спустя неделю эстафету подхватил другой либерал – уже знакомый нам театральный критик Борис Поюровский, который со страниц «Московского комсомольца» (номер от 15 декабря) заявил следующее:
«Спектакль этот не имеет права на такую короткую жизнь, какая бывает у всех дипломных работ. Потому что в отличие от многих других „Добрый человек из Сезуана“ у щукинцев – самостоятельное и большое явление в искусстве. Нельзя допустить, чтобы режиссерское решение Ю. Любимова кануло в вечность весной предстоящего года, когда нынешний дипломный курс окончит училище».
Наконец, в начале следующего года во второй газете страны – в «Известиях» (номер от 19 января 1964 года) – вышла статья критика Н. Лордкипанидзе, где он поддержал призыв Симонова и Поюровского о том, чтобы Любимов и его ученики «не расставались». В итоге власти приняли решение отдать недавним щукинцам и их учителю театр в центре Москвы – «Таганку». Приказ об этом был подписан в Моссовете 18 февраля 1964 года.
Отметим, что появление любимовской авангардистской «Таганки» совпало со скандалом, который случился в Малом театре – оплоте традиционного русского театрального искусства. Этот скандал назревал давно, еще с 62-го, когда туда пришел новый главный режиссер – молодой (39 лет) Евгений Симонов (сын руководителя Вахтанговского театра Рубена Симонова, представитель все той же либеральной фронды). Как напишет в своих дневниках актер Малого театра, киношный Чапаев Борис Бабочкин: «Назначение молодого Симонова – это, конечно, акт вандализма… Теперь это уже не Малый театр, а кафе „Юность“…»
Спустя полтора года это назначение аукнется Малому театру тем, что с поста директора будет освобожден откровенный русофил Михаил Царев. А в Союзе кинематографистов будет смещен со своего поста другой деятель русских кровей – Иван Пырьев (на его место чуть позже придет человек с еврейской кровью – Лев Кулиджанов). Все эти рокировки (включая и создание «Таганки»), выпавшие на последнее полугодие правления Хрущева, ясно указывали на то, что активнейшая борьба между либералами и державниками продолжается и в ней первые явно ломят вторых. Судя по всему, смещение Хрущева, который, видимо, начал все больше склоняться в своих симпатиях к либералам (отметим, что его зятем был один из их молодых лидеров – Алексей Аджубей, возглавлявший газету «Известия»), в немалой степени было связано и с этим тоже (о чем либеральная историография сегодня старается не упоминать).
Но вернемся к Высоцкому.
Спустя полгода после появления на свет любимовской «Таганки» он был зачислен в штат театра. Все началось в конце августа, когда, вернувшись в Москву со съемок в Латвии, Высоцкий узнал о возникновении нового театра. И ему, видимо, наслышанному о том, ЧТО это будет за театр, захотелось непременно попасть в его труппу. В качестве протеже выступили коллеги Высоцкого Станислав Любшин и Таисия Додина, которые привели его на показ к Любимову. Вспоминая тот день, режиссер позднее рассказывал: «Показался он так себе… можно было и не брать за это. Тем более за ним, к сожалению, тянулся „шлейф“ – печальный шлейф выпивающего человека. Но я тогда пренебрег этим и не жалею об этом».
Почему же Любимов взял к себе посредственного артиста Высоцкого, да еще с подмоченной репутацией? Сыграла ли здесь свою роль внутренняя интуиция большого режиссера или было что-то иное? Л. Абрамова объясняет это следующим образом:
«Любимову он был нужен для исполнения зонгов. Он хотел перенести „Доброго человека из Сезуана“ на сцену театра, чтобы театр потерял студийную окраску, чтобы он стал более брехтовским… Снять эту легкую окраску студийности, которая придавала спектаклю какую-то прелесть, но не профессионально-сценическую. Вместо этой свежести Любимов хотел высокого профессионализма. И он искал людей, которые свободно поют под гитару, легко держатся, легко выходят на сцену из зала… Искал людей именно на брехтовское, на зонговое звучание. Как раз это делал Володя. Это никто так не делал, вплоть до того, что брехтовские тексты люди воспринимали потом как Володины песни…
Володя пришел на «Таганку» к себе домой. Все, что он делал, – весь свой драматургический материал, который он к этому моменту наработал, – все шло туда, к себе домой. И то, что они встретились, что их троих свела судьба: Любимова, Губенко и Володю… – это могло случиться только по велению Бога».
Итак, Абрамова считает, что немалую роль в решении Любимова сыграло песенное творчество Высоцкого. Значит, режиссер был с ним знаком (пусть и шапочно) и оно его не испугало, а даже наоборот – привлекло. Думаю, пой Высоцкий какие-то комсомольские песни – и не видать бы ему «Таганки» как своих ушей. А блатная лирика, как уже отмечалось, в интеллигентской среде ценилась, поскольку расценивалась как своеобразный протест против официального искусства. А «Таганка» Любимовым прежде всего и задумывалась именно как протест против официально узаконенного социалистического реализма.
Актер театра Вениамин Смехов, восторгаясь Любимовым, писал в начале 70-х в пролиберальном журнале «Юность»: «Фойе нашего театра украшают портреты Станиславского, Вахтангова, Мейерхольда, Брехта. Без всякого ложного пафоса, с чутким пониманием к наследию, но живо, по-хозяйски деловито – так ежедневно утверждает Юрий Любимов свою театральную школу…»
Здесь Смехов лукавил, поскольку сказать правду тогда не мог. На самом деле портрет К. С. Станиславского появился в фойе «Таганки» вопреки желанию Любимова: он не считал себя продолжателем его идей. Но чиновники из Минкульта обязали режиссера это сделать, в противном случае пообещав не разрешить повесить портрет Мейерхольда, которого Любимов считал своим главным учителем в искусстве. Новоявленный шеф «Таганки» махнул рукой: «Ладно, пусть висит и Станиславский: старик все-таки тоже был революционером».
Детище Любимова с первых же дней своего существования застолбило за собой звание своеобразного форпоста либеральной фронды в театральной среде, поскольку новый хозяин «Таганки» оказался самым одаренным и наиболее яростным аналогом советского «талмудиста» (речь идет о либералах-прогрессистах древнего государства Хазарский каганат, которые вели идеологическую борьбу с приверженцами ортодоксальной идеи – караимами, победили их, но эта победа оказалась пирровой: она подточила идеологические основы каганата, и тот вскоре рухнул под напором внешних сил).
Любимов и от системы Станиславского отказался, поскольку пресловутая «четвертая стена» мешала ему установить прямой контакт с публикой (в кругах либералов тогда даже ходила презрительная присказка: «мхатизация всей страны»). Кроме этого, он отказался от классической советской пьесы, которая строилась по канонам социалистического реализма, отдавая предпочтение либо западным авторам, либо авторам из плеяды «детей ХХ съезда», таких же, как и он, «талмудистов» (Вознесенский, Войнович, Евтушенко, Трифонов и т. д.). Вот почему один из первых спектаклей «Таганки» «Герой нашего времени» по М. Лермонтову был снят с репертуара спустя несколько месяцев после премьеры, зато «Антимиры» по А. Вознесенскому продержались более 20 лет. Почему? Видимо, потому что истинный патриот России Михаил Лермонтов, убитый полуевреем Мартыновым, был режиссеру неудобен со всех сторон, а космополит Андрей Вознесенский оказался как нельзя кстати, поскольку был плотью от плоти той части либеральной советской интеллигенции, которую причисляют к западникам и к которой принадлежал сам Любимов.
В эту компанию суждено было попасть и Владимиру Высоцкому – человеку, имевшему ничуть ли не меньший «зуб» на советскую власть, чем Любимов. По рассказам отдельных очевидцев создается впечатление, что Высоцкий в ту пору был чуть ли не подпольщиком. Вот как, к примеру, вспоминает о его «предтаганковском» периоде жена его двоюродного брата Павла Леонидова:
«У Володи было трудное время, когда КГБ ходил за ним буквально по пятам. И он часто скрывался в нашем доме. Однажды прибежал Паша: „Уничтожай пленки! За Высоцким охотятся!“ И все записи, все песни пришлось уничтожить. Бобины были большие, они были раскручены, и мы мотали, мотали тогда с этих бобин… Ведь вся черновая работа над песнями шла в нашем доме. Приезжал Володя в 2–3 часа ночи в очень тяжелом душевном состоянии, потому что он метался. А он же был искренний, и все это выливалось в песнях. А песня – это была импровизация: садился за гитару и начинал играть. Они писали на стационарном „Днепре“, потом прослушивали и что-то исправляли. А дети были маленькие, и я все время ругалась: „Володя, тише! Я тебя выгоню! Я не могу это терпеть: нас арестуют вместе с вами!..“
В течение года было такое тяжелое состояние. Самый тяжелый период его гонений. Это было до 1964 года, до работы в «Таганке». Дочке Оле было лет 5–6. В час ночи мы закрывались на кухне, и тут он все высказывал нам. Кроме тех песен, что знает народ, были еще песни и другие. И были черновики… и я ходила собирала, и все это сжигалось, выбрасывалось. Уничтожено столько писем, столько записей…
Жили как на пороховой бочке… Приезжал Володя, подвыпивши. Никогда не ел почему-то. Выпивал. Брал гитару, и пошло… Они пели про все, и про советскую власть. Они от этого умирали, наслаждались, я боялась, что кто-то услышит, дрожала…»
С приходом Высоцкого в «Таганку» у него началась новая жизнь, причем во всех отношениях. Знаменательно, что именно в тот переломный для Высоцкого момент он обрубал «хвосты» прошлой жизни: тогда была поставлена окончательная точка в его первом браке – с Изой Жуковой. Как мы помним, два года назад, узнав о том, что муж изменил ей с другой женщиной и та ждет от него ребенка, она прервала с ним всяческие отношения и сбежала в Пермь. Однако в 64-м у Изы случился роман с молодым человеком, который привел к беременности. Молодые собрались пожениться, но для этого Изе требовалось оформить развод с Высоцким. Именно по этому случаю она и приехала в Москву. Кстати, Высоцкому этот развод понадобился еще раньше – когда у него один за другим родилось двое сыновей. Иза шла ему навстречу, высылала в Москву документы, но Высоцкий… каждый раз их терял. Но в сентябре 64-го, когда Иза сама приехала в Москву, все прошло без каких-либо приключений. В мае следующего года у Изы и ее мужа родится сын Глеб.
Тем временем 9 сентября 1964 года Высоцкий был взят по договору на «Таганку» на два месяца во вспомогательный состав с окладом в 75 рублей в месяц. Первый выход на сцену состоялся у него десять дней спустя: Высоцкий подменил заболевшего актера в роли Второго Бога в спектакле «Добрый человек из Сезуана». По причине ремонта старого здания «Таганки» спектакли тогда проводились в Телетеатре на площади Журавлева.
24 октября в Театре на Таганке начинаются репетиции еще одного спектакля – «Десять дней, которые потрясли мир». У Высоцкого в нем сразу несколько ролей: матрос на часах у Смольного, анархист и белогвардейский офицер. В этом же спектакле он впервые выступит в качестве певца – в образе анархиста лихо сбацает еврейские куплеты «На еврейском (он пел – „на Перовском“), на базаре».
На той репетиции присутствовал бывший педагог Высоцкого по театральному училищу Андрей Синявский. В те дни в издательстве «Наука» вышла его книга (в соавторстве с Меньшутиным) «Поэзия первых лет революции», которую он захватил с собой и подарил Высоцкому, сделав на ней трогательную надпись: «Милому Володе – с любовью и уважением. 24.Х.64. А. С.».
Отметим, что Синявский уже несколько лет вел двойную жизнь: писал революционные книги для советских издательств, а также тайно – для зарубежных, антисоветских. Так, в 1959 году это была повесть «Суд», в 63-м – «Любимов» (обе были написаны в жанре сатирического гротеска и исследовали социальные и психологические феномены тоталитаризма, причем – советского), в 64-м – статья «Что такое социалистический реализм». Учитывая, как относился к соцреализму шеф «Таганки», не удивительно, что Синявский в ее стенах являлся одним из самых почитаемых гостей.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ОТ «ШТРАФБАТОВ» ДО «АНТИСЕМИТОВ»
Между тем рождение второго сына, встреча с Любимовым на какое-то время привели Высоцкого в то душевное равновесие, которого он, быть может, давно не имел. Как результат: из-под его пера на свет явилась одна из первых песен о войне – «Штрафные батальоны». Л. Абрамова по этому поводу очень точно выразилась: «Эти выходы вне человеческого понимания, выше собственных возможностей: они у Володи были, и их было много. И происходили они совершенно неожиданно. Идут у него „Шалавы“, например, и потом вдруг – „Штрафные батальоны“. Тогда он этого не только оценить, но и понять не мог. А это был тот самый запредел. У интеллигентных, умных, взрослых людей, таких, как Галич и Окуджава, – у них такого не было. У них очень высокий уровень, но они к нему подходят шаг за шагом, без таких чудовищных скачков, без запредела».
Вполне вероятно, что материалом к песне «Штрафные батальоны» для Высоцкого послужили рассказы участкового милиционера Гераскина, который, посещая по долгу службы их компанию на Большом Каретном, иногда участвовал в их застольях и в подпитии рассказывал ребятам о своей нелегкой фронтовой судьбе, о службе в штрафбате.
Вообще эта тема – про штрафбаты (а также про заградотряды, «смерши» и т. д.) – в советской историографии считалась запретной, поскольку касалась слишком скользких для властей тем: о судебных несправедливостях советской системы, о человеческой жестокости, порой бессмысленных жертвах в угоду чьим-то начальственным интересам и т. д. Поэтому эти темы в официальных советских СМИ практически никогда не афишировались, хотя многие люди, естественно, про них что-то слышали (от тех же фронтовиков). Однако со второй половины 50-х, когда Хрущев начал свою антисталинскую кампанию, западные идеологические центры начали весьма активно освещать многие «белые пятна» советской истории, в том числе и эти – про штрафбаты, заградотряды и т. д. Естественно, с удобных для себя антисоветских позиций. Например, утверждалось, что многие сражения советскими воинами были выиграны от отчаяния и страха: дескать, когда в спину тебе наставлены дула пулеметов и автоматов заградотрядовцев, невольно совершишь подвиг.
Песню Высоцкого «Штрафные батальоны» нельзя назвать антисоветской, но ее появление четко укладывалось в ту ситуацию, которая тогда сложилась: подобные темы вбрасывали в народ именно либералы-западники, а не державники (в 63-м большое стихотворение на эту тему написал Евгений Евтушенко, что наверняка тоже не осталось без внимания Высоцкого). Объяснялось это тем, что, во-первых, обращение к подобным темам бросало тень на сталинскую эпоху (а западникам это было особенно важно), и во-вторых – они были связаны сотнями нитей (как явных, так и тайных) с Западом и четко следовали в фарватере его запросов. Державники же в подавляющем своем большинстве Запада чурались и не желали «есть с его руки», исходя из старой русской поговорки: «Что немцу хорошо, то русскому – смерть».
После «Штрафбатов» Высоцкий, что называется, «подсел» на военную тему. И в течение двух лет им были написаны сразу несколько подобных песен: «Братские могилы», «Падали звезды», «Песня о госпитале», «Все ушли на фронт», «Про Сережку Фомина», «Высота», «Павшие бойцы». Все эти песни проходили по категории беспафосных (в них речь шла о судьбе маленького человека на войне), в чем и состояла их привлекательность на фоне того, что тогда в большинстве своем присутствовало в официальном советском искусстве.
Тогда же родились и первые его «политические» песни, что тоже явно было навеяно пребыванием в стенах «Таганки»: та все сильнее заявляла о себе как протестный театр, фрондирующий. Вот и Высоцкий в своем песенном творчестве тоже фрондировал все сильнее и ярче, поскольку нашел то, что искал, – адекватное своему конфликтному характеру прибежище.
Песня «Отберите орден у Насера» была посвящена тогдашнему президенту Египта Гамаль Абдель Насеру, который считался другом СССР на Ближнем Востоке – именно при нем Египет превратился в главного тамошнего советского союзника и врага Израиля. Отметим, что у всех евреев к этому государству давние претензии – еще с древних времен, когда их предки вынуждены были уйти из этой страны, обложенные большой трудовой повинностью (отметим, что сначала они активно помогали фараонам обкладывать ею рядовых египтян, видимо, надеясь, что их самих это никогда не коснется). Поэтому многие советские евреи Насера, мягко говоря, сильно недолюбливали. Однако когда весной 64-го года Хрущев наградил его не просто наградой, а самой высокой и почетной – Звездой Героя Советского Союза, то здесь чувства либералов, державников, а также многих простых людей слились воедино – они все оказались в шоке. Впрочем, в таком же положении оказался и сам награждаемый. Как напишет спустя четверть века после этого события журналист Игорь Беляев:
«Сам Насер, получив уведомление о намерении высокого советского гостя (в мае 64-го Хрущев был в Египте на открытии Асуанской ГЭС) наградить его столь почетной, но весьма специальной наградой, очень тактично дал понять, что ему не хотелось бы, чтобы эта высшая советская военная награда была вдруг вручена ему. Однако попытки президента уговорить советского лидера отказаться от задуманного не привели к желаемому результату.
Тогда Насер решил обратиться к Н. С. Хрущеву с другой просьбой, которая, как он рассчитывал, должна была удержать его от намеченного шага: вручить такую же награду одновременно и маршалу Амеру, вице-президенту Египта. Расчет был прост: тот явно не заслуживал высшей награды, а раз так, то ее не получит и президент Египта.
Однако Н. С. Хрущева ничто не удержало от задуманного. Так в Египте появилось сразу два Героя Советского Союза».
Итак, беззастенчивое разбазаривание знаков национальной гордости вызвало у большинства советских людей, вне зависимости от их национальности и убеждений, чувство глубокого недоумения и горечи. Что и попытался выразить в своей песне Высоцкий:
- Потеряю истинную веру –
- Больно мне за наш СССР:
- Отберите орден у Насеру –
- Не подходит к ордену Насер!
- Можно даже крыть с трибуны матом,
- Раздавать подарки вкривь и вкось,
- Называть Насера нашим братом, –
- Но давать Героя – это брось!
- Почему нет золота в стране?
- Раздарили, гады, раздарили!
- Лучше бы давали на войне –
- А Насеры после б нас простили.
Песня довольно смелая по тем временам, за исполнение которой к Высоцкому вполне могли бы применить меры если не репрессивного, то хотя бы административного характера. Но к тому моменту Хрущева, инициатора вручения Насеру звания Героя, уже сместили (14 октября 64-го), и песня эта оказалась даже как бы к месту.
Если Высоцкий в своей песне главный упрек за содеянное бросал советскому руководству, то другой представитель гитарной песни – чистокровный еврей Александр Галич – припечатал к позорному столбу непосредственно самого президента Египта. Цитирую:
- …Каждый случайный выстрел
- Несметной грозит бедой,
- Так что же тебе неймется,
- Красавчик, фашистский выкормыш,
- Увенчанный нашим орденом
- И Золотой Звездой?!
- …Должно быть, с Павликом Коганом
- Бежал ты в атаку вместе,
- И рядом с тобой под Выборгом
- Убит был Антон Копштейн!
Никаким фашистским выкормышем Насер, конечно, не был. В годы войны он с ними хоть и не воевал, однако входил в подпольную организацию «Свободные офицеры», которая боролась за независимость своей страны (тогда она была под пятой английских колонизаторов). Ненависть Галича к Насеру зиждилась, как уже говорилось, на событиях древней истории, а также на том, что Египет являлся одним из главных врагов Израиля на Ближнем Востоке. Так что если у Высоцкого побудительным мотивом к написанию песни о Насере было чувство уязвленной советской гордости, то у Галича – еврейской. Что неудивительно, учитывая, что Галич, как уже отмечалось, был евреем чистокровным.
Во второй половине 50-х, как и большинство его соплеменников, он с надеждой ждал от «оттепели» положительного разрешения «еврейской» проблемы. Но эти надежды оправдались лишь наполовину. Галич в те годы написал пьесу «Матросская тишина», где речь шла о трагедии евреев в годы войны, и этой постановкой в 1956 году должен был открыться театр «Современник». Но пьесу ставить не разрешили, что стало первым толчком к тому, чтобы некогда обласканный властями драматург (а пьесы Галича шли по всей стране, по его сценариям было снято несколько фильмов, в том числе и такой кассовый хит 54-го года, как «Верные друзья») вдруг превратился (с начала 60-х) в одного из наиболее яростных обличителей советского строя. Причем в этом обличении явственно слышался упрек в сторону титульной нации – русских, которые якобы были безропотной и послушной массой, на плечах коих этот режим в основном и держался. Как напишет много позже один из лидеров русских националистов А. Солженицын:
«А поелику среди преуспевающих и доящих в свою пользу режим – евреев будто бы уже ни одного, но одни русские – то и сатира Галича, бессознательно или сознательно, обрушивалась на русских, на всяких Климов Петровичей и Парамоновых, и вся социальная злость доставалась им в подчеркнутом „русопятском“ звучании, образах и подробностях – вереница стукачей, вертухаев, развратников, дураков или пьяниц, – больше карикатурно, иногда с презрительным сожалением (которого мы-то и достойны, увы!),.. всех этих вечно пьяных, не отличающих керосин от водки, ничем, кроме пьянства, не занятых, либо просто потерянных, либо дураковатых… Ни одного героя-солдата, ни одного мастерового, ни единого русского интеллигента и даже зэка порядочного ни одного (главное зэческое он забрал себе), – ведь русское все „вертухаево семя“ да в начальниках…»
Отметим, что во многих песнях Высоцкого тоже попахивало скрытой русофобией – многие отрицательные персонажи у него также носят в основном русские фамилии и за редчайшим исключением – еврейские. Однако сравнивать его в этом плане с Галичем нельзя – у последнего все-таки ненависть к советскому строю и рускому человеку была выражена более откровено. Биограф нашего героя М. Цибульский называет эту ненависть благородной и справедливой: дескать, было за что. Все согласно еврейскому принципу: если еврей ненавидит советскую власть и русских – то это благородно и справедливо, а если русский ненавидит еврея, то это – антисемитизм и юдофобия.
Но вернемся в год 64-й.
Так же «к месту» (как и песня про Насера) оказались и другие «политические» произведения Высоцкого того периода: например, первая песня из «китайского цикла» под названием «В Пекине очень мрачная погода» (1964). В ней (как и во всем цикле) наиболее выпукло был выражен не только личный взгляд Высоцкого на происходящие в Китае события, но и взгляд почти всего либерального лагеря. Что же это был за взгляд?
Начнем с того, что отношения СССР и Китая стали портиться сразу после 1956 года, когда на ХХ съезде КПСС Хрущев разоблачил Сталина. Лидер КПК Мао Цзедун весьма критически отреагировал на эти разоблачения, что стало поводом к возникновению первой трещины как в личных отношениях китайского руководителя с советским, так и вообще в китайско-советском союзе, который длился два десятка лет (с китайско-японской войны конца 30-х). Так же критически было воспринято руководством КПК и заявление Хрущева о мирном существовании с Западом, что подрывало классовые позиции мирового коммунистического движения. Как писал Мао:
«Выдвигать положение о желательности мирного перехода, конечно, выгодно в политическом отношении, то есть выгодно для завоевания масс, для лишения буржуазии ее аргументов и изоляции буржуазии, но мы не должны связывать себя этим желанием. Буржуазия не сойдет добровольно с исторической арены, это – всеобщий закон классовой борьбы. Пролетариат и коммунистическая партия любой страны ни в коем случае и ни в малейшей степени не должны ослаблять подготовку к революции. Им необходимо всегда быть готовыми дать отпор налетам контрреволюции, необходимо быть готовыми в решающий для революции момент захвата власти рабочим классом свергнуть вооруженной силой буржуазию, если она прибегнет к вооруженной силе для подавления народной революции (что, как правило, является неизбежным)».
Китайцы ясно увидели в попытке Кремля пойти на мировую с Западом стратегическую ошибку, которая развязывала руки не только мировой буржуазии, но и ревизионистам в СССР, стремившимся не просто к сближению с Западом, а по сути к будущей конвергенции с ним (что позднее и произойдет). То есть было проигнорировано предупреждение Сталина от 1925 года (судя по всему, во многом именно поэтому все его наследие и оказалось выброшено на свалку), где он говорил следующее:
«Международный капитал не прочь будет „помочь“ России в деле перерождения социалистической страны в буржуазную республику… Нам следует опираться на свои собственные силы, чтобы наша страна не превратилась в придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не была включена в общую систему капиталистического развития как ее подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как подсобное предприятие мирового капитализма, а как самостоятельная экономическая единица, опирающаяся главным образом на внутренний рынок, опирающаяся на смычку нашей индустрии с крестьянским хозяйством нашей страны».
Хрущев на это предупреждение наплевал, а претензии китайского руководства свалил на личный фактор: дескать, Мао Цзедуном в первую очередь движет обида за то, что в лидеры мирового коммунистического движения выдвинулся не он, а Хрущев. Поэтому советский лидер продолжал совершать одну ошибку за другой. Например, стремясь сохранить дружеские отношения с Францией, СССР никак не хотел признавать Временного правительства Алжирской республики, которое ставило целью провозгласить независимость своей страны. Хрущев по этому поводу даже заявил, что «Алжир – это внутреннее дело Франции».
Все это вытекало из позиции Хрущева, который, как и Мао, мечтал о мировой революции, но достичь ее, в отличие от руководителя КПК, собирался мирным, парламентским путем. Дескать, догоним и перегоним Америку, привлечем к себе «третий мир», и капитализм падет к нашим ногам. Мао же настаивал на конфронтационном пути. В этом его активно поддерживал один из лидеров кубинской революции Эрнесто Че Гевара, который так охарактеризовал их общие взгляды:
«Мировая революция – это не замыкающаяся в себе система социализма, которая мирно сосуществует с миром капитала. В конце концов, мы должны иметь в виду, что империализм – это мировая система и что надо победить его в конфронтации мирового масштаба…«
Итогом этих стратегических разногласий стало то, что с 1960 года СССР и Китай превратились в откровенных врагов, что, естественно, было весьма положительно оценено на Западе. С этого момента советский Агитпроп принялся рисовать руководство КПК как ревизионистов и предателей мирового коммунистического движения. Особенно доставалось Мао Цзедуну, из которого советские СМИ сотворили сущего дьявола. Владимир Высоцкий, как и большинство советских людей, купился на эту пропаганду (что невольно наводит на мысль: уж не китаисты ли типа Льва Делюсина наставляли нашего героя?), результатом чего и явились его «китайские» песни, из-за которых его, кстати, в Китае заклеймили как врага и в итоге запретили ему въезд на территорию страны. Скажем прямо, вполне справедливая с китайской точки зрения анафема – то, как Высоцкий отзывался о китайцах, мало кому могло бы понравиться:
- …А если зуд – без дела не страдайте, –
- У вас еще достаточно делов:
- Давите мух, рождаемость снижайте,
- Уничтожайте ваших воробьев!..
Еще одна «политическая» песня Высоцкого 64-го года носила весьма недвусмысленное название – «Антисемиты». С ней дело обстоит идентично тому, о чем говорилось выше, – она тоже родилась после одной широкоизвестной кампании. Только на этот раз дело касалось не китайского, а еврейского вопроса. Что же это была за кампания?
Как мы помним, в «оттепель» ситуация вокруг еврейской проблемы напоминала собой качели – то есть внимание общественности к ней то взлетало вверх, то наоборот падало вниз. Последний шумный всплеск был датирован концом 1962-го – началом 1963 годов. Тогда, как мы помним, случились истории с Михаилом Роммом, с Тринадцатой симфонией Д. Шостаковича («Бабий Яр»). Были еще процессы над «цеховиками», когда в газетах публиковались отчеты о судах над ними и в основном озвучивались еврейские фамилии.
После этого шумные кампании вокруг еврейской темы были свернуты, поскольку привлекли к себе внимание Запада. Случилось это после того, как весной 1963 года известный английский философ и математик, Нобелевский лауреат (1950) Бертран Рассел написал открытое письмо Н. Хрущеву, где возмущался вышеприведенными «наездами» на советских евреев. Кремлевский лидер вынужден был ответить ему тоже публично на страницах главной газеты страны «Правда» (1 марта 1963-го). С тех пор эта тема в СССР на какое-то время была фактически закрыта, во всяком случае, внешне это выглядело именно так. Это длилось до начала 1964 года, когда на свет появилось «дело поэта Иосифа Бродского».
В либеральной историографии до сих пор принято изображать этого поэта как невинную жертву советского режима. Дескать, жил себе в Ленинграде молодой и талантливый человек, писал хорошие стихи, а треклятые коммунисты отправили его в ссылку на 5 лет за то, что он тунеядец – то есть нигде фактически не работал. В реальности все было иначе, а все эти разговоры о несправедливости наказания от лукавого – на самом деле Бродского должны были осудить по статье «за терроризм» и отправить не в ссылку, а упрятать за решетку лет так на десять. Но пожалели парня по просьбе его родителей. Впрочем, расскажем обо всем по порядку.
Бродский был активным лоботрясом еще в школе: он сменил их целых пять, поскольку отовсюду его выгоняли за неуспеваемость. В итоге в седьмом классе он нахватал четыре годовых двойки – по физике, химии, математике и английскому – и вынужден был остаться на второй год. Однако, проучившись всего три месяца, он попросту бросил школу и ушел работать учеником фрезеровщика. Однако профессию эту толком так и не освоил и ушел работать санитаром… в морг. Потом сменил еще несколько работ: устроился истопником в котельной, завербовался в геологоразведочную экспедицию. Но в итоге ни к какой профессии так и не прибился и с начала 60-х попросту тунеядствовал.
Отметим, что родители Бродского с болью наблюдали за художествами сына, поскольку были законопослушными советскими гражданами: отец долгое время работал военным фотокорреспондентом, а мать служила не где-нибудь, а в бухгалтерии ленинградского КГБ! Однако повлиять на отпрыска они особенно не могли – он был себе на уме. Хотя такие попытки неоднократно предпринимались. А одна из них лишь усугубила ситуацию. Когда Бродский внезапно всерьез увлекся поэзией, отец, чтобы отвратить его от этого занятия (видимо, зная характер сына, родитель боялся, что он скатится в банальную антисоветчину, чем навсегда испортит жизнь и себе и своим родственникам), решил искать помощи у Анны Ахматовой, которую знал. Отец решил, что та отговорит Иосифа от увлечения поэзией. Но вышло все наоборот: Ахматовой стихи Бродского понравились, и она взяла его под свое крыло – включила в группу молодых поэтов, которых обучала премудростям поэтической профессии.
Между тем, как и предполагал отец поэта, поэтическая стезя привела его к трениям с властью. В первый раз Бродский угодил в поле зрения ее компетентных органов, когда принял участие в издании первого диссидентского самиздатовского журнала «Синтаксис» (о нем речь уже шла выше: его организатор Александр Гинзбург был осужден в 1960 году на 2 года тюремного заключения). Бродскому тогда повезло – его только предупредили. Но он не успокоился и в итоге задумал… Впрочем, послушаем рассказ одного из его тогдашних знакомых – живописца и поэта В. Евсеева:
«Не знаю почему, но Бродскому в голову пришла идея угнать самолет и сбежать на нем за кордон. У Александра Уманского (друг Бродского) был приятель – Олег Шахматов. Бывший военный летчик, выгнанный из армии не то за пьянку, не то за приставание к командирским женам. И вот как-то, находясь в гостях у этого Шахматова в Самарканде и наслушавшись его жалоб на судьбу, Бродский вдруг предложил захватить на местном аэродроме маленький однопилотный самолет и улететь на нем в Афганистан. Тут же были продуманы все детали предстоящего дела.
План был таков: они вдвоем покупали все четыре места на один из рейсов. Шахматов садился рядом с пилотом. Бродский занимал место сзади. После взлета Ося должен был ударить летчика камнем по голове, связать его, после чего Шахматов брал штурвал в свои руки и на малой высоте вел самолет через границу. Но в последний момент, когда уже были куплены билеты и подобран подходящий по весу камень, Бродский вдруг передумал. Бить по голове человека было для него перебором.
Ося вернулся в Ленинград и очень скоро забыл эту историю. Но примерно через год его хватают и тащат в КГБ. Оказывается, что Шахматова где-то поймали с пистолетом и он, чтобы скостить себе срок, решил выдать чекистам антисоветский заговор. Шахматов подробно рассказал следователям о планах угона самолета… Иосифу тогда повезло: кроме показаний Шахматова, других свидетельств его причастности к заговору не оказалось. Свою роль сыграла и мать Бродского, которая в то время работала в бухгалтерии «Большого дома». Ход делу дан не был. Но досье на Бродского, стоявшее на полках КГБ, пухло с каждым годом. Рано или поздно это должно было кончиться судебным процессом…»
Тучи над головой Бродского начали сгущаться осенью 63-го. Тогда в газете «Вечерний Ленинград» был опубликован фельетон Якова Лернера про тунеядца Бродского под названием «Литературный трутень». А в декабре Бродского арестовали. Как пишет биограф поэта Л. Штерн:
«Арест произошел следующим образом: как только Иосиф вышел из дому, к нему прицепились три хмыря, спросили, Бродский ли он, начали нести антисемитскую х..ню и передразнивать его картавость. Иосиф кому-то из них врезал. Тогда ему завернули руки и запихали в машину…»
Суд над Бродским начался 18 февраля 1964 года и длился несколько дней. Практически вся либеральная еврейская общественность была на стороне Бродского: либо тайно сочувствовала ему, либо активно защищала (писала разного рода ходатайства и письма). Ее пугала та эволюция, которую проделала советская власть за минувшие 40 лет. Осенью 1923 года советскую интеллигенцию потряс общественный процесс над Сергеем Есениным и тремя его коллегами, которые обвинялись в антисемитизме (якобы они задели национальные чувства евреев, оскорбив одного из них в московской пивной). Обвиняемых вполне могли привлечь к уголовной ответственности, поскольку с июля 1918 года в УК РСФСР действовала статья, карающая судебным преследованием за антисемитизм. Однако дело в отношении Есенина и его коллег завершилось общественным порицанием. В 64-м ситуация изменилась в противоположную сторону: теперь уже судили поэта-еврея и уже ему грозило уголовное наказание. И хотя и в этом случае его не последовало – суд отправил Бродского на лечение в психиатрическую клинику, поскольку его адвокат предъявила справку о психической болезни подсудимого, – однако еврейская общественность была обеспокоена самим прецедентом.
Позднее, когда в диссидентских кругах будет активно раскручиваться тема «об ужасах советской психиатрии», появятся рассказы о том, как мучили Бродского: мол, даже подвергали его изощренным пыткам. Но вот как сам поэт описал свое житье-бытье в «психушке», причем будучи не в «тоталитарном СССР», а в свободной Америке (на дворе был 1982 год, и Бродского интервьюировал для ТВ нью-йоркский журналист Дик Кавет):
«Ничего страшного в советских психушках нет, во всяком случае, в той, где я сидел. Кормили прилично, с тюрьмой не сравнить. Можно было и книжки читать, и радио слушать. Народ кругом интересный, особенно психи… Но были и вполне нормальные, вроде меня. Одно плохо – не знаешь своего срока. В тюрьме известно, сколько тебе сидеть, а тут полная неопределенность…»
Это интервью вызвало бурю протеста в диссидентских кругах: дескать, мы тут вовсю стараемся, описываем советскую психиатрию как преступную, а Бродский заявляет обратное! Когда поэту с подобными упреками позвонила уже известная нам Л. Штерн, он заявил: «Я описывал только свой опыт. Я свободный человек в свободной стране и имею право говорить все, что хочу». После чего бросил трубку и месяца два вообще не общался со Штерн. Однако потом они помирились, а чуть позже – буквально накануне присуждения ему Нобелевской премии (в 1987 году) – Бродский «запел» уже другую песню. Цитирую его интервью журналу «Нувель обсерватер»: «Ленинградская тюремно-психиатрическая лечебница… Мне делали страшные уколы… Будили среди ночи, заставляли принимать ледяную ванну, потом заворачивали в мокрую простыню и клали около отопления. Жара сушила простыню и сдирала с меня кожу…»
Вот и думай после этого, когда же поэт говорил правду: в 82-м или в 87-м, накануне своей «нобелевки»? Кстати, дали ее Бродскому по политическим мотивам в разгар горбачевской перестройки, которую многие справедливо называют «еврейской революцией».
Однако вернемся в 64-й год и к песне Высоцкого «Антисемиты».
Судя по всему, поводом к ней стал именно судебный процесс над Бродским. Тогда в народе вновь пошли разговоры о том, что евреи либо тунеядствуют, либо сидят на теплых местечках, в то время как остальные вкалывают на тяжелых и грязных работах. Однако назвать эти настроения массовыми все-таки нельзя – это был типичный бытовой антисемитизм незлобивого порядка (то есть дальше разговоров дело обычно не шло), который всегда имел место быть в Советском Союзе. Как писал о временах начала 60-х еврейский публицист М. Хейфец: «Распространенность и острота современного советского антисемитизма далеко уступают тому, что наблюдалось в годы войны и в первые годы после войны, и происходит, кажется, заметное ослабление, может быть, начавшееся отмирание процентной нормы».
«Процентная норма» (то есть лимитированный процент приема евреев в советские вузы и некоторые организации) в те годы и в самом деле претерпевала изменения. Как уже отмечалось выше, еще во второй половине 50-х абитуриентам-евреям стало легче поступать в вузы. И хотя в начале следующего десятилетия, из-за оппозиционной радикализации еврейской интеллигенции, в ряде престижных советских вузов была восстановлена та самая «процентная норма», однако на общей ситуации это почти не сказалось. Поэтому, в то время как Иосиф Бродский лоботрясничал (закончил 7 классов и ни в одно из учебных заведений – ни средних, ни высших – больше не попал), другие его соплеменники, что называется, в поте лица грызли гранит науки. Так, в 1962/63 учебном году по абсолютному числу учащихся в вузах и средних специальных учебных заведениях СССР евреи занимали 4-е место – после трех славянских наций. Для вузов это составляло 79,3 тысячи (2,69% от общего числа учащихся). В следующем году число студентов-евреев даже выросло, составив 82,6 тыс. Такое соотношение, почти не меняясь, будет сохраняться до учебного года 1969/70.
Несмотря на «процентную норму», отдельным евреям удавалось поступить и в престижные вузы – пусть в меньшем числе, но удавалось. Ведь среди преподавателей значительный процент по-прежнему составляли евреи, которые делали все от них зависящее, чтобы их соплеменники имели возможность пройти сквозь сито отборочных комиссий. Вот как об этом вспоминает сценарист Эдуард Тополь, который учился во ВГИКе в середине 60-х:
«Вгиковская профессура на восемьдесят процентов состояла из Габриловичей, Роммов, Маневичей, Сегелей и Васфельдов! И потому в творческие мастерские этих профессоров еще могли просочиться считаные еврейские единицы. Когда на третьем курсе ВГИКа я, как и положено, заболел „звездной болезнью“, стал пропускать занятия и хватать „неуды“ на сессии, мой профессор Иосиф Михайлович Маневич оставил меня как-то в аудитории после занятий, запер дверь и сказал:
– Ты что себе позволяешь? Ты знаешь, что я мог принять на курс только одного еврея? Но неужели ты думаешь, что, кроме тебя, не было талантливых евреев-абитуриентов? Было двадцать! Если я выбрал тебя, ты обязан учиться за них за всех! Ты понял?..»
Так что, даже несмотря на существование «процентной нормы», по большому счету никаким государственным антисемитизмом в СССР тогда не пахло. А бытовой существовал на обычном (невысоком) уровне. Однако именно откликаясь на него, Высоцкий и написал своих «Антисемитов»:
- …Но тот же алкаш мне сказал после дельца,
- Что пьют они кровь христианских младенцев;
- И как-то в пивной мне ребята сказали,
- Что очень давно они бога распяли!
- Им кровушки надо – они по запарке
- Замучили, гады, слона в зоопарке!
- Украли, я знаю, они у народа
- Весь хлеб урожая минувшего года!
- По Курской, Казанской железной дороге
- Построили дачи – живут там как боги…
- На все я готов – на разбой и насилье, –
- И бью я жидов – и спасаю Россию!
Эта песня стала очень популярна в среде либеральной интеллигенции, которая увидела в ней весьма недвусмысленную попытку полукровки Высоцкого встать на их сторону. Ведь автор вывел в качестве героя песни типичного представителя тех самых пролетариев-«жлобов», которые верили в мировой сионистский заговор и во все те якобы небылицы, которые распространяли про евреев досужие сплетники. Дескать, они даже хлеб минувшего года украли у народа, хотя всем в стране было известно, что эта проблема целиком на совести Хрущева (из-за его горе-реформ СССР с 1963 года вынужден был начать закупать зерно у США – что называется, докатились!). Однако напомним, что среди экономических советников Хрущева были и евреи (тот же харьковский экономист Евсей Либерман), так что, выходит, доля истины в этих обвинениях, распространенных в народе, все-таки была.
Выводя в своей песне алкаша-антисемита, Высоцкий не сильно грешил против истины, однако поступил однобоко. То есть здесь в нем проснулся еврейский националист, а вот русский даже не проклюнулся. В противном случае он должен был написать вторую серию песни – «Русофобы» (учитывая его любовь к двухсерийным песням), дабы уравновесить ситуацию. И сюжетов для подобного «сиквела» тогдашняя жизнь подбрасывала не меньше, чем про антисемитов.
Например, тогда (впрочем, как и сейчас) в отечественной юмористике существовала такая проблема, как однобокая ориентация юмористов, львиная доля которых были евреями, на высмеивание кого угодно, но только не своих соплеменников. То есть героями интермедий становились люди разных национальностей – русские (кстати, больше всего), грузины, украинцы, прибалты, среднеазиты, но никогда – евреи. О том, что эта проблема волновала людей, говорят многочисленные письма, которые шли в ЦК КПСС в те годы. Приведу в этом качестве хотя бы одно из них – письмо Дмитрия Кабанько из Донецка, датированное июнем 65-го.
В нем автор недоумевал по поводу нескольких юморесок, которые транслировало советское телевидение, и просил «разъяснить, правильно ли я понял выступление по телевизору Аркадия Райкина и какую он приносит пользу народу». Далее житель Донецка описывал содержание интермедий. В первой речь шла о молодом инженере, присланном на производство. Он оказывался круглым дураком, и поэтому, желая избавиться от бесполезного работника, его отправляли учиться в аспирантуру. Из юморески следовало, что нерадивый инженер – русский (судя по его фамилии).
Во второй юмореске опять речь шла о русском – теперь уже о доценте, которого Райкин (и автор интермедии Михаил Жванецкий) называет «ну очень тупой доцент Иван Степанович Питяев». Этот ученый муж настолько туп, что никак не может врубиться, что его студента зовут Авас (фамилия у него Горидзе – то есть вторым человеком, который попадает в эту нелепую ситуацию, становится грузин).
В третьей интермедии речь идет о женщине с русской фамилией, которая по своим умственным способностям тоже недалеко ушла от своих соплеменников из двух предыдущих юморесок. В итоге автор письма делает следующее резюме:
«Я пришел к такому выводу, почему Аркадий Райкин в своем выступлении взял не просто молодого инженера, а молодого инженера, присланного на производство, а потому что непосредственно на производстве райкиных почти нет, так как в своем большинстве они по окончании вуза идут прямо в аспирантуру или в научно-исследовательские институты, а русские идут на производство. И вдруг Райкин видит, что на пути в аспирантуру молодого инженера-выпускника „Райкина“ стал молодой русский инженер-выпускник, но который уже поработал некоторое время на производстве и зачислен в аспирантуру. Такая постановка вопроса страшно не нравится А. Райкину. Он протестует в завуалированном виде и для этого делает молодого русского выпускника ДУРАКОМ…»
А вот еще одна история из этого же ряда. Случилась она с Александром Солженицыным и датирована тем же временем – началом 60-х. В ней речь идет о пьесе «Республика труда», которую Солженицын отдал для постановки в театр «Современник»: в ней начальник лагеря, еврей Соломонов (реальное лицо), был изображен в весьма неприглядном виде – как садист и развратник. Далее послушаем рассказ самого писателя:
«И что же, по прочтении, мои верные друзья-евреи? У В. Л. Теуша пьеса вызвала необычайно горячий протест. Он прочел ее не сразу, а уж когда „Современник“ взялся ставить, в 1962-м, так что вопрос был не академический. Супруги Теуши были глубоко ранены фигурой Соломонова, они считали нечестным и несправедливым показывать такого еврея (хотя б он и был таким в жизни, в лагере!) – в эпоху притеснения евреев. (А такая эпоха – кажется, и всегда? когда же евреи у нас не притеснены?) Теуш был переполошен, возбужден до крайности и поставил ультиматум, что, если я не уберу или, по крайней мере, не смягчу Соломонова, – разорена будет вся наша дружба, и стало быть они – не хранители далее моих рукописей. И, более того, предсказывали: что самое мое имя будет невозвратно утеряно и опозорено, если я оставлю в пьесе Соломонова. Почему не сделать его русским? – поражались они. Разве уж так важно, что он еврей? (Но если это так неважно – зачем Соломонов подбирал в придурки евреев же?)
Я охолонул: наступил внезапный цензурный запрет с неожиданной для меня стороны, и не менее грубый, чем советский официальный.
Однако решилось тем, что «Современнику» тут же запретили ставить эту пьесу…»
Знал ли о существовании подобной проблемы Высоцкий? Наверняка знал (не слепой же он был), однако песни на эту тему не написал. Видимо, потому, что защищать русских (грузин, украинцев и т. д.) было делом менее выгодным, чем защищать евреев. Короче, с песней «Русофобы» добиться признания в интеллигентской среде было практически невозможно, а вот вызвать неприятности на свою голову можно было легко (вспомним угрозу Теуша по адресу Солженицына: дескать, тронешь евреев – имя твое будет опозорено и забыто).
Напомним, что во многих песнях Высоцкого отрицательные персонажи носят сплошь русские фамилии: Сережка Фомин (этого героя из одноименной песни «отмазал» от фронта папа-профессор), начальник Березкин из «Все ушли на фронт» (этот сделал себе самострел, чтобы «откосить» от передовой, но в итоге был отдан под трибунал), соглядатай из КГБ Никодим из «Перед выездом в загранку…» (этот филер признается, что у него «папа – русский, сам я – русский, даже не судим»), управдом Борисов из песни «Про черта» (единственная его характеристика – запойный), Саня Соколов из «Зарисовки о Ленинграде» (этот скандалист получил по морде и удостоился от автора резюме: «ну и, значит, правильно, что дали») и т. д.
Конечно, разного рода скандалистов, трусов и предателей среди русских было много, однако и в рядах евреев их тоже было немало, о чем Высоцкий наверняка знал. В годы войны даже шутка такая была: «Евреи штурмом овладели городом Ташкентом». Но одно дело знать, и другое – вслух об этом говорить, а тем более петь.
Между тем еврейская составляющая продолжала фигурировать в политической и экономической составляющих советского режима. Фактический провал экономических реформ, начатых Хрущевым еще во второй половине 50-х, вынудил советское руководство ускорить процесс капитализации советской экономики, в чем настоятельно была заинтересована бюрократия. И в этом деле опять не обошлось без еврейского влияния: за основу были взяты идеи уже упоминавшегося харьковского экономиста Евсея Либермана. Внедрять эти идеи начали в 1962 году, что вызвало волну критики прежде всего среди западных коммунистов (советским такого права фактически не дали). Как писал чуть позже западногерманский коммунист В. Диккут:
«Ревизия марксистско-ленинской теории закона стоимости была предназначена для того, чтобы широко открыть дверь всестороннему внедрению капиталистического принципа прибыли, так же, как теории „мирного перехода“ и „мирного сосуществования“ были предназначены для оправдания контрреволюционного сотрудничества с империалистами США и как теория „общенародного государства“ была предназначена для удушения классовой борьбы и диктатуры пролетариата…
В тот период наиболее известным защитником расширения роли прибыли был ревизионистский экономист Е. Либерман, которого следует рассматривать как действительного отца «экономической реформы». Предложения Либермана по существу сводились к превращению прибыли в главный рычаг экономического управления. Единственная цель, а именно, рентабельность (отношение прибыли к капиталу), должна была заменить многие целевые показатели, задаваемые государством. Все другие плановые показатели вроде объема валовой продукции, фонда расходов, фонда заработной платы и так далее должны были устанавливаться каждым предприятием по своему усмотрению. Таким образом, максимизация прибыли должна была стать главным принципом, регулятором всей хозяйственной деятельности, которой должны быть подчинены все другие задачи, как это свойственно капитализму…
На пленуме Центрального комитета КПСС в октябре 1964 года Хрущев был неожиданно лишен всех своих постов. Свержение Хрущева было следствием возрастающей неудовлетворенности советского народа его антинародной политикой, прежде всего его разрушительной хозяйственной политикой, которая благодаря ненасытному стремлению к прибыли привела промышленность и сельское хозяйство Советского Союза на грань экономического хаоса. Чтобы спасти собственную шкуру, его сообщники, другие ревизионистские лидеры Советского Союза, сделали его козлом отпущения. Им даже пришлось отменить некоторые из его самых безумных реформ. К примеру, они снова ввели центральные промышленные министерства и попытались немного уменьшить беспорядок в сельском хозяйстве. Но сущность политики Хрущева, реставрация капитализма, была оставлена нетронутой…»
Обо всем вышеперечисленном Высоцкий, как и большинство советских людей, естественно, не догадывался. Он, конечно, понимал, что Хрущев в первую голову повинен в провале экономических реформ в стране, однако вряд считал его ревизионистом. И с тем же Сталиным, который в его глазах оставался преступником, естественно, даже близко не ставил. Высоцкий в какой-то мере сочувствовал Хрущеву, считая, что тому просто не хватило природного ума и он надорвался, взявшись не за свой гуж. Для Высоцкого Хрущев был «добрый дурачина-простофиля», не оправдавший надежд либералов. Именно так называлась песня, которую наш герой написал четыре года спустя после снятия Хрущева.
- Жил-был добрый дурачина-простофиля…
- Захотел издать Указ про изобилье…
- Только стул подобных дел
- Не терпел:
- Как тряхнет – и, ясно, тот не усидел…
- И очнулся добрый малый
- Простофиля
- У себя на сеновале
- В чем родили, –
- Ду-ра-чи-на!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ОТ «СТРЯПУХИ» ДО «СОЛОВЬЕВКИ»
Между тем врастание Высоцкого в «Таганку» проходит столь успешно, что уже в январе 65-го его переводят из вспомогательного состава в основной. На душе у него радостно: кажется, впервые за долгие годы странствий по разным театрам он понимает, что нашел то, что надо.
Супруге Высоцкого начало нового года запомнилось иным: «За хлебом – очереди, мука – по талонам, к праздникам. Крупа – по талонам – только для детей», – вспоминает Л. Абрамова. Все это было прямым следствием, мягко говоря, неразумной политики «дурачины-простофили» – бывшего главы государства, а теперь персонального пенсионера союзного значения Никиты Сергеевича Хрущева.
Помнится, и мне родители рассказывали об этих очередях, а я все думал, в какую же зиму это было? Оказывается, в 65-ом. Родители вставали к магазину с раннего утра по очереди, пока один стоял, другой находился со мной дома. Магазин, старая булочная, известная еще с дореволюционных времен, находился на знаменитом Разгуляе, напротив того самого МИСИ, где Владимир Высоцкий проучился полгода. Теперь на месте этой булочной стоит здание Бауманского райсовета.
И вновь воспоминания Л. Абрамовой: «И вот кончилась зима, и Никита выздоравливал, но такая досада – в этих очередях я простудилась, горло заболело. Как никогда в жизни – не то что глотать, дышать нельзя – такая боль. Да еще сыпь на лице, на руках. Побежала в поликлинику – думала, ненадолго. Надолго нельзя – маму оставила с Аркашей, а ей на работу надо, она нервничает, что опоздает. Володя в театре. Причем я уже два дня его не видела и мучилась дурным предчувствием – пьет, опять пьет…
Врач посмотрела мое горло. Позвала еще одного врача. Потом меня повели к третьему. Потом к главному. Я сперва только сердилась, что время идет, что я маму подвожу, а потом испугалась: вдруг что-то опасное у меня. И болит горло – просто терпеть невозможно. Врач же не торопится меня лечить – позвали процедурную сестру, чтобы взять кровь из вены. Слышу разговор – на анализ на Вассермана. Я уже не спрашиваю ничего, молчу, только догадываюсь, о чем они думают. Пришел милиционер. И стали записывать: не замужем, двое детей, не работает, фамилия сожителя (слово такое специальное), где работает сожитель… Первый контакт… Где работают родители… Последние случайные связи… Состояла ли раньше на учете… Домой не отпустили: Мы сообщим… о детях ваших позаботятся… Его сейчас найдут. Он обязан сдать кровь на анализ… «Я сидела на стуле в коридоре. И молчала. Думать тоже не могла. Внизу страшно хлопнула дверь. Стены не то что задрожали, а прогнулись от его крика. ОН шел по лестнице через две ступеньки и кричал, не смотрел по сторонам – очами поводил. Никто не пытался даже ЕГО остановить. У двери кабинета ОН на секунду замер рядом с моим стулом. „Сейчас, Люсенька, пойдем, одну минуту…“
И все стало на свои места. Я была как за каменной стеной: ОН пришел на помощь, пришел защитить. Вот после этого случая он развелся с Изой, своей первой женой, и мы расписались…
А горло? Есть такая очень редкая болезнь – ангина Симановского-Венсана. Она действительно чем-то, какими-то внешними проявлениями, похожа на венерическую болезнь, но есть существенная разница: при этой болезни язвы на слизистой оболочке гортани абсолютно не болят».
Дела в театре у Высоцкого складываются как нельзя хорошо. 13 февраля состоялась премьера спектакля «Антимиры» по А. Вознесенскому, где у него одна из главных ролей. 2 апреля следует еще одна премьера – «Десять дней, которые потрясли мир». В тот же день с Высоцким заключается договор на написание песен для спектакля «Павшие и живые» (об этом спектакле речь подробно пойдет чуть ниже).
Песенное творчество Высоцкого также не стояло на месте: 20 апреля в ленинградском Институте высокомолекулярных соединений (в кафе «Молекула») состоялись два его концерта. Два первых концерта перед широкой аудиторией! Эти выступления длились по два часа, в каждом было исполнено по 18 песен.
Прорыв в военную тематику, совершенный Высоцким в прошлом году, в 65-м был продолжен всего лишь одной песней «Солдаты группы „Центр“. В мае им была написана песня «Корабли» («Корабли постоят и ложатся на курс…»). А чувство одиночества и душевного раздала с самим собой, по всей видимости, толкнуло Высоцкого на написание в тот год песен: «У меня запой от одиночества» и «Сыт я по горло».
- Сыт я по горло, до подбородка –
- Даже от песен стал уставать, –
- Лечь бы на дно, как подводная лодка,
- Чтоб не могли запеленговать!..
В том же году Высоцкий навсегда распрощался с «блатной» тематикой, поскольку, попав в «Таганку», вырос из блатных «штанишек» и явно почувствовал вкус к другим, более серьезным и актуальным темам, должным прибавить ему веса в либеральной среде («блатняк» этого сделать уже не мог). Последними песнями уходящего «блатного» цикла стали «Катерина, Катя, Катерина», «В тюрьме Таганской…» и «Мне ребята сказали».
В том же мае судьба вновь сводит Высоцкого с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным. Как мы помним, впервые они встретились в ноябре 63-го в доме у Левона Кочаряна, но тогда космонавт «номер один» не обратил на Высоцкого особого внимания (тот не пел своих песен и почти всю встречу молчал). Но затем, в январе 65-го, Гагарину подарили магнитофонную кассету с песнями Высоцкого и он, плененный его талантом, захотел познакомиться с артистом поближе. Эту встречу организовал коллега Гагарина А. Утыльев, знавший Высоцкого. Вот как он сам об этом вспоминает:
«Встреча двух кумиров произошла в квартире 25 дома 5/20 на Смоленской набережной. Был теплый субботний день. Гагарин приехал из Звездного с друзьями на своей черной „Волге“, а Высоцкий с гитарой – на метро. Они крепко, по-мужски обнялись и, по-моему, сразу понравились друг другу. Юра сказал, что Володины песни производят на него сильное впечатление. Оживленный разговор продолжился за столом. Произносили, конечно, и тосты, но Высоцкий пил только сок – он был в „завязке“. Зато песен спел множество. Володя в тот день был в ударе. Засиделись допоздна. Договорились почаще встречаться…»
Между тем в том году кинематограф предложил Высоцкому две роли: в мае поступило предложение от Виктора Турова с «Беларусьфильма» сыграть эпизодическую роль обожженного лейтенанта-танкиста Володи в картине «Я родом из детства», а Эдмонд Кеосаян взял его на роль гармониста Андрея Пчелки в комедию «Стряпуха». В понимании самого Высоцкого роли были явно неравнозначные. Начнем с первой.
У Турова была суровая военная драма, съемки в которой гарантировали Высоцкому не столько материальное удовлетворение, сколько моральное – во-первых, тема благородная, во-вторых – была возможность впервые исполнить с большого экрана свои песни. Таковых было целых четыре (!): «Песня о госпитале», «Песня о звездах», «В холода, в холода» и «Высота». Кроме этого, Высоцкому хотелось, что называется, открыть для себя как актера новую республику, где он до этого ни разу не бывал (до сего момента киношная карьера забрасывала его, помимо Москвы, на Украину, в Ленинград, Казахстан и Латвию).
Отметим, что киностудия «Беларусьфильм» была создана в 1925 году (как «Белгоскино») и в сонме советских киностудии считалась крепким середняком. Начав свое существование с выпуска 1–2 фильмов в год, киностудия в 60-е годы перешла на производство 6 картин ежегодно. Однако по-настоящему значимых картин выпускалось немного. Чтобы оживить деятельность республиканской кинематографии, в начале 1965 года (на волне смены хрущевских кадров) был назначен новый руководитель Госкино Белоруссии – Борис Павленок, который до этого работал помощником 1-го секретаря ЦК КПБ Кирилла Мазурова и главным редактором газеты «Советская Белоруссия». На последнем посту Павленок стал широко известен после громкого скандала, касавшегося опять же еврейской темы.
Эта история произошла в начале 64-го, когда в Белоруссию приехал композитор Дмитрий Шостакович с той самой Тринадцатой симфонией («Бабий Яр»), о которой речь у нас уже шла выше. По случаю этого визита в «Советской Белоруссии» была опубликована статья женщины-музыковеда, которая, положительно отзываясь о симфонии, в то же время отметила, что текст стихов Евтушенко адресует мировую трагедию к конкретному событию – расстрелу немцами еврейского населения Киева в Бабьем Яре. Но поэт ни слова не говорит о трагедии соседней с Украиной Белоруссии, которая от рук фашистов потеряла 2 миллиона 200 тысяч мирных граждан, в том числе 300 тысяч евреев.
Отметим, что Евтушенко давно славился среди своих коллег умением держать нос по ветру – то есть склонностью к конъюктурщине. Он легко откликался на любую даже малозначительную общественную проблему и тут же выдавал «на-гора» хлесткое (часто весьма талантливое) стихотворение. Поэтому, когда он написал «Бабий Яр», где описал трагедию лишь еврейского народа, многие опять же расценили это как ничем не прикрытую конъюктурщину. Ведь Евтушенко в те годы стал выездным, весьма активно колесил по миру и прекрасно был осведомлен, что влиятельное мировое еврейство, зацикленное на теме «холокоста», не оставит без внимания его «Бабий Яр». Так оно, собственно, и вышло: именно это стихотворение, а также скандал с симфонией Шостаковича, сделали из Евтушенко на Западе «самого прогрессивного советского поэта». С таким карт-бланшем в кармане он мог достаточно смело вести себя с любым советским руководителем, не опасаясь, что кто-то из них может всерьез осложнить его карьеру. И та действительно покатится как по маслу. Достаточно сказать, что за два десятка лет Евтушенко посетит с визитами 92 страны мира, причем многие из них неоднократно.
Но вернемся к статье в «Советской Белоруссии».
Она не осталась незамеченной на Западе. В частности, большой отклик на нее поместила на своих страницах американская газета, базирующаяся в главной вотчине американских евреев городе Нью-Йорке, – «Нью-Йорк геральд трибюн», в которой музыковед из «Советской Белоруссии» был обвинен… в антисемитизме. Вполне стандартное обвинение, едва речь заходит о еврейской теме.
Именно вскоре после этого скандала Павленок и пошел на повышение – возглавил белорусское Госкино. Что было совсем не случайно, а прямо вытекало из той политики, которую стал осуществлять в стране новый Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Суть этой политики заключалась в некотором уравновешивании позиций всех политических течений, существовавших в стране: речь идет о все тех же державниках и либералах. То есть если Хрущев лихорадочно метался от одного лагеря к другому и устраивал один публичный разнос за другим, то Брежнев решил занять четкую центристскую позицию, однако с некоторым уклоном в державную сторону. Вызвано это было не только тем, что в самом Брежневе текла лишь славянская кровь (он был наполовину русский, наполовину украинец, хотя жена у него была еврейкой), но и теми событиями, которые тогда происходили внутри страны и за ее пределами. А происходило там следующее.
Во-первых, хрущевская «оттепель» с ее ярко выраженной антисталинской направленностью разбалансировала страну как в экономике, так и в идеологии; во-вторых – вмешались два мощных внешнеполитических фактора – агрессивная политика США (вторжения во Вьетнам и в Доминиканскую Республику) и смена курса в Израиле, где при новом премьере страны (в 63-м им стал Леви Эшкол, который сменил на этом посту Бен Гуриона) был взят курс на активное сотрудничество с международным сионизмом. Этот курс был провозглашен на XXVI сионистском конгрессе, который прошел в январе 65-го в Тель-Авиве. Несмотря на то что данный процесс вызвал яростное неприятие «национальных» сионистов, обитавших в самом Израиле, их мнение было проигнорировано, поскольку дружба с международным сионизмом гарантировала Израилю большие денежные вливания, плюс значительную помощь в арабо-израильском конфликте. С этого момента Израилю стала отводиться еще более значимая роль в том пасьянсе, который раскладывали теневые мировые лидеры, базировавшиеся в США и Англии. Руководители СССР это прекрасно поняли, потому и решили делать упор на державной идеологии, а не на либеральной, поскольку среди приверженцев последней больше всего было ненадежного элемента – евреев.
Когда готовились торжества по случаю 20-летия Победы (май 1965 года), было подготовлено несколько вариантов доклада Брежнева, где по-разному оценивалась роль Сталина. Так, либеральный вариант (его готовила группа под руководством работника Международного отдела ЦК КПСС, либерала Федора Бурлацкого – он же был одним из активных участников антикитайской кампании, а также большим симпатизантом «Таганки») содержал в себе те же оценки Сталина, которые содержались в докладе Хрущева на ХХ съезде партии. А вот вариант члена Политбюро и представителя державной группировки Александра Шелепина был совершенно иной: в нем речь шла о восстановлении доброго имени Сталина. В итоге Политбюро сошлось на компромиссном варианте: имя Сталина было упомянуто всего лишь один раз, но в положительном контексте (сообщалось, что он возглавил Государственный комитет обороны). Однако даже это единственное упоминание вождя народов вызвало настоящий шквал восторга среди присутствующих в Кремлевском дворце съездов, что ясно указывало на то, какие настроения царили тогда в верхах партии. Сошлюсь на слова историка С. Семанова:
«И вот Брежнев зачитал упомянутый краткий текст. Что началось в зале! Неистовый шквал аплодисментов, казалось, сотрясет стены Кремлевского дворца, так много повидавшего. Кто-то стал уже вставать, прозвучали приветственные клики в честь Вождя. Брежнев, окруженный безмолвно застывшим президиумом, сперва оторопело смотрел в зал, потом быстро-быстро стал читать дальнейшие фразы текста. Зал постепенно и явно неохотно затих. А зал этот состоял как раз из тех, кто именуется „партийным активом“, то есть лиц, которые именуются „кадровым резервом“. Это был именно ИХ глас…»
Почувствовав за собой поддержку большинства, державники тут же пробили в «Правде» статью видного историка страны академика В. Трухановского, в которой заявлялось, что положение о «периоде культа личности» является антиисторическим понятием. Эта статья стала сигналом для всех идеологических работников о том, что антисталинская кампания в стране должна быть свернута. Что и было сделано. Однако о возвращении сталинских методов управления страной (и той же бюрократией) речи даже не шло.
Под влиянием событий, которые происходили в Израиле (а поворот этой страны лицом к международному сионизму обещал обязательную радикализацию и советского еврейства), Брежнев предпринял шаги по дальнейшему организационному объединению интеллигентов из державного лагеря. Для этого в 1965 году на свет стали появляться так называемые Русские клубы, и первым из них стал ВООПИК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры). Как вспоминает свидетель тех событий А. Байгушев: «Брежнев лично поручил К. Черненко проследить, чтобы в оргкомитет ВООПИК попали лишь „государственники“ – не перекати-поле иудеи, а крепкие русские люди. И тщательный отбор и подготовка к Учредительному съезду ВООПИК шли почти год. Но поработали на славу. Чужих не было!..»
Параллельно этому Брежнев стал перетягивать периферийных державников в Москву, чтобы укрепить ими свои позиции во власти. Особую ставку он делал на белорусских политиков, поскольку Белоруссия была наименее засорена западниками (иного и быть не могло, поскольку менталитет белоруссов был исконно славянский, державный, за что фашисты и обрушили на них всю свою ненависть: они уничтожили каждого четвертого жителя республики, попутно стерев с лица земли 200 городов, 9000 деревень, причем более 200 из них вместе с жителями). В 1965 году Брежнев назначил 1-го секретаря ЦК КП Белоруссии Кирилла Мазурова первым заместителем председателя Совета Министров СССР и ввел его в Политбюро, а секретаря ЦК КП Белоруссии по пропаганде Василия Шауро назначил куратором всей советской культуры по линии ЦК КПСС. А спустя год, в апреле 66-го, кандидатом в члены Политбюро стал еще один белорус – новый глава республики Петр Машеров. Продвижение вверх по служебной лестнице Бориса Павленка тоже было из этого же ряда назначений (через некоторое время его переведут на работу в Москву, в союзное Госкино, назначив заместителем председателя).
Появление фильма «Я родом из детства» прямо вытекало из этих же событий. В поисках удобного повода для консолидации общества брежневское руководство решило использовать под это дело празднование 20-летия со дня победы в Великой Отечественной войне, поскольку эта тема оставалась по сути единственной незапятнанной в процессе хрущевской десталинизации (как и в сегодняшней капиталистической России, где тема войны также активно используется властью, в то время как весь остальной советский период подается исключительно в негативном свете). К этой кампании были подключены все СМИ, а также литература и искусство. Фильм «Я родом из детства» был включен в студийный план именно как приуроченный к 20-летию Победы.
Между тем никаких песен в нем не должно было быть, как и самого Высоцкого. А пригласил его Туров в Минск с единственной целью. Какой? Вот как сам режиссер рассказывает об этом:
«На эту роль (обожженного лейтенанта) я пробовал актера Алексея Петренко, который впоследствии появился в „Агонии“ в роли Распутина. Естественно, в то время Петренко обладал и большим мастерством, и больше подходил к роли, на которую пробовался и Высоцкий. Мы, если честно сейчас говорить, скорее пригласили Владимира Высоцкого, чтобы познакомиться с ним, послушать его песни и заодно узнать, что сейчас поется и сочиняется вне официальной сцены, все официальной эстрады, вне официальных концертных залов. Но кончилось это тем, что мы как-то очень близко расположились друг к другу. В тот вечер мы сдали его билеты (он должен был ехать в Москву), чтобы провести вместе всю ночь. А утром я его проводил, ему нужно было обязательно быть в театре, где его судьба тогда тоже висела на волоске. Уже поднимаясь по трапу, он вдруг обернулся и сказал:
– Витя! Возьми меня на эту роль. Честное слово, я не подведу. Я сделаю все, что смогу!
Эти слова мне тогда так запали, что я отказался от более хорошей пробы Петренко, поверил Володе и благодарен судьбе, что она мне подарила эту встречу…»
Думается, в своем рассказе режиссер опускает некоторые неудобные нюансы. Судя по всему, дело было не в более удачной пробе Петренко, а в том шлейфе, который тянулся за Высоцким, – пьющего человека. И тогдашние его проблемы в театре были связаны опять же с выпивкой. Режиссер об этом знал и, видимо, поэтому не хотел с ним связываться. Ведь простои могли дорого обойтись киногруппе. Однако ночь, проведенная в беседах с Высоцким, и особенно его слова (по сути клятва: «я тебя не подведу») убедили Турова пойти ему навстречу. Так Высоцкий попал в картину, и его песни вместе с ним.
Что касается фильма «Стряпуха», то в нем Высоцкий согласился сниматься исключительно ради денег и отдыха (съемки проходили на хлебосольной Кубани). К автору сюжета – драматургу Анатолию Софронову – он относился с неприязнью, как к одному из лидеров державного направления. Это был тот самый А. Софронов, который в уничижительном плане упоминался Михаилом Роммом в его речи 62-го года. Он принадлежал к группе державников-сталинистов (возглавлял с 1953 года их журнал «Огонек») и либералами-западниками активно презирался не только за свои взгляды, но и за творчество: в своих пьесах он всячески воспевал советский строй. Практически каждые два года в свет выходила его новая пьеса, которая тут же ставилась не в одном или двух, а сразу в десятках (!) советских театров по всей стране. Отметим, что делалось это в основном не по разнарядке сверху, а по велению финансового плана: пьесы Софронова делали неплохие сборы – на ту же «Стряпуху» (1959) народ валил, что называется, рядами и колоннами.
Возвращаясь к Михаилу Ромму, отметим, что в конце 64-го Высоцкий побывал у него дома и даже пел ему свои песни. Это было данью уважения с его стороны человеку, который считался духовным лидером либеральной (еврейской) интеллигенции, а также когда-то был преподавателем его нынешней жены во ВГИКе (теперь же Ромм был в полуопале и после событий ноября 62-го в киношном институте не работал; он вернется туда весной 65-го). Однако, несмотря на свою полуопалу, Ромм продолжал оставаться одним из самых влиятельных советских кинематографистов (был заместителем председателя Оргбюро Союза кинематографистов СССР и директором одного из мосфильмовских объединений), и вполне вероятно, что именно он стал инициатором того, чтобы на «Мосфильме» перед Высоцким вновь зажегся «зеленый свет» (как мы помним, там у него имелись недоброжелатели, в том числе и руководитель актерского отдела Адольф Гуревич).
Кстати, у Высоцкого на том же «Мосфильме» могла случиться еще одна кинороль: в фильме «Андрей Рублев» Андрея Тарковского (отметим: он был учеником того же М. Рома, и именно тот устроил его на главную киностудию страны) он должен был сыграть сотника Степана (пробы для фильма проходили с 17 декабря 64-го по март 65-го). Но Высоцкий сам все испортил. Он удачно прошел фотопробы, но перед кинопробами… внезапно ушел в запой. Тарковский ему тогда сказал: «Извини, Володя, но я с тобой больше никогда не буду работать». Режиссер имел право на подобное резюме: это был уже второй похожий инцидент между ними. В первый раз Высоцкий точно так же подвел Тарковского перед съемками телевизионного спектакля по рассказу Фолкнера.
Съемки в «Стряпухе» и «Я родом…» начались почти одновременно (первую начали снимать 4 июля, второй – 11 августа), и Высоцкому пришлось их совмещать. Правда, в белорусской картине эпизодов с его участием было значительно меньше, поэтому там он был считаное количество дней, заработав за съемки 660 рублей. Другое дело «Стряпуха», где у Высоцкого роль была помасштабнее (отсюда и гонорар в 740 рублей), правда, сам он, как уже говорилось выше, относился к ней как к недоразумению. Мало того, что ему пришлось покрасить волосы в рыжий цвет, так еще и песни петь под гармошку не свои. Одно было хорошо – фильм снимался в благодатном Краснодарском крае (в Усть-Лабинске), где овощей и фруктов было немерено и вино лилось чуть ли не из водопроводных кранов. На почве любви к вину на съемках несколько раз случались скандалы. Вот как об этом вспоминает В. Акимов (второй режиссер на картине):
«Два месяца снимались почти без перерыва. Работы было очень много, все делалось очень быстро. Поэтому в пять утра я уже всех поднимал, в шесть выезжали в степь на съемки и – пока не стемнеет… А потом набивалось в хату много народу, появлялась гитара со всеми вытекающими последствиями: часов до двух ночи пение, общение. А Эдик Кеосаян Володю пару раз чуть не выгнал. Поскольку мы ежедневно ложились спать в 2–3 ночи, а в 5 уже вставали, то, естественно, на лице артиста и на его самочувствии это отражается. И Эдик был страшно недоволен, скандалил, грозился отправить Володю в Москву…»
Сам Высоцкий о тех съемках тоже отзывался нелицеприятно: «Ничего, кроме питья, в Краснодаре интересного не было, стало быть, про этот период – все».
По сути Высоцкий вычеркнул из своей киношной биографии этот фильм, видимо, пожалев, что вообще в нем снимался. Погнавшись за гонораром и закрыв глаза на идеологическую составляющую (авторство А. Софронова), Высоцкий, по мере врастания в «Таганку», вдруг понял, какую непростительную ошибку он совершил. По выражению Фаины Раневской, этот поступок был сродни «плевку в вечность». Ведь либералы превратили «Стряпуху» в нарицательное явление (нечто вроде «Кубанских казаков»), олицетворяющее в их понимание верх лакировки и лизоблюдства. Им (либералам) вообще очень часто было органически чуждо то, что нравилось большинству советских людей. Поэтому они зло высмеивали эти массовые предпочтения, полагая, что они – следствие дурного вкуса малообразованного населения. На самом деле этот снобизм был следствием испорченности самих либералов – ярким проявлением их презрения к народному волеизъявлению. При этом существенную роль играл здесь национальный вопрос. Об этом писал еще А. Чехов почти сто лет назад:
«Такие писатели, как Н. С. Лесков и С. В. Максимов, не могут иметь у нашей критики успеха, так как наши критики почти все – евреи, не знающие, чуждые русской коренной жизни, ее духа, ее формы, ее юмора, совершенно непонятного для них, и видящие в русском человеке ни больше ни меньше, как скучного инородца. У петербургской публики, в большинстве руководимой этими критиками, никогда не имел успеха Островский; Гоголь уже не смешит ее…»
Не стоит, конечно, сравнивать А. Софронова с русскими классиками, но по советским меркам он был вполне добротным автором, умеющим найти путь к сердцам и душам многомиллионной аудитории. Как уже отмечалось, многие его комедии («Московский характер», «Стряпуха» и др.) имели устойчивый успех у зрителей не благодаря их насильственному навязыванию «сверху», а по причине соответствия запросам массовой аудитории. Но поскольку советская «петербургская публика» относилась к ней как с «скучным инородцам», эти запросы ее откровенно раздражали. Кроме этого, сюда еще примешивалась идеология, а именно – Софронов давно принадлежал к «русской партии» и возглавлял (с 1953 года) ненавистный для всех либералов журнал «Огонек» (только в годы горбачевской перестройки это издание наконец попадет в их руки – его возглавит еврей Виталий Коротич, после чего журнал мгновенно станет горячо любим всеми либералами поголовно).
Но вернемся к Высоцкому и событиям лета 65-го.
Наш герой находился на съемках в «Стряпухе», когда в Москве открылся 4-й Международный кинофестиваль. На него в числе многочисленных гостей была приглашена и звезда французского кинематографа Марина Влади. В Москву она приехала не одна, а со своим тогдашним мужем, бывшим летчиком, а теперь владельцем аэропорта в Гонконге. 8 июля они посетили Большой театр, где в тот вечер шел спектакль «Дон Кихот» с Марисом Лиепой в главной роли (это был его дебют в этой роли).
Между тем во время одного из перерывов в съемках Высоцкий слетал в Москву, где 25 июля сходил-таки в ЗАГС и узаконил свои отношения с Людмилой Абрамовой. Тогда же они с женой снялись на телевидении в фильме «Картина», где Высоцкому досталась роль молодого художника, а Абрамовой роль его возлюбленной. По словам самой актрисы, их первая и последняя телевизионная попытка закончилась провалом, и все это действо она образно назвала «кошкин навоз».
В начале сентября «Таганка» открыла очередной сезон. Высоцкому вновь приходится разрываться на несколько фронтов: играть в театре и летать на съемки двух фильмов. Так, в начале месяца он летит в Ружаны, где снимают «Я родом из детства» (съемки там начались 30 августа). Вспоминает А. Грибова:
«Костюмерная находилась на месте съемок, а основная группа жила в Слониме. И вот приезжает туда со съемок „Стряпухи“ Высоцкий и привозит огромную бутыль вина „Каберне“. Они ее там распили, а потом, видно, Княжинский вспомнил, что я в Ружанах. И вот с остатками этого вина, на военном джипе Руднев, Туров и Сивицкий поехали к нам… Я спросила: „А где Высоцкий?“ А его, говорят, пришлось оставить…
Утром они стали чинить джип, чуть не сорвали съемку (снимали эпизод, где люди смотрят в клубе фильм «Чапаев». – Ф. Р.). Потом привезли Высоцкого, а он на ногах не стоит. Сивицкий его держал, а мы с Клавдией Тарасовной одевали на него съемочный костюм. Со съемок Высоцкого привозят назад в автобусе в том же виде. Раздевали уже Сивицкий и Клавдия Тарасовна, а Володя при этом очень дергался. И как стукнет головой в челюсть Клавдии Тарасовне. А она закричала: «У меня зубы золотые. У тебя денег нет их вставить, если выбьешь». В этот день Володя, видимо, не снялся. Эпизод в клубе, наверное, переснимали в другой раз, там были большие съемки…»
В те же дни Высоцким была написана песня «В холода, в холода…» – на первый взгляд вроде бы обычная песня вечного командированного человека. Однако, учитывая, что у Высоцкого почти нет обычных песен (в каждый есть свой подтекст), рискую предположить, что холодами он обозначил ту политическую атмосферу, которая складывалась тогда в стране, – заморозки на почве сворачивания антисталинской кампании. По Высоцкому-либералу, страна скатывалась «в холода, в холода».
Вспоминает Б. Сивицкий: «В первый же день, вечером, была сделана запись песен Высоцкого для картины. Кстати, песня „В холода, в холода…“ была написана утром – после того, как мы распили „Каберне“. Мы с Высоцким спали в одном номере. Утром он попросил у меня листок бумаги, куда переписал текст песни. Лист пришлось вырвать из рабочей тетради тренера. Тут же Володя взял гитару и исполнил эту песню. Спросил: „Пойдет?“ – и отнес Турову.
Вернемся к истории записи песен в Ружанах. Там был деревянный клуб с необычной акустикой, где и была сделана запись песен Высоцкого на профессиональной аппаратуре. На записи присутствовали Туров, Княжинский и еще несколько человек, записывал звукооператор Бакк… Разговоров во время записи не было, так как в зале был сильный резонанс. Володя пел тогда все подряд без заказов. После записи, когда мы вышли из клуба, нас обступили ветераны: «Как? Что? Почему нас не пригласили?» Чтобы избежать разговоров, Туров поскорее посадил нас в машину, и мы уехали в Слоним. Закончился этот день обильным возлиянием моладвского вина «Алб де Масе» и проводами Высоцкого на поезд. Он все кричал, что у него запись на телевидении и ему непременно надо быть в Первопрестольной…»
В Москве Высоцкого ждали дурные вести («холода, холода»): он узнал, что 8 сентября КГБ арестовал его бывшего преподавателя по Школе-студии Андрея Синявского (четыре дня спустя по этому же делу был арестован еще один фигурант – писатель Юлий Даниэль, с которым наш герой тоже был знаком – как-то был у него на дне рождения). Как мы помним, Синявский давно жил двойной жизнью – с конца 50-х, когда начал писать антисоветские гротескно-сатирические повести и статьи на разные темы. Вместе с Даниэлем они переправили их на Запад (с помощью дочери бывшего французского военно-морского атташе Елены Пельтье-Замойской, знакомой Синявского по Московскому университету), где публиковались под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак. Так длилось в течение нескольких лет. За это время одна повесть Синявского «Суд идет» была издана на 24 языках в разных странах мира, а также транслировалась радиостанцией «Свобода». В итоге КГБ все же напал на след писателей и арестовал их. Причем в этом деле не обошлось без участия… ЦРУ.
Как выяснится позже, именно американская разведка сдала их по заданию своего Госдепа, чтобы мировая пресса отвлеклась от бомбардировок американцами Вьетнама и переключилась на преследование не просто либеральной, а еврейской интеллигенции в СССР. Цель эта была достигнута – только ленивый на Западе не писал сначала об аресте Синявского и Даниэля, а потом и о судебном процессе над ними (о нем речь пойдет ниже).
Между тем во время обыска на квартире Синявского были обнаружены магнитофонные кассеты с записями Высоцкого (как мы помним, писатель весьма ценил его творчество). И Высоцкому было чего опасаться, учитывая, что в одной из песен он весьма язвительно отзывался о сотрудниках КГБ. Песня называлась «Личность в штатском» (так негласно называли кагэбэшников, которые сопровождали различные советские делегации за рубежом).
- …Со мной он завтракал, обедал,
- Он везде – за мною следом, –
- Будто у него нет дел.
- Я однажды для порядку
- Заглянул в его тетрадку –
- Просто о-бал-дел!
- …Он писал – такая стерьва! –
- Что в Париже я на мэра
- С кулаками нападал,
- Что я к женщинам несдержан
- И влияниям подвержен
- Будто За-па-да…
Как ни странно, однако у чекистов никаких особых претензий к автору этой песни не возникло. Судя по всему, на Высоцкого там давно «положили глаз», копили на него материал, но не трогали, поскольку гораздо эффективнее было внедрять в его окружение стукачей и таким образом контролировать круг его общения.
Вообще эта тема – «Высоцкий и КГБ» – требует отдельного разговора. Судя по всему, в поле зрения компетентных органов наш герой угодил еще в начале 60-х, когда его песни стали распространяться на магнитофонных лентах по Москве и области. Причем внимание это еще не было пристальным – запомнилась лишь его фамилия (как пел сам Высоцкий в 61-м: «мою фамилью-имя-отчество прекрасно знали в КГБ»). За бардовским движением тогда хоть и следили, но эта слежка включала в себя лишь несколько особо одиозных фигур вроде Булата Окуджавы или Александра Галича. Ведь в те годы «блатняком» (и полублатняком) баловались многие люди из актерской среды (Николай Рыбников, Михаил Ножкин и др.), поэтому обращать особое внимание на кого-то из них КГБ особо не стремился, да и не имел такой возможности. Дело в том, что в структуре Комитета еще не было Идеологического управления (оно появится при Ю. Андропове), а существовал всего лишь отдел в составе 2-го управления (контрразведка), в компетенцию которого и входил надзор за творческой интеллигенцией. Однако в 1960 году, когда Хрущев затеял массовые сокращения в правоохранительной системе и армии, именно штат этого отдела был ужат, чтобы не трогать другие контрразведовательные подразделения. Поэтому распылять свои силы чекисты-«идеологи» не могли.
Судя по всему, собирать досье («дело объекта» или «объективку») на Высоцкого в КГБ начали в 1963 – 1964 годах. Во-первых, именно тогда Хрущев особенно сильно осерчал на либеральную интеллигенцию (после выступления М. Ромма в ВТО и выставки в Манеже – все события произошли в ноябре-декабре 62-го), во-вторых – прекратились сокращения в КГБ (до этого в течение нескольких лет было уволено 1300 сотрудников), и даже начался набор туда новых сотрудников, которые должны были закрыть возникшие бреши на некоторых направлениях, в том числе и по линии надзора за творческой интеллигенцией. Коллегия КГБ была увеличена на два человека, были объединены ранее разъединенные Управления по Москве и Московской области. Кстати, видимо, именно в последнем и начали собирать досье на Высоцкого, а не в Центре, в компетенции которого были более значимые фигуры. Отметим, что в январе 1962 года новым начальником УКГБ по Москве и области был назначен Михаил Светличный, который вскоре сыграет в судьбе Высоцкого определенную роль (о чем ниже).
Из-за увеличения объема текущей работы в ноябре 1963 года из ведения председателя КГБ Владимира Семичастного будет изъято 2-е Главное управление (контрразведка) и передано сначала под наблюдение его 1-го заместителя Николая Захарова, а чуть позже (в мае 64-го) – заместителя председателя КГБ Сергея Банникова (он же в июне того же года стал еще и начальником 2-го главка). То есть именно эти люди напрямую курировали надзор за творческой интеллигенцией, в том числе напрямую были причастны и к «делу Синявского и Даниэля».
Возвращаясь непосредственно к Высоцкому, скажем, что поволноваться ему тогда пришлось изрядно. На почве этих волнений он вновь срывается и подводит театр – вместе с артистом «Таганки» Кошманом они не приходят на спектакль. 3 октября местком обсуждает их безобразное поведение и выносит им «строгача». Кошман вроде одумался, а вот Высоцкий нет: спустя несколько дней он самовольно покидает Москву и уезжает на съемки: сначала в «Стряпуху», которая снимается уже в селе Красногвардейское, а потом в Гродно, на съемки «Я родом из детства». О съемках в последнем фильме вспоминают очевидцы.
Р. Шаталова: «Остался в памяти Володин приезд в начале октября на съемки в Гродно. Встречаем его на перроне и предлагаем ехать прямо на съемочную площадку. Съемка уже идет, сцена большая – нужно успеть снять до наступления темноты. Все это быстро выкладываем ему. Но Володя взмолился: «Братцы, мне нужно часа два поспать. Ехал в купе с военными – всю ночь пели и пили». Мы мягко напираем: «Володечка, как же так, мы же по телефону говорили, что будет напряженка. Актрисе Добронравовой надо уезжать в Ленинград на спектакль». А он с юморком: «Девчонки, вы со мной не очень-то… Я в Москве теперь знаменитый». Пришлось отвезти его в гостиницу «Неман». Через пару часов идем в номер будить, захватив еду и игровой костюм. Заходим к нему и видим: Володя лежит одетый на кровати, ноги на приставленном стуле, руки скрещены на груди. Подумалось, что солдат прикорнул перед боем.
В Гродно Володя приехал легко одетый, в одной рубашке, говорил, что прямо со спектакля на поезд. А на следующий день резко похолодало. Володю одели в съемочный реквизит. Есть фотографии, где Высоцкий одет в кофту Княжинского или в съемочную куртку. А как только Володя увидел на мне свитер, который я связала для брата, тут же стал упрашивать продать ему. «А с братом, мол, в Минске сочтемся». – «Хорошо, – говорю, – только гони 10 рублей за нитки». Через некоторое время смотрю журнал «Театр» со снимком Высоцкого в роли Гамлета. Высоцкий там в черном свитере ручной вязки, похожем на мой…»
А. Грибова: «В Гродно были очень хорошие съемки (шли с 22 сентября по 28 октября). Снимали серьезную сцену на вокзале, и Володя нервничал. Но сняли хорошо. Под конец съемки Высоцкого «загрузили» немножечко. Вечером Володя пришел в ресторан в военном костюме – он его «обживал» и ходил в нем постоянно, то есть как был на съемочной площадке, так и пришел. Он присел в ресторане за наш столик – я была с Ларисой Фадеевой. Ожидая свой заказ, Володя вдруг стал снимать с себя грим, то есть шрам на лице. Это было ужасно, так как в этот день мы все были на нервах после трудной съемки. Короче, я вспылила и убежала, бросив обед. Володя расстроился еще больше. Утром пришел извиняться. А он был легкораним, особенно в тот период.
В Гродно случилась интересная история с сапогами. У меня из реквизита была одна пара сапог на троих актеров: Ташкова, Высоцкого и еще кого-то. Они все снимались в разных эпизодах, поэтому сапог хватало. После съемки Володя уехал навеселе в гостиницу «Неман». Утром привозят его на съемку, а он в гимнастерке и босой… Я ему говорю: «Где сапоги?». А он: «Не знаю…» – «Убью. Здесь, на месте». Съемка срывается. Сорокового размера больше нет. Я вся в слезах. Кто-то из ребят хватает машину и едет к нему в номер. Высоцкий в этот момент сидит в гриме. Сапоги находят на антресолях – он умудрился их туда зашвырнуть. Привозят их, а он: «Надо же, оказывается, я был в сапогах». Позже Ташков эти сапоги прорубил, когда снимали рубку дров в Ялте…»
По возвращении Высоцкого в Москву, 15 октября, собирается новое собрание, где вопрос уже ставится ребром: выгнать его из театра. Тот клятвенно обещает исправиться и даже заявляет, что готов лечь в больницу на лечение, но только после того, как сыграет 18 ноября премьеру «Павших и живых» и уладит еще ряд важных дел. Здесь стоит более подробно рассказать об этом спектакле, поскольку вокруг него тогда разгорелась настоящая баталия, опять же связанная с «еврейской темой».
Спектакль являл собой поэтическое представление на тему Великой Отечественной войны и состоял из стихов поэтов, которые либо сами воевали (М. Кульчицкий, Б. Слуцкий, Э. Казакевич, П. Коган, В. Багрицкий, Н. Майоров и др.), либо писали о войне в тылу (Б. Пастернак, О. Бергольц и др.). Подбор поэтов был составлен Юрием Любимовым таким образом, что это были сплошь неофициозные авторы – те, чья поэзия реже всего звучала в дни официальных торжеств (как говорили сами либералы: «не трескучая поэзия»). Однако неприятие высоких цензоров вызвало главным образом не это, а то, что большинство этих авторов были евреями: Слуцкий, Коган, Пастернак, Багрицкий, Казакевич (в их число по ошибке был зачислен и Кульчицкий). И в этом неприятии основным фактором выступал не столько антисемитизм кого-то из цензоров (хотя нельзя утверждать, что таковых среди них не было), сколько политическая составляющая: желание державников дать понять мировому сообществу (главным образом США и Израилю), какое место в СССР занимает еврейская элита – не главное.
Естественно, Юрий Любимов прекрасно все это понимал, поскольку с недавних пор (с момента прихода в «Таганку») превратился не в рядового режиссера, а в активного участника большой политики (на ее идеологическом направлении). Причем его активность росла по мере того, как накалялась обстановка вокруг «Таганки». Как мы помним, одним из ее негласных кураторов был один из руководителей Международного отдела ЦК КПСС Юрий Андропов, а на прямом контакте с Любимовым был его сотрудник – Лев Делюсин. Был «свой человек» у Любимова и в Политбюро – Анастас Микоян. И вот однажды… Впрочем, послушаем рассказ самого режиссера:
«К нам в театр пришел Микоян, который был тогда президентом (председателем Президиума Верховного Совета СССР. – Ф. Р.). Он смотрел «Десять дней…». Лицо у него было каменное, отвлеченное… Он спросил: «Как живется, какие у вас сложности?» Я ему и говорю: «Вот закрыли „Павшие и живые“. – „А почему?“ – „Да состав не тот“. И рассказал ему этот случай с Кульчицким. Микоян мне сказал: „А вы спросите их, разве решения ХХ и ХХII съездов отменили?“ – „Я, конечно, могу спросить, но не лучше ли вам, как президенту?“
Вот тут он первый раз посмотрел на меня оценивающим, внимательным взглядом. До того – это была маска. И я понял, что с ними нужно разговаривать откровенно и прямо, но для этого, конечно, нужно набраться храбрости. Но я был в отчаянном положении. Театр только начал существовать, закрыли спектакль, билеты на который уже были проданы на месяц вперед…»
Отметим, что Микоян с момента смещения Хрущева (которого он всегда активно поддерживал) большим авторитетом в верхах уже не пользовался. Однако, учитывая его прежние заслуги, соратники «сплавили» его в президенты (должность совершенно формальная), рассчитывая в скором времени и оттуда его убрать (что и произойдет очень скоро – в марте 66-го, когда Микоян станет всего лишь рядовым членом Президиума Верховного Совета СССР). Поэтому помочь Любимову он уже особенно и не мог. Разве что советом. Вполне возможно, он его дал. И Любимов прямиком отправился не к Льву Делюсину, а к негласному куратору «Таганки» Юрию Андропову: помимо того, что тот был руководителем Международного отдела ЦК КПСС, где отвечал за соцстраны (вторым руководителем был Борис Пономарев, за которым были закреплены страны капиталистические), он был еще с 62-го года и секретарем ЦК КПСС.
Первое, с чего начал беседу Андропов с режиссером, – выразил ему благодарность. За что? Оказывается, его дочь хотела поступить в труппу «Таганки» в качестве актрисы, но Любимов ее не принял, не найдя в ней особых талантов. Андропов и его жена были счастливы, поскольку совсем не хотели, чтобы их дочь становилась актрисой (зато она потом выйдет замуж за актера… «Таганки»). В итоге беседа, начавшись столь благожелательно для гостя, дальше потекла как по маслу.
В ходе ее Андропов обронил весьма интересную фразу: «Давайте решим небольшую проблему, всех проблем все равно не решишь». Это было характерно для Андропова: будучи человеком крайне осторожным, он всегда так поступал: если хотел добиться чего-то большого, шел к этому постепенно, шаг за шагом (так в итоге он дойдет до поста генсека). Любимов с этим предложением согласился и попросил о малом – спасти спектакль «Павшие и живые». Андропов пообещал. И слово свое сдержал – премьера спектакля состоялась. Но чуть позже судьба спектакля вновь повиснет на волоске – от Любимова потребуют новых правок, на которые он пойдет, следуя принципу: пожертвовать малым ради большего.
Отметим, что главными идейными врагами «Таганки» не случайно будут выступать деятели со славянскими корнями: Петр Демичев (секретарь ЦК КПСС по идеологии и кандидат в члены Политбюро), Василий Шауро (заведующий Отделом культуры ЦК КПСС), Юрий Мелентьев (заместитель последнего, чуть позже – министр культуры РСФСР). Всех этих деятелей либералы за глаза называли антисемитами, но это была вполне обычная практика господ-либералов. Например, когда какой-нибудь юморист-еврей (а их, как мы знаем, в этом жанре всегда было особенно много) с издевкой показывает со сцены русского пьяницу Петю Иванова – это называется искусством. А когда чиновник с русской фамилией запрещает ему это делать – это называется антисемитизмом.
Высоцкий в спектакле играл роль поэта Михаила Кульчицкого, и вся эта свистопляска как с запретом постановки, так и с нападками на его героя, в 24 года погибшего на фронте (как мы помним, цензоры и его причислили к евреям), вызывала в нем просто бурю возмущения. Тем более что в его собственных жилах тоже текла еврейская кровь. Как писал он сам:
- Я кругом и навечно виноват перед теми,
- С кем сегодня встречаться я почел бы за честь.
- И хотя мы живыми до конца долетели,
- Жжет нас память и мучает совесть –
- У того, у кого она есть.
Видимо, автор отказывал в праве иметь совесть всем тем, кто запрещал спектакль «Павшие и живые» по причине перебора еврейских фамилий, что расценивалось защитниками спектакля как проявление антисемитизма. Но это было не так. Тот же Шауро сам воспитывался в еврейской семье в Белоруссии и не мог быть антисемитом. В войну многие евреи героически бились с врагом плечом к плечу с русскими и другими национальностями, и никто в СССР не думал об этом забывать: практически каждое 9 мая в печати обязательно упоминались цифры потерь каждого из народов, населявших советский Союз: так, евреев, павших в рядах Красной армии, насчитывалось 120 тысяч (мобилизовано за годы войны их было 434 тысячи).
Однако не следует забывать, что после той войны началась другая – холодная. И она вносила свои коррективы во взаимоотношения советской власти с гражданами еврейской национальности. Стало все чаще происходить то, что еще Хрущев обозначил как «ненадежность евреев в политическом плане». А ведь в силу того, что евреи всегда составляли достаточно высокий процент в высшей советской элите (в идеологии, науке, культуре и искусстве), от их позиции многое зависело в том противостоянии, которое СССР вел с Западом. Не учитывать этого было бы верхом безрассудства (забвение этого принципа чуть позже, собственно, и приведет страну к краху). Поэтому власть достаточно часто шла навстречу евреям, но в то же время вынуждена была постоянно оглядываться и на другие народы, населявшие почти 300-миллионную страну, численность которых в процентном отношении была больше, чем у евреев. И честнее со стороны того же Любимова было бы, учитывая эти проценты, разделить своих поэтов в спектакле в равной пропорции: то есть наравне с «нефанфарными» поэтами-евреями включить туда, к примеру, поэтов этого же направления из числа русских, белоруссов, украинцев, узбеков и т. д. Ведь ту войну потому и выиграли, что она была именно ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ, НАРОДНОЙ (как пелось в песне: «…идет война народная, священная война»).
Кстати, уверен, что чиновники от культуры подобный вариант Любимову предлагали, но он наверняка его отмел, поскольку весь смысл затеи был именно в том, чтобы создать спектакль с уклоном в еврейскую сторону, дабы помочь либералам в их противостоянии с державниками. Здесь была та же история, что и с «Бабьим Яром» Е. Етушенко, – расчет был на завоевание доверия в среде либеральной (прежде всего еврейской) интеллигенции. Другое дело, чья это была инициатива: самого Любимова либо его кураторов из высших сфер, которые таким образом стремились к тому, чтобы «Таганка» побыстрее приобрела нужный вес в либеральной среде. Судя по всему, здесь сошлись интересы множества людей, представлявших различные группировки во власти. Не случайно поэтому, что спектакль не был закрыт волевым решением (а такая возможность у власти была), а был всего лишь отдан на переработку, которая не коснулась его краеугольного камня – процента поэтов-евреев, представленных в нем.
Возвращаясь к Высоцкому, отметим, что участие в этом спектакле еще сильнее сблизило его с либералами. Он познакомился с такими поэтами-фронтовиками, как Давид Самойлов (ближе всего) и Борис Слуцкий, игравшими заметную роль в идеологическом противостоянии с державниками. Именно перу Самойлова принадлежали следующие строчки:
- …Я обращаюсь к тем ребятам,
- Что в сорок первом шли в солдаты
- И в гуманисты в сорок пятом…
Именно по этой меже, как уже говорилось выше, и проходило фундаментальное расхождение либералов и державников из числа сталинистов: в вопросе о гуманизме. Либералы стояли на позиции, что его следует углублять, идя на дальнейшее сближение с Западом (в память о погибших товарищах – гуманистах 45-го; об этом говорил их программный фильм 61-го года «Мир входящему», снятый фронтовиком-гуманистом Александром Аловым и его молодым единомышленником Владимиром Наумовым), а державники-сталинисты стояли на противоположных позициях – что чрезмерная гуманизация отношений с Западом может привести к победе последнего. Итог в этом споре подведет два десятилетия спустя ставленник либералов-гуманистов Михаил Горбачев: развалив страну, он предаст светлую память о всех советских воинах, сложивших свои головы в борьбе за независимость СССР. Характерно, что именно в Германии Горбачев будет удостоен титула «Лучший немец года».
Но вернемся к Высоцкому.
7 ноября он дал очередной домашний концерт – у Л. Седова. Собравшиеся там гости стали слушателями следующих песен: «Песня снайпера», «Мой друг уехал в Магадан», «Мой сосед объездил весь Союз», «За тех, кто в МУРе», «Солдаты группы „Центр“, „Сыт я по горло“, „Песня про попутчика“ и др.
На следующий день Высоцкий отправился в Смоленск на съемки «Я родом из детства» (они проходили там 2 – 19 ноября). О том, какой популярностью он уже тогда пользовался у простых людей, вспоминает Р. Шаталова:
«Когда в ноябре мы переехали для съемок в Смоленск, то нам под известность Высоцкого ничего не стоило собрать массовку в шесть тысяч человек. Просто по радио объявили, что в массовках участвует Владимир Высоцкий. Хотя, пожалуй, людей было гораздо больше, их невозможно было посчитать при таком скоплении. И это – несмотря на холодную промозглую погоду.
На съемках случился такой казус. Приезжаем мы на берег Днепра, чтобы снять сцену казни полицаев. Массовка громадная, подготовка к съемкам затянулась… Володя забрался в тонваген, чтобы согреться, и там уснул. А мы в суматохе не заметили, что его нет на площадке… Через некоторое время спохватились, что на общем плане, который снимали, Володи нет. Признаемся в этом Турову. А он: «Ладно, подснимем на крупном плане». Володя проснулся и видит, что идет съемка. И он, как бы заглаживая вину, стал активно помогать ассистентам разводить массовку…»
Вернувшись со съемок, Высоцкий 18 ноября, сразу после премьеры «Павших и живых», не оставшись на банкет, отправился в Соловьевскую больницу.
Надо сказать, что алкоголиком себя Высоцкий тогда не считал и на все просьбы родных и друзей всерьез взяться за свое здоровье отвечал: «Не ваше дело». Когда его старый приятель Артур Макаров в сердцах бросил ему фразу «Если ты не остановишься, то потом будешь у ВТО полтинники на опохмелку собирать», – Высоцкий на него здорово обиделся и какое-то время даже не общался. Вспоминая запои мужа, Л. Абрамова рассказывает:
«Исчезал… Иногда на два дня, иногда на три… Я как-то внутренне чувствовала его жизненный ритм… Чувствовала даже, когда он начинает обратный путь. Бывало так, что я шла открывать дверь, когда он только начинал подниматься по лестнице. К окну подходила, когда он шел по противоположной стороне улицы. Он возвращался. А когда Володя пропадал, то первое, что я всегда боялась, – попал под машину, в пьяной драке налетел на чей-то нож…»
Однако в ноябре 65-го сложилась такая ситуация, что Высоцкий был поставлен перед дилеммой: либо пьянство, либо – «Таганка». И вот тут он по-настоящему испугался и выбрал последнюю. Его лечащим врачом в «Соловьевке» был известный ныне врач-психиатр Михаил Буянов. О том времени его рассказ:
«В ноябре 1965 года я проходил аспирантуру на кафедре психиатрии Второго Московского мединститута имени Пирогова: однажды меня вызвал Василий Дмитриевич Денисов – главный врач психбольницы №8 имени Соловьева, на базе которой находилась кафедра:
– В больницу поступил какой-то актер из Театра на Таганке. У него, говорят, большое будущее, но он тяжелый пьяница. Дирекция заставила его лечь на лечение, но, пока он у нас, срывается спектакль «Павшие и живые», премьера которого на днях должна состояться. Вот и попросил директор театра отпускать актера вечерами на спектакль, но при условии, чтобы кто-то из врачей его увозил и привозил. Мой выбор пал на вас… Не отказывайтесь, говорят, актер очень талантливый, но за ним глаз да глаз нужен. И райком за него просит…
Все прежние врачи шли у него на поводу, пусть хоть один врач поставит его на место.
И направился я в отделение, где лежал этот актер. Фамилия его была Высоцкий, о нем я прежде никогда не слыхал.
В отделении уже знали о моей миссии. Заведующая – Вера Феодосьевна Народницкая – посоветовала быть с пациентом поосторожнее:
– Высоцкий – отпетый пьяница, такие способны на все. Он уже сколотил группку алкоголиков, рассказывает им всякие байки, старается добыть водку. Одной нянечке дал деньги, чтобы она незаметно принесла ему водки. Персонал у нас дисциплинированный, нянечка мне все рассказала, теперь пару дней Высоцкий напрасно прождет, а потом выяснит, в чем дело, и примется других уговаривать. Он постоянно путает больницу, кабак и театр.
– Так он просто пьяница или больной хроническим алкоголизмом?
– Вначале ему ставили психопатию, осложненную бытовым пьянством, но вскоре сменили диагноз на хронический алкоголизм. Он настоящий, много лет назад сформировавшийся хронический алкоголик, – вступила в разговор лечащий врач Алла Вениаминовна Мешенджинова, – со всем набором признаков этой болезни, причем признаков самых неблагоприятных. И окружение у него соответствующее: сплошная пьянь.
– Неужто домашние не видят, что он летит в пропасть?
– Плевал он на домашних. Ему всего лишь 27 лет, а психика истаскана, как у сорокалетнего пьяницы. А вот и он. – Врач прервалась на полуслове.
Санитар ввел в ординаторскую Высоцкого. Несколько лукавое, задиристое лицо, небольшой рост, плотное телосложение. Отвечает с вызовом, иногда раздраженно. На свое пьянство смотрит, как на шалость, мелкую забаву, недостойную внимания занятых людей. Все алкоголики обычно приуменьшают дозу принятого алкоголя – Высоцкий и тут ничем не отличается от других пьяниц.
– Как вы знаете, Владимир Семенович, в вашем театре готовится премьера. По настоятельной просьбе директора – Николая Лукьяновича Дупака – наш сотрудник будет возить вас на спектакли. Только прошу вас без глупостей.
– Разве я маленький, чтобы меня под конвоем возить?
– Так надо.






