Богач, бедняк. Нищий, вор Шоу Ирвин
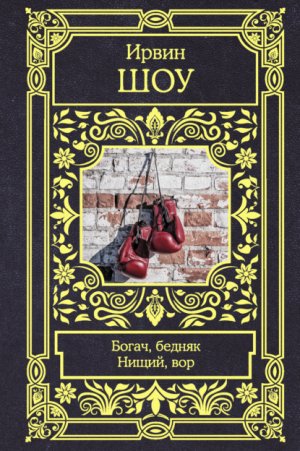
– Поможешь даме добраться до такси?
– Я хочу поговорить с тобой, – сказал он.
– Не здесь, – сказала она, взглянув на окно булочной. – Я хочу поскорее убраться отсюда.
– Угу, – согласился Рудольф, забирая у сестры чемодан. – Это, безусловно, не место для разговоров.
Они пошли по улице, ожидая такси. «Прощайте, прощайте, – пело внутри Гретхен, когда они проходили мимо знакомых мест. – Прощайте гараж Кланси и Бодибилдинг, прощайте ручная прачечная Сориано, мясная лавка Финелли, магазин “Эй энд Пи”, прощай магазин мелочей Болтона, прощай лавка красок и скобяных товаров Уортона, прощай парикмахерская Бруно, прощайте “Фрукты и овощи Джардино”». Она быстро шагала рядом с братом, и песня весело звучала в ее голове, но не без примеси легкой грусти. Трудно расстаться без сожаления с местом, где ты прожил девятнадцать лет.
Они поймали такси лишь через два квартала от своего дома и поехали на вокзал. Гретхен пошла за билетом, а Рудольф уселся на ее старомодный чемодан и задумался. Ему было обидно видеть легкость в движениях сестры и радость в глазах – ведь что ни говори, а она покидала не только дом, но и брата и родителей. Он не знал, как теперь вести себя с ней – ведь она уже спала с мужчиной. Ну и пусть себе трахается. Надо будет найти этому более благозвучное слово.
Она дотронулась до его руки.
– Поезд придет через полчаса, – сказала она. – Я бы чего-нибудь выпила. Давай отпразднуем проводы. Чемодан можно сдать в камеру хранения, а мы пойдем напротив, в «Порт-Филип-Хаус».
– Я понесу его с собой. За хранение нужно заплатить десять центов.
– Раз в жизни можно и пошиковать, – рассмеялась Гретхен. – Давай промотаем наше наследство. Пусть деньги летят направо и налево!
Беря квитанцию за хранение, Рудольф подумал, не перепила ли сегодня сестра.
В баре, кроме двух солдат, угрюмо пивших за стойкой пиво, никого не было. Здесь было темно и прохладно, и им виден был в окна вокзал, в котором светились огни. Брат и сестра сели за столик в глубине, и, когда бармен, вытирая руки о передник, подошел к ним, Гретхен решительно сказала:
– Два виски «Блэк энд уайт» с содовой, пожалуйста.
Бармен не стал спрашивать, исполнилось ли им уже восемнадцать. Гретхен сделала заказ таким тоном, будто пила виски в барах всю жизнь.
Вообще-то, Рудольф предпочел бы кока-колу. А то ведь ему в этот день уже пришлось выпить.
Гретхен шутливо ущипнула его за щеку двумя пальцами.
– Ну, чего ты так насупился? Ведь сегодня твой день рождения.
– Да-а, – протянул Рудольф.
– Ты не знаешь, почему папа отослал Томаса?
– Не знаю. Ни тот ни другой ничего мне не сказали. Это как-то связано с Тинкерами. Томми ударил отца – вот это я знаю.
– Ну и ну-у, – изумилась Гретхен. – Можно сказать, великий день!
– Уж это точно, – согласился Рудольф и, вспоминая, что ему рассказал Том про сестру, подумал, что день этот гораздо значительнее, чем ей кажется.
Бармен принес виски и сифон с содовой.
– Мне поменьше содовой, пожалуйста, – сказала Гретхен.
Бармен слегка брызнул содовой в стакан Гретхен.
– А вам? – И поднял сифон над стаканом Рудольфа.
– Так же, – сказал Рудольф, разыгрывая из себя восемнадцатилетнего.
Гретхен подняла стакан:
– За семью Джордахов – украшение Порт-Филипа.
Они выпили. Рудольф еще не получал удовольствия от виски. А Гретхен жадно сделала несколько глотков, словно ее мучила жажда и она хотела скорее допить первую порцию, чтобы осталось время повторить.
– Ничего себе семейка, – продолжала она, качая головой. – Знаменитая джордахская коллекция настоящих мумий. Поехали со мной. Будем жить в Нью-Йорке.
– Ты хорошо знаешь, что я не могу этого сделать.
– Я тоже так думала, а вот ведь делаю.
– Почему?
– Что – почему?
– Почему ты уезжаешь? Что случилось?
– Много чего, – уклончиво ответила Гретхен и снова сделала большой глоток виски. – В основном я уезжаю из-за одного мужчины. – Она посмотрела на брата вызывающе. – Он хочет на мне жениться.
– Кто? Бойлен?
– А ты откуда знаешь? – Зрачки ее расширились и потемнели.
– Мне Томми сказал.
– А ему откуда известно?
«Почему бы и не сказать, – подумал Рудольф. – Сама напрашивается». От стыда и ревности ему хотелось сделать ей больно.
– Он был возле дома Бойлена и подсматривал за вами.
– И что же он увидел? – холодно спросила Гретхен.
– Бойлена. Голого.
– Бедный Томми, – рассмеялась Гретхен. В ее смехе звенел металл. – Голый Тедди Бойлен не такое уж привлекательное зрелище. Он и меня видел голой?
– Нет.
– Жаль. По крайней мере не зря бы перся в такую даль. – Она сказала это безжалостно, словно намеренно мучила себя. Раньше Рудольф ничего подобного за ней не замечал. – А почему он решил, что там была именно я?
– Бойлен громко спросил, спустишься ли ты или тебе принести виски наверх.
– О, так это было в ту ночь. Незабываемая ночь. Как-нибудь я расскажу тебе подробно. – Гретхен внимательно поглядела на брата. – Не смотри на меня так грозно. Сестры имеют обыкновение становиться взрослыми и гулять с мужчинами.
– Да, но Бойлен… – с горечью сказал он. – Этот хилый старик.
– Между прочим, он не такой уж и старый и не такой хилый.
– Тебе он нравится, – осуждающе произнес брат.
– Не он, а это, – сказала она. И сразу как бы протрезвела. – Мне это нравится больше всего на свете.
– Тогда почему ты сбегаешь?
– Понимаешь, если я останусь, рано или поздно я выйду за него замуж, а Тедди Бойлен не годится в мужья твоей чистой, красивой сестренке. Сложно, правда? А разве твоя жизнь не сложная? Разве в твоей груди не пылает темная порочная страсть? К более зрелой женщине, которую ты навещаешь, пока ее муж торчит на работе, а?
– Не смейся надо мной, – сказал он.
– Извини. – Она погладила его по руке и жестом подозвала бармена: – Еще виски, пожалуйста. – И как только бармен ушел выполнять заказ, продолжала: – Кстати, когда я уходила, мама была совершенно пьяна. Она допила все вино, купленное к твоему дню рождения. Кровь ягненка. Все, что требуется такой семейке… – Она говорила так, словно обсуждала странности посторонних людей. – Пьяная сумасшедшая старуха. Обозвала меня блудницей. – Гретхен хихикнула. – Последнее ласковое напутствие девочке, уезжающей в большой город… Беги отсюда, – хрипло сказала она. – Уезжай, пока они окончательно тебя не искалечили. Беги из этого дома, где ни у кого нет друзей и где никогда не звенит дверной звонок.
– Никто меня не калечит, – сказал Рудольф.
– Ты выбрал себе роль и застыл в ней, братик. – Теперь ее враждебность была ничем не прикрыта. – Меня не обманешь. Тебя все обожают, но самому тебе абсолютно наплевать на всех и вся. Если, по-твоему, такой человек не калека, можешь хоть сейчас меня посадить в инвалидную коляску.
К ним подошел бармен и, поставив перед Гретхен стакан, до половины наполнил его содовой.
– Какого черта! – Рудольф поднялся из-за столика. – Если ты обо мне такого мнения, чего я тут торчу с тобой? Я тебе вовсе не нужен.
– Верно, не нужен, – согласилась она.
– Вот квитанция на твой чемодан. – Он протянул ей клочок бумаги.
– Спасибо, – невозмутимо сказала она. – Сегодня каждый из нас сделал положенное ему доброе дело.
Рудольф вышел из бара. Гретхен осталась сидеть, допивая вторую порцию виски. Ее миловидное лицо разрумянилось, глаза сияли, пухлые губы были жадно приоткрыты. Мысленно она была уже за тысячу миль от замызганной квартиры над булочной, от отца и матери, от братьев и от любовника, на пути в большой город, пожиравший каждый год миллион девушек.
А Рудольф медленно побрел домой. В глазах его стояли слезы. Ему было жаль себя. Сестра и брат правы. Они раскусили его. Надо ему измениться. Но как? Что должен изменить в себе человек, чтобы стать другим? Гены? Хромосомы? Знак зодиака?
Подойдя к Вандерхоф-стрит, Рудольф остановился. Он не мог даже и помыслить о том, чтобы пойти сейчас домой. Он не хотел видеть мать пьяной, не хотел видеть растерянность и ненависть в глазах отца. И вместо дома направился к реке. Закат оставил легкий отсвет на воде, и река, словно расплавленная сталь, текла мимо – в воздухе пахло, как в глубоком холодном погребе, вырытом в лиловой глине. Рудольф сел на покачивающийся причал возле склада, где его отец держал свою байдарку, и стал смотреть на противоположный берег.
Вдалеке что-то двигалось. Это была байдарка отца – весло взлетало в ровном ритме и крепко врезалось в воду: лодка двигалась вверх по течению.
Рудольф вспомнил признание отца в том, что он убил двоих: одного зарезал ножом, другого заколол штыком.
Он чувствовал себя опустошенным, потерпевшим поражение. Выпитое виски жгло грудь и оставило кислый привкус во рту.
«Я запомню этот день рождения», – думал он.
Мэри Пэйс-Джордах сидела в общей комнате, не зажигая света. Пахло жареным гусем и кислой капустой, остатками еды на блюде. «Двое уже ушли из семьи, – думала она, – хулиган и блудница. Теперь со мной остался только Рудольф. – В пьяном тумане мелькнула радостная мысль: – Вот если бы поднялась буря и перевернула лодчонку, унесла бы ее далеко-далеко по холодной реке, какой бы это был счастливый день!»
Глава 7
На улице у гаража засигналила машина, и Томас вылез из-под «форда», над которым трудился в ремонтной яме, вытер руки о тряпку и вышел на улицу – у одного из насосов стоял «олдсмобил».
– Полный бак, – сказал мистер Херберт.
Это был постоянный клиент, приобретший право на недвижимость вокруг гаража по низким ценам военного времени в ожидании послевоенного бума. Теперь, после капитуляции японцев, его машина часто проезжала мимо гаража. Он покупал бензин у Джордаха на купоны черного рынка, которые продавал ему все тот же Харольд Джордах.
Томас отвинтил колпачок и, держа палец на собачке шланга, стал заливать бензин. День был жаркий, и пары бензина волнами поднимались в воздух. Томас отвернулся, стараясь не вдыхать их. У него от этого каждый вечер болела голова. «Теперь, когда война окончилась, немцы используют свое химическое оружие на мне», – думал он. Томас считал дядю немцем, а вот про отца никогда так не думал. Это объяснялось, конечно, акцентом; картину дополняли две светленькие блондинки-дочки, которых по праздникам одевали в нечто похожее на баварский национальный костюм, тяжелая еда – сосиски, копченая свинина с капустой и мелодии Вагнера и песни Шуберта, звучавшие в доме, где непрерывно играл патефон, так как миссис Джордах любила музыку. Она сказала Томасу, чтобы он звал ее «тетя Эльза».
Томас был в гараже один. Механик Койн болел, а второй подручный уехал на вызов. Было два часа дня. Харольд Джордах в это время обедал дома. Sauerbraten mit spetzli [7], три бутылки светлого пива, а потом полчасика всхрапнуть на широкой кровати рядом с толстухой женой – главное, не перерабатывать, а то получишь раньше времени инфаркт. А Тому горничная ежедневно давала с собой бутерброды и фрукты, и он был вполне доволен такой едой и тем обстоятельством, что ел в гараже: лишь бы поменьше видеть своего дядю и его семью. Достаточно того, что ему приходится жить с ними в одном доме, в крохотной каморке на чердаке, где он всю ночь обливается потом: за день крыша накалялась от солнца, и жара стояла невыносимая. Получал он пятнадцать долларов в неделю. Неплохую дядя Харольд извлек выгоду из того горящего креста в Порт-Филипе.
Томас немного переполнил бак. Он вынул шланг, повесил его на колонку, прикрутил колпачок и вытер с заднего бампера машины вытекший бензин. Затем вымыл ветровое стекло и получил с мистера Херберта четыре доллара тридцать центов – тот дал ему десятицентовик на чай.
– Спасибо, – сказал Том, вполне правдоподобно изобразив благодарность, и проводил глазами «олдсмобил», поехавший в город.
Гараж Джордаха находился на выезде из города, так что немало машин останавливалось тут подзаправиться. Томас прошел в конторку, отстучал на кассовом аппарате полученную сумму и положил деньги в ящик кассы. Он сменил масло в «форде», и пока ему нечего было делать. Конечно, будь дядя в гараже, он тут же нашел бы работу племяннику. Например, заставил бы вымыть туалеты или навести блеск на хромированных бамперах старых машин, стоявших в углу двора под вывеской «Продается». Том лениво подумал: может, очистить кассу и смыться? Он выдвинул ящичек кассы – там оказалось всего десять долларов тридцать центов. Дядя Харольд, уходя обедать, забирал утреннюю выручку и оставлял в кассе только мелочь на случай, если понадобится дать сдачу кому-нибудь из клиентов. Он не стал бы владельцем гаража, заправочной станции, стоянки подержанных автомашин и городского агентства по аренде автомобилей, если бы относился к деньгам легкомысленно.
Взяв сверток с бутербродами, Томас вышел на улицу, приставил расшатанный деревянный стул к стене гаража и, усевшись в тени, стал глядеть на мчавшиеся мимо машины. Вид, который предстал его взору, нельзя было назвать неприятным. Машины, стоявшие на площадке в ряд по диагонали под яркими полотнищами, оповещавшими о цене, казались многоцветными кораблями. А через дорогу простирались поля, зеленые и цвета охры. Если сидеть не шевелясь, жара не так чувствовалась, а уже само отсутствие дяди Харольда создавало у Томаса чувство блаженства.
Ему вообще неплохо жилось в этом городке. Элизиум в штате Огайо был меньше Порт-Филипа, но гораздо богаче. Здесь не было трущоб и других признаков упадка, которые дома Томас принимал как нечто само собой разумеющееся. Неподалеку находилось небольшое озеро. На берегу стояли две летние гостиницы и коттеджи, куда летом приезжали их владельцы, живущие зимой в Кливленде. Элизиум походил на небольшой курорт: здесь были хорошие магазины, рестораны, устраивались конные аукционы и парусные регаты. А главное, казалось, что в Элизиуме у всех есть деньги – этим-то городок и отличался от Порт-Филипа в первую очередь.
Томас вытащил из пакета бутерброд, аккуратно завернутый в вощеную бумагу. На тонком кусочке свежего ржаного хлеба лежали бекон, листочки салата и ломтики помидора, обильно сдобренные майонезом. С недавних пор горничная Джордахов Клотильда начала готовить ему каждый раз новые, затейливые бутерброды вместо копченой колбасы на толстых ломтях хлеба, которыми ему приходилось обходиться в первые несколько недель. Тому было немного стыдно своих рук в пятнах от масла, с черными ногтями. Хорошо, что Клотильда не видит, какими руками он держит ее дары. Она милая, эта Клотильда, француженка из Канады, тихая женщина лет двадцати пяти. В доме Джордахов она работала ежедневно с семи утра до девяти вечера, выходной ей давали раз в две недели по воскресеньям, да и то лишь со второй половины дня. У нее были печальные темные глаза и черные волосы, что сразу как бы ставило ее на ступеньку ниже агрессивных блондинистых Джордахов, словно ей от рождения суждено быть их прислугой.
Вечером, возвращаясь поздно из города – дядя Харольд и тетя Эльза, как и родители Томаса, не могли удержать его дома, – Том всегда находил на столе в кухне оставленный Клотильдой для него кусок пирога. А он не мог не шляться. Ему не сиделось дома – темнота выгоняла его на улицу. Особых развлечений у него не было – случалось, он играл в мяч в городском парке, или шел в кино, а потом выпивал стаканчик содовой, или ему удавалось подцепить какую-нибудь девчонку. Чтобы избежать ненужных расспросов о Порт-Филипе, он не заводил друзей, со всеми старался быть вежливым и за все время пребывания в Элизиуме пока не подрался ни разу – еще жива была память о недавних неприятностях. Он не чувствовал себя несчастным. Радовался избавлению от гнета родителей, был доволен, что ему больше не приходится жить в одном доме и спать в одной кровати с братом. А то, что можно не ходить в школу, вообще здорово. Работа в гараже ему не претила, хотя дядя Харольд был порядочным занудой, вечно суетился и о чем-нибудь тревожился. Тетя Эльза кудахтала над Томом как наседка и поила апельсиновым соком, наивно заблуждаясь, что его мускулистая худоба – следствие недоедания. В общем-то и дядя, и его жена, хоть и гады, – считал он, – желали ему добра. Две двоюродные сестры Тома, еще девочки, не докучали ему.
Никто в этой семье не знал, почему его выгнали из дому. Дядя Харольд пытался расспрашивать Тома, но тот уклончиво ответил, что просто у него плохо шли дела в школе – кстати, это вполне соответствовало истине – и отец решил, что для него же будет лучше, если он уедет из дому и сам начнет зарабатывать себе на жизнь. Дядя Харольд был не из тех, кто недооценивает влияние самостоятельной жизни на формирование моральных устоев, тем не менее его удивляло, почему до сих пор Томас не получил из дому ни одного письма, и после звонка Акселя, сообщившего о приезде сына, всякая связь с Порт-Филипом прекратилась. Сам Харольд Джордах был примерным семьянином, обожал своих дочерей и не скупился на подарки жене, чей капитал, что ни говори, помог ему зажить в Элизиуме припеваючи. Говоря об Акселе Джордахе с Томом, дядя Харольд со вздохом отмечал разницу в характере братьев.
– По-моему, – рассуждал дядя Харольд, – это из-за раны. Он тяжело пережил свое ранение, отец Томаса. В нем поднялось что-то нехорошее. Точно до него никто никогда не был ранен.
Во всем отличаясь от брата, Харольд Джордах тем не менее в одном соглашался с ним целиком: немцы по натуре доверчивы как дети и ничего не стоит подбить их на войну.
– Только начнет играть оркестр, они уже маршируют, – говорил он. – А что хорошего в войне? Сержант кричит, а ты топаешь под дождем; спишь в грязи, а не в чистой теплой постели рядом с женой; подставляешь себя под пули совершенно незнакомых людей, а затем, если тебе повезло и ты выжил, остаешься в старой солдатской форме, не имея даже собственного ночного горшка! Война выгодна для крупных промышленников вроде Круппа, поставляющего армии пушки и военные корабли, а для простого человека… – Он пожимал плечами. – Сталинград! Кому это надо? – Будучи немцем до мозга костей, Харольд Джордах, однако, не принимал никакого участия в общественных движениях американских немцев. Ему нравилось жить там, где он жил, быть тем, что он есть, и ни под каким видом он не стал бы вступать в какую-либо организацию, которая могла его скомпрометировать. «Я ни с кем не враждую, – таков был один из основополагающих принципов его жизни. – Ни с поляками, ни с французами, ни с англичанами, ни с евреями, ни с кем… Даже с русскими! Любой, кто может купить у меня машину или десять галлонов бензина и заплатит настоящими американскими долларами, – вот он мой друг».
Томасу жилось в доме дяди довольно спокойно: он соблюдал правила, но держался своей линии, вызывая порой раздражение дяди тем, что сидел без дела в рабочий день, но по большому счету был благодарен за предоставленное убежище. Тем не менее он знал: пристанище это временное, рано или поздно он уйдет отсюда. Пока же торопиться некуда.
Он только собрался достать из пакета второй бутерброд, как к гаражу подъехал «шевроле» выпуска тридцать восьмого года, принадлежавший двум сестрам-близнецам. Том увидел, что в машине сидит только одна из них. Он не знал которая – Этель или Эдна. Как и большинство городских парней, он уже переспал и с той и с другой, но по-прежнему не различал их.
«Шевроле», скрежеща и скрипя, остановился. У родителей близняшек было полно денег, но они говорили, что для шестнадцатилетних девочек, которые еще ни цента не заработали в своей жизни, и старенький «шевроле» более чем хорош.
– Привет, двойняшка, – сказал Том, чтобы не попасть впросак.
– Привет, Том.
Загорелые, с прямыми каштановыми волосами и крепкими пухленькими задиками, близняшки были миловидными девушками с идеальной кожей, будто они только что омылись горной водой. И если не знать, что они переспали со всем мужским населением города, любому было бы приятно показаться с ними на людях.
– А ну скажи, как меня зовут, – потребовала девушка.
– Отстань.
– Если не скажешь, я заправлюсь у кого-нибудь другого.
– Валяй. Деньги идут не мне, а дяде, – сказал Том.
– Я собиралась пригласить тебя на пикник, – сказала она. – На озеро. Сегодня вечером. Жареные сосиски, целых три ящика пива. Но я тебя не приглашу, если не скажешь, как меня зовут.
Том с улыбкой глядел на нее, стараясь выиграть время. Он заглянул в «шевроле». Близняшка явно ехала купаться. На сиденье лежал белый купальник.
– Мне просто хотелось тебя подразнить, Этель, – сказал он. У Этель был белый купальник, а у Эдны синий. – Я тебя сразу узнал.
– Налей мне три галлона за то, что правильно угадал.
– Я не угадал, а знал с самого начала. Ты мне запомнилась, – сказал он, беря шланг.
– Еще бы. – Этель огляделась вокруг и сморщила носик: – Как можно работать в такой помойке? Такой парень, как ты, мог бы найти что-нибудь получше. Например, где-нибудь в конторе.
Когда они познакомились, Томас сказал, что ему уже девятнадцать и он окончил среднюю школу. Она тогда заехала поболтать с ним после того, как он в субботу днем минут пятнадцать выдрючивался перед ней, ныряя в озеро.
– Мне здесь нравится, – заявила Этель. – Я люблю работу на воздухе.
– Еще бы мне не знать, – сказал он, хихикнув.
Они занимались любовью в лесу, на одеяле, которое она держала в машине. Том занимался любовью с ее сестрой Эдной там же и на том же одеяле, правда в другие вечера. Близняшки легко относились к жизни и считали, что надо всем делиться, по-семейному. Они немало способствовали тому, что Том задержался в Элизиуме и в гараже дяди. Правда, что он будет делать тут зимой, когда в лесу ляжет снег, он еще не знал.
Он завинтил колпачок на баке и повесил шланг. Этель дала ему долларовую бумажку, но без купона на бензин.
– Эй, – сказал он, – а где купон?
– Сюрприз, сюрприз, – сказала она. – У меня все купоны кончились.
– Они должны у тебя быть.
Она надула губки.
– И это после всего, что было между нами! Ты считаешь, что Антоний требовал у Клеопатры купоны?
– Она же не покупала у него бензин! – сказал Том.
– Какая разница? Мой старик покупает купоны у твоего дяди. Из одного кармана – в другой. Ведь идет война.
– Уже кончилась.
– Ну, только что.
– Ну ладно, – сказал Том. – Только потому, что ты такая красивая.
– По-твоему, я красивее Эдны? – спросила она.
– На сто процентов.
– Я ей об этом скажу.
– Зачем? Ни к чему огорчать людей. – Его вовсе не прельщала мысль наполовину сократить свой гарем из-за утечки информации.
Этель заглянула в пустой гараж.
– Как ты думаешь, а в гараже этим занимаются?
– Побереги себя для сегодняшнего вечера, Клеопатра, – сказал Том.
Она хихикнула:
– Всегда приятно что-то попробовать. У тебя есть ключ?
– Со временем будет. – Теперь он знал, чем будет заниматься зимой.
– Почему бы тебе не оставить эту помойку и не поехать со мной на озеро? Я знаю место, где можно плавать голышом.
Она зазывающе заерзала по растрескавшейся коже сиденья. Надо же, чтобы две девушки из одной семьи были такими горячими штучками! «Интересно, – подумал Том, – какие мысли одолевают их отца и мать, когда они в воскресенье отправляются с дочерьми в церковь?»
– Я ведь работаю, – сказал Том. – Я нужен промышленности Штатов. Поэтому я не в армии.
– Как бы я хотела, чтобы ты был капитаном, – заметила Этель. – Мне бы понравилось раздевать капитана. Одну медную пуговицу за другой. А потом отстегнуть кортик.
– Знаешь что, уезжай поскорее, пока не пришел дядя и не потребовал у меня твой купон на бензин.
– Где мы сегодня встретимся? – спросила Этель, включая мотор.
– У библиотеки в восемь тридцать. Тебя устраивает?
– Ладно, в восемь тридцать, красавчик. Я весь день буду загорать, думать о тебе и вздыхать. – И, помахав ему рукой, она уехала.
А Томас снова уселся в тени на расшатанный стул. «Интересно, – подумал он, – Гретхен так же разговаривала с Теодором Бойленом?»
Он сунул руку в пакет и достал второй бутерброд. На нем лежал листок бумаги, сложенный вдвое. Он развернул его. По-детски аккуратными буквами карандашом было выведено: «Я тебя люблю». Том прищурился. Он сразу узнал листок – в кухне на полке всегда лежал блокнот, в котором Клотильда ежедневно записывала, что надо купить.
Том тихонько присвистнул и вслух прочел: «Я тебя люблю». Ему только что исполнилось шестнадцать, но голос у него был еще по-мальчишески высоким. Двадцатипятилетняя женщина, с которой он разве что перекинулся парой слов! Он тщательно сложил записку, спрятал ее в карман и уставился на поток автомобилей, мчавшихся к Кливленду; он не сразу принялся есть свой сандвич с беконом, салатом и майонезом.
Ни на какой пикник сегодня вечером он не поедет, это уж точно!
Джаз-банд Рудольфа «Пятеро с реки» играл «Твое время – мое время», и Руди исполнял соло на трубе, вкладывая в это всю душу, так как сегодня в зале была Джули – она сидела одна за столиком, смотрела и слушала его. Он сам играл на трубе, Кесслер – на контрабасе, Уэстермен – на саксофоне, Дейли – на ударных и Флэннери – на кларнете. Рудольф дал джаз-банду такое название, так как все они жили в Порт-Филипе, на Гудзоне. К тому же ему казалось, что название звучит вполне артистично и намекает на профессионализм.
С ними заключили трехнедельный контракт, и каждый вечер, за исключением воскресенья, они играли в придорожном дансинге «Джек и Джилл» на окраине города. Огромный дощатый барак сотрясался от топота танцующих. Вдоль стены тянулась длинная стойка бара, половина зала была заставлена маленькими столиками, за которыми посетители пили пиво. Парни приходили в теннисках, многие девушки – в брюках. Приходили и девушки без кавалеров. Они стояли у стены, ожидая, когда кто-нибудь пригласит их танцевать, или танцевали одна с другой. Одним словом, заведение было не из шикарных, но джазу Рудольфа платили неплохо.
Играя, Рудольф с удовлетворением заметил, как Джули отказала пригласившему ее парню в пиджаке и галстуке – явно студенту-первокурснику.
Родители Джули разрешали ей проводить субботние вечера с Рудольфом и приходить домой поздно – они доверяли Рудольфу. Он всегда нравился родителям девушек. И не без оснований. Но попади она в лапы сильно пьющего первокурсника, целующего взасос и разговаривающего с видом превосходства, трудно сказать, в какой скверной ситуации она может оказаться. То, что она отрицательно покачала головой, связывало их не менее прочно, чем обручальное кольцо.
Проиграв три такта музыкального автографа оркестра и тем самым объявив пятнадцатиминутный перерыв, Рудольф подал Джули знак выйти подышать свежим воздухом: несмотря на открытые окна, в бараке было жарко и сыро, как в долине Конго.
Когда они оказались под деревьями, где стояли машины, Джули взяла его за руку. Ладонь ее была сухой, теплой, мягкой и такой родной. Удивительно, какие сложные чувства может испытывать человек, просто держа девушку за руку.
– Когда ты исполнял соло, меня даже дрожь пробрала, – сказала Джули. – И я вся съежилась, как устрица, когда на нее капают лимоном.
Он прыснул от такого сравнения. Джули тоже рассмеялась. У нее имелся целый набор таких сравнений для описания того, что она чувствовала. «Я – как торпедный катер», – говорила она, нагоняя его в городском бассейне. «Я сейчас как луна в пору затмения», – заявляла она, когда ее заставляли дома мыть посуду и она из-за этого не могла прийти к нему на свидание.
Они прошли в конец автостоянки, подальше от выхода из дансинга, где на крыльце стояла целая толпа любителей подышать свежим воздухом, открыли дверцу какой-то машины, забрались в нее и стали целоваться в темноте. Они целовались до бесконечности, вцепившись друг в друга. Ее рот был пионом, котенком, мятой, кожа горла под его пальцами казалась крылом бабочки. Они целовались везде, где могли, но больше ничего себе не позволяли.
Он тонул, погружаясь все глубже и глубже, пролетая сквозь струи фонтанов, сквозь дым, сквозь облака. Все существо его любило, любило… Она запрокинула голову, и он поцеловал ее в шею.
– Я люблю тебя, – прошептал он, потрясенный охватившей его необыкновенной радостью, которую подарили ему эти впервые произнесенные слова.
Она прижала его к себе. От ее гладких сильных рук пахло летом, абрикосами.
Вдруг дверца открылась, и мужской голос спросил:
– Какого дьявола вы тут делаете?
Рудольф выпрямился и жестом защитника обвил рукой плечи Джули.
– Обсуждаем последствия взрыва атомной бомбы, – хладнокровно ответил он. – Зачем еще, по-вашему, мы сюда залезли? – Он скорее умер бы, чем обнаружил перед Джули растерянность.
Неожиданно мужчина рассмеялся.
– Задай глупый вопрос и получишь глупый ответ, – заметил он и немного придвинулся. В слабом свете фонаря, висевшего на столбе стоянки, Рудольф узнал его – гладко зачесанные рыжеватые волосы, кустистые светлые брови.
– Извини, Джордах, – сказал Бойлен. В его голосе звучало смешливое удивление.
«Он меня знает, – подумал Рудольф. – Но откуда?»
– Так уж получилось, что это моя машина, – продолжал Бойлен, – но, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Не буду мешать артисту во время его короткого отдыха. Я всегда слышал, что дамы предпочитают трубачей. – Рудольф предпочел бы услышать это в других обстоятельствах и от кого-нибудь другого. – Все равно я пока не собираюсь уезжать. Пойду чего-нибудь выпью. Вы с дамой окажете мне честь, если позже присоединитесь ко мне и выпьете в баре по стаканчику на сон грядущий. – С легким поклоном он осторожно закрыл дверцу и удалился.
Джули сидела неподвижно, сгорая от стыда.
– Он знает нас, – прошептала она.
– Меня, – поправил ее Рудольф.
– Кто это?
– Человек по фамилии Бойлен. Из всем известного «святого семейства».
– О-о, – выдохнула Джули.
– Вот именно: о-о, – сказал Рудольф. – Хочешь прямо сейчас уехать? Автобус отходит через несколько минут. – Ему хотелось предельно защитить ее, хотя он сам не знал от чего.
– Нет, – сказала Джули вызывающим тоном. – Мне нечего скрывать. А тебе?
– Абсолютно нечего.
– Тогда поцелуемся еще разок. – Она придвинулась к нему и обвила его шею руками.
Но в поцелуе была настороженность. Они больше не летели сквозь облака.
Они молча вышли из машины и вернулись в дансинг. Войдя в зал, они увидели у бара Бойлена – он сидел спиной к стойке, опершись на локти, и смотрел на них. В знак приветствия он приложил два пальца ко лбу.
Рудольф усадил Джули за ее столик, заказал ей еще бутылку лимонада, а сам вернулся на эстраду и начал раскладывать ноты для следующего отделения.
Когда в два часа ночи ребята сыграли «Спокойной ночи, дамы» и начали собирать свои инструменты, Бойлен все еще сидел за стойкой бара. Самоуверенный человек среднего роста, в серых брюках из тонкой шерсти и тщательно отглаженном полотняном пиджаке, он резко выделялся из толпы парней в теннисках, рыжевато-коричневой солдатской форме и в дешевых синих выходных костюмах. Заметив, что Рудольф с Джули собираются уходить, он неторопливо подошел к ним и спросил:
– Вам, детки, есть на чем доехать домой?
– В общем-то да, – ответил Рудольф. «Что еще за детки», – с неприязнью подумал он. – У одного из наших ребят есть машина, и мы обычно все в нее набиваемся.
Отец Бадди Уэстермена давал сыну семейную машину, когда он играл в клубе, и они пристегивали к крыше контрабас и барабаны. Если у кого-то была с собой девушка, ее завозили домой, а потом все отправлялись в ночную столовую съесть по гамбургеру.
– В моей машине будет удобнее, – сказал Бойлен, взял Джули под руку и направился к выходу.
Бадди Уэстермен вопросительно приподнял брови, увидев, что они уходят.
– Нас подвезут в город, – сказал ему Рудольф. – В твоем автобусе и так полно народу.
Это уже было легким предательством.
Джули сидела между ними на переднем сиденье «бьюика», который Бойлен вывел со стоянки, и машина помчалась к Порт-Филипу. Рудольф знал, что нога Бойлена прижата к Джули. Эта же плоть прижималась и к нагому телу его сестры. Странно было сидеть вот так, всем вместе, на том же переднем сиденье, где они с Джули целовались всего пару часов назад, но он решил показать себя человеком искушенным.
Рудольф почувствовал облегчение, когда Бойлен спросил адрес Джули, чтобы вначале завезти ее, – не придется потом устраивать сцену ревности. Джули, подавленная и необычно молчаливая, сидела между ними, глядя на дорогу, освещенную фарами «бьюика».
Бойлен вел машину быстро и уверенно. Стремительными рывками, как гонщик-профессионал, он обгонял идущие впереди машины. Рудольф не мог не восхищаться тем, как Бойлен держится за рулем, и ему стало не по себе – он не имел права восхищаться Бойленом: это тоже попахивало предательством.
– У вас славная образовалась группа, – заметил Бойлен.
– Спасибо, – сказал Рудольф. – Нам бы не помешало больше практиковаться и иметь новые аранжировки.
– Вы хорошо держите ритм, – сказал Бойлен. – Я даже пожалел, что слишком стар для танцев.
Рудольф мысленно одобрил это признание. Ему казалось нелепым и даже неприличным, когда люди старше тридцати танцуют. И снова почувствовал себя виноватым: опять ему что-то понравилось в Бойлене. Хорошо, что Бойлен по крайней мере не танцевал с Гретхен, не превратил себя и ее в посмешище. Когда старики танцуют с молоденькими, это уж совсем отвратительно.
– А вы, мисс?.. – И Бойлен умолк, дожидаясь, чтобы кто-нибудь из них произнес ее имя.
– Джули, – сказала она.
– А дальше как?
– Джули Хорнберг, – вызывающе произнесла она, стесняясь своей фамилии.
– Хорнберг? – повторил Бойлен. – Я знаю вашего отца?
– Мы совсем недавно переехали в этот город, – сказала Джули.
– Он работает у меня?
– Нет, – сказала Джули.
