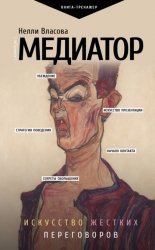Китай и логика стратегии Люттвак Эдвард

Edward N. Luttwak
THE RISE OF CHINA VS THE LOGIC OF STRATEGY
© The President and Fellows of Harvard College, 2012
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023
Благодарности
Эта книга возникла из исследования, проведенного в 2010 году по заказу Эндрю У. Маршалла, главы управления общих сетевых оценок при министерстве обороны. Мы неоднократно сотрудничали с ним на протяжении ряда лет, и для меня знакомство стало особой привилегией, ведь репутация Маршалла как стратегического мыслителя ничуть не уступает длительности его пребывания в должности: родившийся в 1921 году, он создал управление, которым с тех пор и руководит, в 1973 году. Мне также немало помогли консультации с сотрудниками управления, прежде всего с Дэвидом Ф. Эпштейном, тогда как Адам. С. Лавингер оказывал неизменную поддержку на протяжении всего исследовательского проекта. Разумеется, никто из них ни в малейшей мере не несет ответственности за текст книги – это уж моя и целиком моя чаша.
Поскольку это не анализ сил противника и враждебного окружения, а скорее непредвзятая исследовательская попытка объяснить поведение великой державы, расширяющееся сотрудничество с которой выглядит предпочтительным и крайне желательным, но в отношениях с которой не исключено и усиливающееся соперничество, я многое почерпнул из бесед с китайскими друзьями, в том числе со старшими офицерами и уважаемыми правительственными советниками. Кроме того, один из моих самых близких друзей Франческо Сиши прожил в Пекине не одно десятилетие; не соглашаясь со многими моими выводами, он заметно разнообразил мои последние поездки в Китай, которые благодаря ему оказались куда приятнее.
Наконец, с особым удовольствием хочу поблагодарить Майкла Аронсона из издательства «Гарвард пресс»: на протяжении многих лет он выступал инициатором и редактором моих книг, не чурался критики, но всегда был конструктивен.
Предисловие
К описанию современного Китая я приступаю как специалист по стратегии, а не как синолог, ибо универсальная логика стратегии вполне применима к любой культуре и любой эпохе.
Мой текст опирается на документы и работы цитируемых мною ученых, а также других исследователей, но должен признаться, что многое в нем почерпнуто из моих собственных впечатлений от поездок по Китаю: начались эти поездки задолго до того, как страна открылась внешнему миру, и даже в ту пору приводили меня в самые отдаленные уголки. С тех пор, учитывая, что условия для посещения постепенно упрощались, я продолжал ездить в Китай и по Китаю. Благодаря этому обстоятельству я хорошо помню ту жестокую нищету, что царила в стране при жизни Мао Цзэдуна, и мог воочию наблюдать чудесные перемены, которые начались вскоре после его смерти и продолжаются по сей день. Безусловно, отдельные недостатки и изъяны все еще имеются, однако меня несказанно радует улучшение благосостояния и личной свободы китайского народа вопреки по-прежнему строгому регулированию политического пространства, когда ограничиваются как общенациональное, так и этническое самовыражения. Вот почему я смотрю на Китай и его народ не как сторонний наблюдатель, а скорее как человек, вовлеченный в осуществление местных надежд и разделяющий опасения тех, кто давно доказал делом свою приверженность нашей дружбе (эту истинную дружбу я высоко ценю).
Именно поэтому меня печалят и тревожат те грустные и даже губительные последствия, к которым способно привести столкновение быстро развивающегося Китая с парадоксальной логикой стратегии. Пожалуй, в моей книге можно отыскать дополнительную цель, помимо простого анализа сильных и слабых сторон китайской политики: это надежда, пусть наивная и маловероятная, на то, что китайские правители освободятся от присущей им иллюзии, будто поистине планетарный размах деятельности, стремительный экономический рост и не менее стремительное наращивание военного могущества в состоянии сосуществовать и сохраняться в одном и том же мире. Только несбалансированный рост – экономический, но не военный – допускается логикой стратегии для Китая в нынешних условиях, и эту логику нельзя обмануть миролюбивыми заявлениями или хитрыми уловками. Для предотвращения печальных последствий логике стратегии следует подчиняться, даже если она противоречит здравому смыслу и обычным человеческим побуждениям. Стремительный рост благосостояния вряд ли способствует скромности и сдержанности; тем не менее никакое другое поведение невозможно в мире независимых государств, обреченных противостоять столь значительному возвышению Китая, уникальному в своих масштабах.
Глава 1
Иллюзия беспрепятственного возвышения
Сегодня принято считать, что будущее всего мира будет определяться возвышением Китая, то есть продолжением феноменально быстрого экономического роста Китая (пускай в наши дни этот рост немного замедлился) и наглядными естественными последствиями этого грандиозного всплеска экономической мощи – от усиления влияния в региональных делах и на мировой арене до дальнейшего укрепления китайских вооруженных сил. Что ж, это мнение вполне подкрепляется экономическим состоянием Китая после смерти Мао в сентябре 1976 года. Экономика КНР начала быстро расти в 1980-е годы, рецессии если и случались, то были краткими и не слишком сильными, да и признаков структурного замедления темпов роста не видно по сей день, несмотря на три десятилетия экономического бума. Рост валового внутреннего продукта ежегодно превышает 9 % с лишним, что вдвое выше максимального устойчивого прироста экономики Соединенных Штатов Америки и почти втрое выше прироста многих зрелых европейских экономик (не говоря уж о жалких темпах роста на Западе после кризиса 2007 года).
Нет очевидных оснований полагать, будто экономическое развитие Китая должно существенно замедлиться в ближайшем будущем. В сельской местности и даже в непосредственной близости от крупных городов многочисленные работники до сих пор не находят себе полноценного применения, подвизаясь в традиционном сельском хозяйстве, в мелкой уличной торговле и в розничных услугах. По мере того как бедные сельские жители получают занятость в промышленности, пусть даже это ручной труд, в строительстве и в современной сфере услуг, производительность их труда резко возрастает, увеличивая ВВП Китая. Вдобавок нужно помнить об органическом росте современных секторов китайской экономики, среди которых многие сохраняют высокую конкурентоспособность и потому способны быстро развиваться, даже если мировые рынки остывают.
Что касается военных расходов Китая, то за последние годы они, согласно доступным данным, увеличивались не менее высокими темпами, чем экономика в целом, достигая 9 % в год в реальном исчислении: феноменальный рост в эпоху, когда мировые военные расходы, в том числе в США (за исключением расходов на текущие военные действия), преимущественно стагнируют или даже сокращаются[1].
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) тем самым получила в свое распоряжение постоянный приток снаряжения, и давно миновали те дни, когда обилие ресурсов не обеспечивало укрепления военной мощи, поскольку все эти ресурсы расходовались на восполнение насущных потребностей, которыми долго пренебрегали.
Денежное довольствие и различные льготы в НОАК сегодня достаточно привлекательны для найма необходимого числа офицеров и солдат при росте занятости в гражданских секторах экономики[2], а ремонт старых и возведение новых казарм, военных баз, складов и прочих объектов вооруженных сил в основном завершились, и армия может рассчитывать на надлежащее сопровождение и поддержку.
Покончив с былым отсутствием внимания со стороны властей, НОАК, несмотря на изрядное число случаев мошенничества с поставками (даже бдительные гражданские покупатели, совершая покупки с куда более скромным размахом, нередко становятся жертвами фальшивых этикеток, подделок и мнимого сервисного обслуживания) и откровенное казнокрадство офицерского состава[3], сумела приобрести новое вооружение, боеприпасы и сопутствующее оснащение для умножающихся видов вооруженных сил и построить, расширить и модернизировать военные объекты всех типов, одновременно повышая уровень боевой и оперативной подготовки личного состава.
Все это привело к быстрому и комплексному росту военного потенциала – до уровня, который в последний раз был свойственен армии США в годы перевооружения в ходе Корейской войны, а в случае СССР – периоду с конца 1960-х до 1980-х годов.
В обоих случаях несомненный качественный прогресс сопровождался количественным ростом вооружений и личного состава для каждого рода войск; как любили выражаться марксисты, крупное увеличение количества способствует улучшению качества, подытоживая конечный результат. Вот почему, например, расходы на ВВС США в 1950–1960-х годах выросли более чем в три раза, а количество и характеристики самолетов заметно повысились, и боевые возможности ВВС стали не просто лучше, но изменились принципиально – возросли несопоставимо.
Логично предположить, что при сохранении стремительных темпов экономического и военного развития КНР и если мировое влияние Китая будет и далее возрастать, окажутся обоснованными широко распространенные сегодня ожидания того, что Китай вот-вот превратится в главную сверхдержаву, затмив собой Соединенные Штаты Америки[4].
Но такой исход все же выглядит наименее вероятным, потому что он опровергается самой логикой стратегии в мире множества государств, каждое из которых ревностно бережет свою автономность. К тому же ряд государств имеет культурную предрасположенность и политическую структуру, необходимые для попыток оказания влияния на другие страны; они не готовы принимать влияние извне.
Да, в 1980-х и 1990-х годах (за исключением событий 1989 года[5]) трехнаправленное развитие Китая – экономическое, военное и политическое – еще не нарушало мирового соотношения сил, но только потому, что Китай еще не разбогател, не сделался сильным и влиятельным по американским меркам – или по японским; для Европы и Латинской Америки он по-прежнему оставался экзотическим и закулисным персонажем. Но враждебная реакция фактически неизбежна, если экономический и военный рост Китая вырвется за пределы, единодушно приемлемые с точки зрения других держав – когда будет превзойден порог беспрепятственного восхождения КНР.
С учетом такой естественной реакции сопротивления любой дальнейший рост китайского могущества может быть одобрен другими державами лишь при наличии радикальных изменений внутри страны или вне ее границ – будь то демократизация самого Китая с последующей легитимацией правительства или появление новых, более серьезных угроз, способных превратить Китай из угрозы в желанного союзника (стоит обратить внимание на Пакистан: чем сильнее Китай, тем все охотнее Пакистан рассматривает его как важного покровителя).
Демократизация вряд ли обнулит значимость возвышения Китая и спровоцированной этим возвышением реакции – ведь даже сугубо демократические Соединенные Штаты Америки сталкиваются порой с сопротивлением со стороны собственных союзников просто по причине чрезмерной мощи.
Но если демократизация Китая все-таки состоится и политика страны перестанет формироваться в обстановке совершенной секретности немногочисленными партийными руководителями, если она сосредоточится на общественном благе, а не на обретении могущества, тогда мир станет меньше опасаться возвышения Китая, а китайские соседи и другие сверхдержавы снизят накал сопротивления. Демократизация не сможет отменить логику стратегии, которая требует нарастания сопротивления при усилении могущества, зато она отодвинет порог беспрепятственного возвышения Китая.