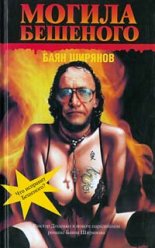Ищу Афродиту Н. Столяров Андрей

Да, кстати, говорит Бумбер. Есть тут одно дело, чуть не забыл… Он уходит в другую комнату, где в проеме дверей видны углы выставленных чемоданов, и секунд через пять возвращается, держа в руках пакет из коричневой дешевой бумаги, в такие на почте упаковывают бандероли. Такое вот дело. Калерия просила тебе передать…
В пакете – пачка стихов, подслеповато отпечатанных на машинке, и две фотографии – вертикальная и горизонтальная. На первой – девушка в блузке и клетчатой юбке курит у подворотни, оббитой за прошествовавшие десятилетия до кирпичей. Сверху видна табличка – «Улица Достоевского». На второй – та же девушка, причем в том же костюме, сидит на диване, чуть подавшись вперед, обе руки – на спинке, как будто устремилась к невидимому фотографу. Ты вроде бы ее знал? Вроде бы нет, отвечаю я. Бумбер называет имя – Оля Савицкая. Нет, говорю я, не знаю никакой Оли Савицкой. Стихи писала. Вы, вроде бы, ходили с ней в один семинар… Ах, да, после паузы говорю я. Но это же когда было. Наверное, лет тридцать прошло. Ну, не знаю, недовольно говорит Бумбер. Калерия меня попросила, я передаю. И что с ней? С Калерией? Нет, с этой… Олей Савицкой. Ой, ради бога, непонятная какая-то история, ответствует Бумбер. Исчезла куда-то, ушла, кажется, не вернулась. Честное слово, ничего больше не знаю. Передаточная инстанция. Ну, Калерия вспомнила, что вы были знакомы…
Бумберу сейчас не до этого. Бумбер уезжает работать в Штаты на целых два года. У него через четыре часа самолет. Он уже слегка пьян: крупные капли пота выступили на висках. К нему лучше не приставать. Он поворачивается в сторону кухни и изо всех сил, будто на улице, кричит: Лора!.. Появляется Лора в обнимку с какими-то рулонами ватмана. Брось это барахло, зови всех, надо на посошок… Четвертый уже посошок, говорит Лора. Бумбер машет рукой. Ладно, пилить меня будешь в Сан-Монико, штат Невада. Тогда хоть пополам можешь, хоть по кусочкам… Он как-то судорожно вздыхает. Обнимает – меня, Бориса, Ленку со смешными косичками, втиснувшуюся между нами. Лицо у него мятое и растерянное. Глаза в синеватых белках выворочены, как у лошади. Ему не хватает воздуха… Ребята… Ребята…Что нам теперь делать?..
* * *
Дома я рассматриваю содержимое пакета более тщательно. На фотографиях Оля старше, чем я ее помню, лет, вероятно, на десять – пятнадцать. На улице я бы ее, наверное, не узнал. У нее безмятежное, я бы даже сказал, уверенное, без тревог и сомнений лицо; лицо женщины, осознавшей свою роль, место в жизни, предназначение. Может быть, она даже счастлива в этот момент. Не знаю, трудно судить, но кажется почему-то, что в этот момент она – счастлива. Грива волос, спадающая на плечи, распахнутые глаза, губы, будто ожидающие поцелуев. Поверх блузки – ниточка цветных камешков или ракушек. Оказывается, она была просто красавицей, эта Оля Савицкая. Впрочем, у женщин случаются иногда такие мгновения, когда они изумительно хорошеют. Как будто вспыхивает легкий огонь внутри; жар его, его отблески чувствуются даже при мимолетном взгляде. Меня только удивляет, что на уличной фотографии Оля курит. Разве она курила? Я этого совершенно не помню. Впрочем, я оттуда вообще мало что помню. Это же конец семидесятых годов, еще брежневская эпоха, как сейчас принято говорить, «период застоя». Медленное, будто в сиропе, течение времени: ни событий, ни изменений, вязкость, которую ничем невозможно разметить; в философии это называется «дурной бесконечностью»; один день прилипает к другому, смещается, неотличим от третьего. Ужасная духота, которая, впрочем, тогда воспринималась вполне естественно. Я только что закончил университет и после паники, что возьмут в армию, устроился на первую в своей жизни исследовательскую работу. Что-то такое с переносом кальция через мембраны клеток. Сейчас подумать – просто бред сивой кобылы. Зачем это тогда было нужно? Ведь – юношеские мечтания, что в жизни следует совершить нечто великое. И вдруг – перенос кальция через мембраны. Сомнения, разумеется, приступы тупого отчаяния: что если избран неверный путь? Вообще – не хватает чего-то, чего-то существенного не достает. Это теперь понятно, что не хватало воздуха. Петербургская пыль, скользящие над асфальтом хлопья тополиного пуха. Как дальше жить, что делать?..
И вот, действительно – семинар при Доме культуры, если не ошибаюсь, Кировского завода. Тогдашняя мода: при каждом солидном промышленном предприятии – свой поэтический семинар. Занесло какими-то ветрами, приятель, имени, конечно, не удержалось. Да и зашел всего два-три раза, больше почему-то не получилось. Не столько стихи, которых я отродясь не писал, сколько неслыханная возможность поговорить на разные темы. Где еще можно поговоришь на разные темы? А после второго, кажется, заседания, естественно – вечеринка у одного из участников. Это уже как закон той эпохи: если собираются по какому-то поводу пять-шесть человек, то заканчивается гулянием чуть ли не до утра. Как только тогда хватало сил? Ведь просыпался потом, шел на работу, и – ничего… Вроде бы кабинет, стиснутый книжными переплетами, дешевый портвейн, присутствие чего-то такого закусочного… О закуске тогда, впрочем, не беспокоились… Пятна лиц, теснота, возбужденный гомон, надежды… Девушка в ярком спортивном костюме, что в те времена было редкостью… Ни единого слова – как зяблик, пристроилась на гладком поручне кресла… Неожиданно опускает стакан и, точно в трансе, ведет перед собой указательным пальцем… «Тот год! Как часто у окна / Нашептывал мне, старый: „Выкинься“. / А этот, новый, все прогнал / Рождественскою сказкой Диккенса. / Его зарей, его рукой, / Ленивым веяньем волос его / Почерпнут за окном покой / У крыш, у птиц, как у философов»… Здорово, надо сказать, читала. Голос такой – с хрипотцой, низкий, трогает. Но, между прочим, это еще не Оля Савицкая. Олю я, кстати, на вечеринке совершенно не помню. А вот почему потом пошел ее провожать? Почему, почему? Может быть, просто было тогда в одну сторону? Такие мелкие сцепки, которые, тем не менее, определяют иногда всю жизнь. Не определило, однако, но все равно – парк какой-то, сырость черных стволов, дальний пруд, мерцающие сквозь траву узкие трамвайные рельсы. По-моему, это – поздний вечер. Оля тянется к нависающей над нашими головами ветке и срывает с нее желтый кленовый лист. Я подхватываю ее, когда она опускается, и целую… Ничего… Потом – еще две или три ничем не примечательных встречи. Наверное, гуляли по улицам, наверное, опять целовались. Или это уже не с ней? Да нет, вроде бы, с ней… Семинар вскоре распался: кажется, руководитель у них уехал… Осень, дожди… Так, в общем, ничего из этого и не получилось… И еще одно смутное воспоминание, что года где-то через четыре Оля неожиданно позвонила, как только меня нашла, я к тому времени уже дважды сменил место жительства; годовщина была, что ли, какая-то, ты ведь, помнится, в этом тоже слегка участвовал? В голосе – ни намека на прошлое. Один старый приятель звонит другому. На встречу я, разумеется, не пошел; определился уже – по десять, по двенадцать часов просиживал в лаборатории. «Структурные отношения некоторых энзимов в мейотическом цикле». Другой мир, другая вселенная. Вот, пожалуй, и все.
* * *
Затем я читаю ее стихи. Они действительно отпечатаны не на принтере, как сейчас принято, а на пишущей машинке, к тому же еще – до предела изношенной. Одни буквы поэтому несколько выше строки, точно выпрыгивают из нее, другие, напротив, ниже, как будто им не достает усилий держаться, третьи – вовсе заваливаются, словно, опьянев, пытаются прислониться к соседним, а буква «е», кстати в русском алфавите наиболее часто употребляемая, вообще застревает, видимо, цепляясь за ближайшие клавиши; там, где автор не пробивает ее повторно, остается лишь тень, о значении которой догадываешься по смыслу. Из-за этого текст выглядит рябоватым, читать тяжело. А ко всему, это еще и сделано под копирку; второй экземпляр, может быть, даже третий, судя по водянистым размывам. Кое-где видны на полях пропечатавшиеся морщинки, а на паре страниц они образуют целые ветви, дотягивающиеся до текста. В общем, давно я не сталкивался с такой техникой исполнения. Так буквально и видишь согбенного, уставшего до изнеможения человека, который лишь после полуночи, когда только и появляется свободное время, чертыхаясь и отчаянно проклиная себя, выстукивает двумя пальцами по клавиатуре. Горит чуть приглушенная колпаком настольная лампа, бьются в дреме окна вспархивающие из мрака ладони, тупой стук клавиш отдается в висках. И все это – ради призрачного безумия быть кем-то прочтенным. Никогда этого не понимал…
Что же касается самих стихов, то мне они, в общем, нравятся. Нельзя, конечно, сказать, что меня так уж прошибло внезапным поэтическим откровением, что пронзило насквозь, обожгло, заставило по-новому ощутить окружающее. Такого, разумеется, не было. Да я этого и не ждал. И все же несколько стихотворений произвели на меня впечатление. Несколько стихотворений, несколько четверостиший, несколько строчек, запомнившихся как бы сами собой. Мне даже странно, что их написала девушка, которую я когда-то поцеловал. Что-то меня в них затронуло. Искренность какая-то торопливая, какая-то лихорадочная взволнованность, какое-то чувство, которое не умирает, даже если переносится на бумагу. Я, наверное, час или два не могу потом успокоиться. Мне вдруг начинает казаться, что в мире есть вещи более важные, чем «структурные отношения некоторых энзимов». Чего-то я раньше не понимал. Или, быть может, стихи так и должны действовать на человека? Или я просто уже давно не читал стихов? Когда мне читать: не успеваешь просматривать даже обязательную научную литературу. Вон у меня на полке под телевизором целая стопка книг, которые необходимо освоить в ближайший месяц. А для этого еще требуется найти время. В общем, есть, есть что-то в Оле Савицкой.
Мне только не слишком понятно, при чем здесь я? Если дело заключается в том, чтобы каким-то образом продвинуть эти стихи в печать, то данное обращение, честно говоря, не по адресу. Никаких связей в литературном мире я не имею, меня там не знают, и к моему мнению вряд ли прислушаются. Я даже не представляю, какая сейчас процедура принятия рукописей. Наверное, ведь существует какая-то процедура? Слишком уж все поменялось за последние несколько лет. Я просто не в состоянии ничем ей помочь. И потом опять-таки – почему именно я? Неужели имеет значение тот давний юношеский поцелуй в мокром осеннем парке? Пара встреч, которые ничем не закончились? Девичья влюбленность, испаряющиеся обычно через несколько месяцев? Ведь у нее затем была еще – целая жизнь. Ведь не хранила же она память об этом крохотном эпизоде почти тридцать лет?
Ничего не проясняет и мой разговор с Калерией. Бумбер, к счастью, записал ее телефон на оборотной стороне конверта. На самом деле она не Калерия, а Калерия Галактионовна – не знаю уж, как ей удалось дожить с таким именем-отчеством до девяноста трех лет. Или как раз имя с отчеством помогло? Привило ту стойкость, без коей в нашей стране просто не выжить. Во всяком случае, Калерия глуховата, о чем Бумбер меня тогда же предупредил, аппарат у нее тоже – старый, не менявшийся, наверное, пару десятилетий, из трубки то и дело доносится оглушительный треск, и потому общение превращается в муку, требующую совершенно нечеловеческого терпения. Все-таки кое-что мне выяснить удается. Оказывается последние десять – пятнадцать лет Оля проживала как раз в квартире Калерии, была замужем за каким-то ее внучатым племянником, потом развелись: что, как? теперь, разумеется, не установить; племянник переехал в Москву и растворился в коммерческой деятельности; видимо – насовсем, даже самой Калерии ни разу не позвонил. Еще в детства был с каким-то тараканами в голове. Ну а что до меня, тут совсем просто. Оля, оказывается, как-то роясь в газетах, наткнулась на мой портрет (лет пять назад действительно было напечатано некое интервью), и вдруг выяснилось, что Бумбер, который, кстати, Калерии тоже родственник, не только родственник, но еще и мой старый приятель. Все-таки Петербург – город маленький. Где-то через неделю то ли в шутку, то ли всерьез, кто его знает, сказала: Смотрите, Калерия Галактионовна, вот конверт. Если что – передадите этому человеку. Значит, помнила все же, что мы когда-то поцеловались? А в милицию по поводу исчезновения вы, Калерия Галактионовна, заявляли? Заявляла, заявляла я в вашу милицию. Четыре заявления написала… И что?.. Отвечают, что – ищут…
Вот так мы с Калерией поговорили. И, честное слово, когда я положил трубку, которая, по-моему, даже раскалилась от нервических интонаций, когда отдышался немного и вернулся в свое обычное состояние, то у меня возникла вполне здравая мысль, что лучше бы все это дело оставить. Ничего не предпринимать. Сделать вид, что ко мне это отношения не имеет. В конце концов, хватает своих забот. Никому я здесь ничего не должен. Пусть идет, как идет. Все равно ничего хорошего из этого не получится.
* * *
Тем не менее, некоторые шаги я предпринимаю. В этом сказывается та проклятая добросовестность, которую я специально в себе воспитывал, занимаясь наукой. Каждое дело должно быть доведено до конца. Каждая версия – отработана и оценена в координатах общего направления. Иначе не только рискуешь прохлопать нечто действительно перспективное (явление «сверхтекучести» гелия, например, именно так и было в свое время пропущено), но и не сможешь в дальнейшем усилить главный сюжет периферийными данными. Работа окажется чересчур изолированной от других. Потеряны будут смысловые аналоги, потеряны сшивки со смежными областями, который, кстати, дают наибольшее количество откликов.
В общем, я раскапываю старые свои записные книжки, коих у меня великое множество, выписываю из них фамилии, адреса, телефоны, в подавляющем большинстве, разумеется, ничему уже не соответствующие, методично опрашиваю знакомых (метод, по мнению социологов, вообще наиболее эффективный), и в результате всех этих усилий, в действительности занимающих не так уж много времени, как может представиться на первый взгляд, я через две недели оказываюсь перед громадным многоквартирным домом на набережной Фонтанки, протянувшимся несколькими сквозными дворами до параллельной улицы. Некие предчувствия охватывают меня, еще когда я поднимаюсь по темноватой лестнице. Окна здесь в витражах, света внутрь проникает не слишком много. Электричество же по случаю дневного времени отключено, и потому номера квартир, давно, кстати, не протиравшиеся, разобрать очень трудно. Предчувствия же мои еще больше усиливаются, когда на звонок, как-то глухо, очень не по-современному брякнувший в коридорных глубинах, дверь открывает невысокая женщина в спортивном костюме, по-птичьи склоняет голову и рассматривает меня, как будто вообще первый раз в жизни видит постороннего человека.
Меня она, конечно, не помнит. Я ведь был у нее всего один раз, бог знает когда. Сколько лет, сколько событий прошло с того времени. Сколько людей возникло, сгинуло, преобразилось до неузнаваемости. А вот она, на мой взгляд, изменилась не слишком сильно: подсохла, конечно, черты лица, как деревянные, заострились, усилив рельеф, искусственная седина волос, вероятно, призвана скрыть седину настоящую. И все-таки это именно та девушка, из далекого прошлого – с замедленными движениями, с отстраненным, как будто из другого измерения, взглядом. Так и кажется, что она сейчас опять начнет читать Пастернака. И кабинет, где мы когда-то сидели, тоже абсолютно не изменился: те же сумерки от громадных тяжелых штор на окнах, те же корешки старых книг, золотящиеся в недрах шкафов, тот же столик с гнутыми ножками, правда, выглядящий теперь уже совсем антикварным. И единственной данью времени, показывающей, что оно все же идет, предстает компьютер, задвинутый в дальнюю нишу: по экрану его неторопливо плавают взад-вперед полосатые рыбки.
Женщину зовут Ираида. Тему нашего разговора, как это принято, я обозначил, когда договаривался о встрече, и потому она не тратит времени на необязательные вступления, а, предложив мне кофе и закурив, тут же переходит к сути вопроса.
Прежде всего Ираида уведомляет меня, что ничего нового она, сожалению, рассказать не может. Все-таки со времени исчезновения прошло уже, боже мой, четыре года. Были заявления, разумеется, был объявлен, как полагается, розыск, никаких результатов. Думаю, что мы об этом уже ничего не узнаем.
Она гасит сигарету на половине и тут же закуривает другую.
Я удивлен.
– Как четыре?.. Калерия мне говорила – вроде совсем недавно…
Ираида с досадой морщится.
– Ну, Калерия… У нее со временем, знаете… В общем, четыре года прошло. Вряд ли теперь можно что-нибудь предпринять.
Чувствуется, что данная тема ей неприятна. Она глубоко и сильно затягивается, так что обостряется кончик носа, отпивает пару глоточков кофе, который, надо признать, очень хорош, и порывистым жестом стряхивает пепел прямо на столик.
– У нее ведь были очень приличные данные, – говорит Ираида. – Это я вам – вполне объективно, тогда, конечно, жутко завидовала. А чего завидовать? Нечему тут завидовать… Но… не знаю, поймете вы меня или нет… в литературе помимо данных требуется еще и особого рода везение. Нужно, чтобы по крайней мере один раз «щелкнуло». Раздается такой тихий «щелк», и все вдруг начинают осознавать, что ты существуешь. Это еще не слава, слава – другое. Просто «щелк», после которого тебя воспринимают совсем иначе… Кстати, в дальнейшем из этого «щелка» может и ничего не последовать, но уж если он не раздастся, будьте уверены – точно ничего не последует. Вот у Оли такого щелка почему-то не получилось. Напечатала подборку стихов в одном приличном журнале, а «щелка» не слышно. Напечатала через год подборку в другом журнале – снова «не щелкнуло». Так – раз пять или шесть, точно уже не помню. Что-то у нее с этим никак не связывалось. Даже ни одной книги за десять лет выпустить не удалось. Такие, знаете, чучундры печатались… А у нее одно издательство, вроде, взяло – тут же развалилось на части, другое попробовало – что-то у них там случилось с директором, третье клялось-клялось, два года тянуло, довело до макета – так и осталось. Автор без книг – это что-то невыносимое.
Ираида поднимает ладони, как будто отвечает на незаданный мной вопрос.
– Да, конечно, этот «щелк» можно организовать. Надо по тусовкам крутиться, непрерывно ездить в Москву: там возможностей для поэта намного больше, обхаживать критиков, нужных людей, вечера творческие устраивать, «быть на виду». То же шоу, что на эстраде, но обязательно делать вид, что ничего такого не делаешь. Правила хорошего тона. А у Ольги, к счастью или к несчастью, подобной склонности не было. Просто физически не могла подойти к «нужному человеку». И потом, вы знаете, ведь у автора, если он, конечно, в самом деле поэт, появляется со временем такая особая гордость: не хотите – не надо, ничего делать не буду, пальцем не пошевелю, пусть оно как-нибудь – само собой. Глупо, наверное, но вот странно – без этого уже невозможно писать… А затем вообще перестала что-либо куда-либо предлагать… Был такой человек, по-моему, он и сейчас процветает. – Ираида называет фамилию, которая мне в упор не знакома. Вдруг поднимает указательный палец, как в прежние времена, чуть прищуривается и, будто в трансе, с расстановкой цитирует:
- «Топорный критик с космами патлатыми,
- Сосущий кровь поэзии упырь,
- С безумными, как у гиены, взглядами
- Сует под нос свой желтый нашатырь» [1]…
В общем, поганая, мерзкая была статья. Впрочем, не только о ней, он и про других писал то же самое. Есть такая порода критиков – специализируются на помоях. Обольешь дерьмом – по крайней мере заметят. Тоже – способ литературной карьеры…
– А как же друзья? – интересуюсь я.
Ираида смотрит на меня как на идиота.
– Какие в литературе друзья? В литературе друзей нет. В литературе – тусовка, боевые соратники, «ближний круг». Строятся клином, и – на штурм, на приступ, вперед, «новые поэтические голоса». Тут главное, чтобы в спину не выстрелили…
Она на несколько секунд умолкает, снова нехорошо прищуривается, вспоминая, вероятно, о чем-то своем, а потом машет рукой и берет еще одну сигарету.
Далее следует рассказ о неудачном замужестве. Через два года они развелись; не понимаю, зачем она вообще за него вышла… Сын вырос, поступил в институт, на третьем курсе уехал по обмену в Америку… Главное – какой-то тупик; почему-то никак не могла никуда приткнуться. На поэзию, конечно, не проживешь, надо где-то работать. И вот – редактором, править чужие рукописи, труд, надо сказать, сумасшедший, потом – опять редактором, потом – в каком-то эфемерном журнале. Одно время компоновала детские книжечки для познавательной серии; знаете – «мыть руки перед едой», одно время писала очерки по российской истории… И все равно – копейки, копейки… Прибежала как-то вся запыхавшаяся – дай в долг пятьдесят рублей. Что такое по нынешним временам пятьдесят рублей? Четыре буханки хлеба, семь раз проехать в метро. Плащ носила один и тот же – зимой, весной, осенью. Подкладку только пристегивала. Хорошо еще зимы были последние годы – теплые. Нигде не могла устроиться по-настоящему. Это понятно: чтобы устроиться, чтобы врасти, надо быть так же, как все. А чтобы писать, если уж хочешь писать, надо, напротив, ото всех отличаться. Без этого ни стихов, ни прозы не будет.
Я пользуюсь паузой и предлагаю Ираиде посмотреть рукопись. Ираида несколько мгновений колеблется, а затем говорит, что лучше не надо.
– Вдруг стихи и в самом деле хорошие? Вдруг – гений? Будет потом мучить совесть, что ничего для нее не сделала.
Она провожает меня до выхода. Заходить больше не приглашает, вообще – держится отчужденно. И только, взявшись уже за ручку дверей, неожиданно говорит:
– Главное в литературе – вовремя оттуда уйти. Вовремя понять, что тебе, к сожалению, не дано. Не мучаться дальше, не выжимать из себя одну тощую книжечку за другой.
– А чем вы сейчас занимаетесь?
– Переводами, – говорит Ираида.
– Ну и как?
– Тоже – хорошего мало…
* * *
Еще через пару недель я собираюсь к Калерии. Разговор-разговором, а все-таки, как мне кажется, следует встретится лично. По телефону из человека много не выжмешь. Мне хотелось бы выяснить – вдруг сохранились еще какие-нибудь Олины рукописи, может быть, дневники, указания, что с этим делать. В пакете, который мне передал Бумбер, никакой сопроводительной записки не было.
Конечно, я пытаюсь с ней предварительно созвониться. Я же не из милиции, чтобы свалиться человеку, как снег на голову. Вдруг она меня просто не пустит? Но на долгие, по двадцать-тридцать гудков, телефонные дребезжания никто не подходит. Это, впрочем, меня не сильно тревожит. Бумбер предупреждал, что Калерия иногда целыми днями не берет трубку. Сядет, например, к радио, включит телевизор – и готово, можно выломать дверь в квартиру, даже не повернет головы.
Все, однако, оказывается немного не так. Когда я подхожу к переулку, тянущемуся от Загородного проспекта к набережной Фонтанки (кстати, Ираида живет отсюда в пяти минутах ходьбы), то уже издалека вижу, что он перегорожен строительным дощатым забором, ворота, правда, открыты, через них со звериным рыком выезжают грузовики, но внутрь пройти невозможно – грунт настолько разбит, что образовалась устрашающая грязевая лужа. Да, собственно, и незачем проходить. Мне и отсюда видно, что все три дома, дальний из которых – Калерии, поставлены на ремонт. Они уже, вероятно, полностью освобождены от жильцов, многие окна выбиты, зияют теневыми провалами, верхние этажи обвалены, точно землетрясением, и между страшноватых кирпичных ребер топорщатся остатки брошенной мебели. Квартиры Калерии, правда, это еще не коснулось, но ясно, что через день-другой, дойдет очередь и до нее.
Вот чем, оказывается, это закончилось. Даже дом, где Оля жила последние десять-пятнадцать лет, более не существует. Не существует места, где она радовалась, писала стихи, мучалась, влюблялась, разводилась, воспитывала ребенка, где она была, вероятно, счастлива и где была, уж точно, несчастна, и откуда однажды выскочила ненадолго, чтобы никогда не вернуться. И если потом, спустя тусклые десятилетия, спустя очередные реформы, очередные пертурбации жизни, как-нибудь неожиданно выяснится, что Ольга Савицкая была выдающимся современным поэтом (честно говоря, я в это все же не верю), то даже мемориальную доску прикрепить будет некуда. Да и зачем ей доска? Зачем знаки внимания человеку, которого уже нет?
Некоторое время я меланхолично брожу по окрестным улицам, сижу в каком-то кафе, выпиваю две чашки довольно неприятного кофе. Мне хочется почувствовать здешнюю атмосферу: вот по этому переулку она каждый день ходила, вон в тот садик, который, правда, отсюда не виден, водила гулять ребенка, бегала, наверное, вон в ту булочную, вон в тот магазин – таким же весенним днем, с сумкой, радостная, полная жизни, еще не знала, что впереди у нее – гнетущая пустота.
Что она делала во времена перестройки? Торчала, наверное, вместе со всеми на митингах, спорила, отчаивалась, надеялась, кричала до хрипоты, требовала того, чего, разумеется, быть никогда не может; во дни путча, скорее всего, стояла на Исаакиевской площади, может быть, даже входила в какую-нибудь самодеятельную «группу защиты». Потом оглянулась через несколько месяцев – другая эпоха, другие люди, непонятно, как с ними существовать… И дальше – дефолт, мгновенная нищета, денег (представить сейчас невозможно) не хватает даже на транспорт, приходится выбирать между обедом и ужином, вечная боль в затылке от того, что не на что жить …
Я меланхолично думаю обо все этом, и чем больше я думаю, тем меньше оно совмещается с памятью о той давней девочке, которая приподнялась когда-то на цыпочки, чтобы сорвать огненный кленовый лист. Разве предполагала девочка, что ее ждет? Разве догадывалась, какая жизнь ей предстоит? Если бы ей рассказать тогда – не поверила бы. И все равно, вероятно, прожила бы ту же самую жизнь. И еще я думаю о странностях Гоголя – ходил в диком платье, фактически уморил себя голодом, об эпилепсии Достоевского, о его маниакальной страсти к игре, думаю о трагической жизни Цветаевой, покончившей с собой в далекой Елабуге, об Ахматовой, на десятилетия замурованной в тишину Фонтанного дома. Неужели, чтобы писать, надо платить такую цену? Неужели нельзя обойтись какими-нибудь меньшими жертвами? И ведь если даже цена уплачена, если жертва принесена, это все равно, к сожалению, еще ничего не значит.
Вот такие у меня сейчас мысли. Я смотрю на тяжелые грузовики, которые с трудом протискиваются через ворота; морды у них у всех тупорылые, с рубчатых толстых шин стекает грязная жижа, мощный рык нахраписто прокатывается по переулку, и мне кажется, что вывозят они оттуда не мусор, а мертвое, забытое прошлое…
* * *
Далее я иду к поэтессе, которую рекомендовала мне Ираида. Фамилия поэтессы ни о чем мне не говорит, впрочем, я не знаток современной поэзии, однако, по словам Ираиды, здесь есть определенные шансы: поэтесса эта – на редкость энергичная женщина, делает карьеру, всегда в курсе всех наличных возможностей, имеет связи и в Петербурге и, что важнее, в Москве, составляет множество сборников, из коих некоторые выходят даже за рубежом, непрерывно выступает по радио с обзорами петербургской культуры. Она могла бы кое-что сделать. Одно время они с Олей были приятельницами. Если, конечно, поэтесса захочет. Тут самое существенное, разумеется, что Оля ей более не конкурент. Не может заслонить где-нибудь, помешать, откуда-нибудь отодвинуть. Человеку, которого нет, вполне можно помочь.
Поэтесса, как выясняется, живет в удручающих новостройках. Мне приходится ехать сначала до конечной станции одной веток метро, я уже несколько лет не бывал в подобных местах, а потом, поскольку для маршрутки здесь слишком близко, шлепать через громадный пустырь, забитый транспортом и разными торговыми точками.
Дом поэтессы, впрочем, оказывается в довольно симпатичном проулочке. Здесь – даже нечто вроде аллеи, огораживающей его от шума проспекта. Кусты сирени почти смыкаются над дорожкой, ведущей к двери парадной, и верхушки их уже опушены нежной зеленью. Наступает весна.
Это чувствуется и в поведении поэтессы, которая через несколько минут приглашает меня пройти в квартиру. Впрочем, она вероятно, всегда такая – энергичная, собранная, четко осознающая, что она делает и зачем. Кофе мне в этом доме, в отличие от Ираиды, не предлагают, зато сразу, хотя и вежливо, предупреждают, что здесь не курят. Затем меня усаживают в кресло у небольшого журнального столика, и всем видом дают понять, что время мое весьма ограничено.
Впрочем, инициативу разговора поэтесса берет на себя. Сдержанным тоном она сообщает мне, что с Ольгой Савицкой, к сожалению, была почти не знакома, сталкивались, конечно, на каких-то мероприятиях, парой слов перебрасывались, но ничего, кроме этого. Ольга вообще была не слишком общительна. Тем более, в тот период у нее… извините… был… роман… с одним… литератором… Ничем, разумеется не закончилось, как это обычно с литераторами и бывает: походили-походили, расстались, потом даже не замечали друг друга. Она ведь довольно симпатичной была, а симпатичные девушки в литературной среде – это редкость… – Поэтесса горделиво приподнимает голову и как бы случайно касается рыжеватых своих волос в мелкой завивке. Себя она явно считает исключением из общего правила. – Что же до публикаций… Я вас по телефону правильно поняла?.. То, видите ли, один сборник, который меня попросили курировать, уже составлен, он – в типографии, будем надеяться, что через два месяца выйдет, а второй, который только что заказали из-за рубежа, будет посвящен исключительно «новой волне» в поэзии. Савицкая туда не подходит просто по возрасту. Да и зачем ей сборники? Ей надо выпустить полноценную книгу. У нее наберется стихов на книгу? Есть пара издательств, которые выпускают поэзию более-менее систематически. Тоже, разумеется. не так все просто, но как член обоих редакционных советов она этот вопрос может затронуть…
Поэтессе явно хочется произвести на меня впечатление. Она не замужем, как мельком, но очень внятно сообщила мне Ираида. Вероятно, модная завивка не помогает. Я же, в свою очередь, обручального кольца не ношу, а на визитке, которая была мной представлена в первую же секунду знакомства, сказано, что я – профессор, доктор наук, директор Международного центра по изучению там чего-то. В конце концов, ведь не столь уж важно – чего. И хотя, «профессор, доктор наук» – ныне совсем не то, что в прежние советские времена, но, по мнению поэтессы, видимо еще что-то значит.
К счастью, в этот момент требовательно звонит телефон. Поэтесса хватает трубку, и начинается долгий, видимо, неприятный для нее разговор, полный недомолвок и многозначительных пауз. Насколько можно судить, речь идет о каком-то поэтическом фестивале, намеченном на сентябрь, проводится он в Испании, и поэтесса твердо намерена в нем участвовать. Причем лю
бопытно как у нее меняется голос: он то воркует и обвораживает, будто на другом конце провода находится ее давний любовник, то вдруг практически без перехода становится сухим и жестким, точно у автомата, и я тогда действительно вижу перед собой не столько женщину, сколько члена двух издательских редколлегий, непременного составителя всяких сборников, председателя, как выясняется из беседы, какой-то комиссии, фигуру в литературном мире далеко не последнюю.
Правда, ни то, ни другое не помогает. Поэтесса бросает трубку с такой силой, что аппарат подпрыгивает.
– Вот сволочь, – говорит она, облизывая узкие губы. – Это – секретарь нашей писательской организации. И я еще за него проголосовала… Месяц назад клялся, что меня включат в состав делегации…
Собственно, делать здесь больше нечего. Несколько секунд поэтесса молча сидит, олицетворяя собой горестное изваяние, сразу чувствуется, что человека незаслуженно оскорбили, однако быстро спохватывается и сообщает, что хотела бы подарить мне свой новый сборник стихов. Снимает с полки довольно скромную книжечку в мягкой обложке, открывает ее, не задумываясь ни на мгновение, делает надпись на первой странице, и, уже протягивая книжечку мне, точно облагодетельствовав, как бы вскользь добавляет, что на следующей неделе состоится ее презентация. В среду, в восемнадцать часов, Литературный музей.
– Было бы очень приятно вас видеть…
Я ощущаю себя в ловушке. Мне по роду работы известен этот менеджерский прием из «психологии управления»: человеку делается подарок, причем такой, который ему, быть может, совершенно не нужен, а потом, когда возникает естественное ощущение благодарности, следует просьба – и отклонить ее уже почти невозможно.
Я, как всегда в таких случаях, отвечаю, что обязательно постараюсь. Поэтесса моим ответом вполне удовлетворена. Она благосклонно кивает, принимая его за согласие, и небрежно, легко, мизинцем касается выложенной на столик Олиной рукописи:
– А это вы бросьте, – доверительно говорит она. – Не тратьте времени. Честное слово, никому это не нужно…
* * *
На вечер поэтессы я все-таки прихожу. Я делаю это не по обязанности, такие вынужденные обязательства я уже давно, без угрызений совести игнорирую. Просто я рассчитываю, что вечер будет для профессиональной литературной среды, и мне, может быть, удастся поговорить там с людьми, причастными к книгоизданию. Вдруг из этого что-нибудь да получится.
С книгой я к тому времени, естественно, уже ознакомился. Больше, конечно, перелистал, чем прочел – она не произвела на меня особого впечатления. По-моему, это тот, вероятно, довольно частый в литературе случай, когда у автора есть способности, но они, к сожалению, небольшие. Да, попадаются иногда удачные строчки, даже удачные четверостишия, но нет удачных стихов. Литературным событием она, конечно, не станет. А хуже всего, на мой взгляд, то, что в тексте явственно проступает натужность. Автору положено иметь книги, какой же автор – без книг? Автор без книг – это уже, извините, не автор. Вот поэтесса садится, напыживается и выдавливает из себя нужное количество строк. Не ждет, пока содержание будет накоплено за счет прожитого, пока оно отстоится, очистится от случайного, начнет обретать форму. Пока, наконец, оно само не запросится в мир – с такой внутренней силой, что противостоять ей будет нельзя. Нет, не терпится, недоношенное, скукоживается, умирает, превращается в «дерево».
В общем, проблески, не переходящие в свет. Стихи Оли Савицкой нравятся мне гораздо больше.
Меня удивляет лишь количество людей в зале. Здесь, как я быстро прикинул, сто двадцать мест, и практически все они оказываются заполненными. Конечно, значительную часть слушателей составляют пенсионеры, вероятно, жители ближайших домов, рассматривающие данный вечер как бесплатное представление, с таким же успехов они могли бы сидеть и в цирке, но хватает и людей молодых, литераторов, что ли, пришедших сюда, именно чтобы послушать стихи. Неужели поэзия привлекает такое внимание? Мне почему-то казалось, что ныне она – где-то на периферии.
Правда, когда я, ни к кому, собственно, не обращаясь, высказываю свое удивление по этому поводу, мой сосед, юноша в толстых очках, в свою очередь, поднимает брови:
– Вы что, не знаете, как это организуется? Обзваниваются двести человек, даже те, кто тебя заведомо терпеть не может, и умоляющим голосом приглашаются принять участие. А потом, конечно, делается вид, что все пришли сюда по велению сердца…
Поэтесса, заметив меня, милостиво кивает.
Сам вечер проводится, вероятно, по накатанной схеме. Сначала к микрофону выходит усохший, с уклончивым взглядом, какой-то никакой человек, как мне шепотом объясняют, главный редактор одного из петербургских журналов, который интеллигентной скороговоркой, перемежаемой непрерывными «кхе…» и «ме-е…», извещает нас, что современная поэзия вовсе не умерла, как многие ей предрекали, она продолжается, она живет в лице лучших своих представителей.
Эта простая мысль занимает у него почему-то целых пятнадцать минут, и когда он садится, в зале облегченно вздыхают.
Далее берет слово критик, которого я тут же узнаю по описанию Ираиды. Действительно – «косматые патлы», землистое лицо упыря, боящееся дневного света, взгляд «безумной гиены». Критик рассуждает об «античном жесте современной поэзии», о ее «инверсности», «интертекстуальности», «деструктивной амбивалентности нынешнего эстетического дискурса». Создается впечатление, что он просто не слишком умен. Что он хочет этим сказать, я так и не понимаю.
И наконец, наступает очередь самой поэтессы. Держится она очень уверенно и читает высоким девичьим голосом, подкрашенном трагической интонацией. Это, вероятно, должно вызывать сопереживание в зале. Натужность в ее стихах, тем не менее ощутима, редкие приличные строки тонут в словесном мусоре, которого значительно больше. Поэтесса, наверное, и сама это чувствует, поскольку тему собственно книги сворачивает довольно быстро и, пропев не более десяти-двенадцати стихотворений, переходит к рассказу о своей недавней поездке в Европу. Посетила она одним махом аж четыре страны, и ее наблюдения о приметах тамошней жизни не лишены интереса. У нее, вероятно, хорошо получались бы газетные очерки: все это простенько, мило, пересыпано вкусными, живыми подробностями. По-моему, как раз то, что любят читатели. Однако чем дольше поэтесса рассказывает о своих впечатлениях, тем сильней проявляется одна любопытная странность. Как-то само собой складывается ощущение, что стихов ее с нетерпением ждали чуть ли не в каждой стране, везде она оказывалась в центре литературной жизни, всякое ее выступление за границей сопровождалось невероятным успехом. Поэтесса на это, разумеется, особенно не упирает, напротив, дает понять, что сама смущена этим неожиданным обстоятельством, она на подобное внимание, естественно, не рассчитывала, но вот – такова реальность, от этого никуда не денешься.
Заканчивается же вечер тем, что некто в смокинге и манишке, придавленной к горлу «бабочкой», такого роста, что тыковка головы едва возвышается над роялем, то прижимая руки к груди, то выбрасывая их навстречу залу, гремучим «оперным» голосом исполняет романс на стихи поэтессы. Ни одного слова при этом не разобрать, а мелодия такова, что мне ясно – романс этот петь никогда не будут. Мне вообще кажется, что происходит нечто не слишком пристойное: не смущаясь и не краснея, явную копию выдают за подлинник. Причем если бы я не читал раньше книгу поэтессы глазами, я бы, наверное, слушал спокойно и ничего этого не заметил бы. Слушают же, в конце концов, остальные. Я, однако, читал, и мне как-то неловко от очевидного подмены.
И еще мне кажется почему-то, что Оля Савицкая таких вечеров устраивать бы не стала. Она пригласила бы, вероятно, близких друзей и приятелей, почитала бы им немного, послушала бы потом, как они говорят о своих делах.
Хотя, возможно, я ее несколько идеализирую. Это свойство памяти – реконструировать прошлое только в исправленной версии. Поэтому оно всегда выглядит лучше, чем настоящее. Может быть, и Оля была совсем не такой, как я ее себе представляю.
В общем, настроение у меня ужасное. Не дожидаясь окончания вечера, я спускаюсь, беру в гардеробе плащ, выскальзываю на улицу. Мне больше ничего не хочется делать. Мне хочется лишь, как можно скорее, забыть всю эту историю.
* * *
И все-таки я предпринимаю еще пару попыток. Я не понимаю, зачем это делаю – неужели только из-за того, что когда-то, почти случайно, поцеловал девушку в мокром осеннем парке? Сейчас это представляется уже почти нереальным. Где тот парк? Где та девушка, которая потянулась к нависшей над нашими головами тяжелой ветке? Разве это теперь имеет какое-нибудь значение? Разве та, немного наивная юношеская эпоха не сгинула безвозвратно?
Я не могу ответить на эти вопросы. И потому, вероятно, что не могу, они не дают мне покоя. В общем, я встречаюсь с двумя издателями, которые выпускают стихи. Мне рекомендовала их поэтесса, как только я позвонил ей, чтобы поблагодарить за «чудесный вечер». Много ли нужно слабой женщине? Она даже позволила на себя сослаться, хотя честно предупредила, что никакого значения это иметь не будет. В результате примерно через неделю я оказываюсь в очень длинной и узкой комнате, более похожей на коридор, и передо мной сидит человек, уже десять лет занимающийся изданием современной поэзии. Надо сказать, что он совсем не похож на издателя: мятые брюки, старый, растянутый на локтях свитер, которому, наверное, исполнилось лет тридцать, не меньше. Еще Оля Савицкая могла этот свитер видеть. Очки в дешевой оправе, дешевенькие часы, тусклые, стоптанные ботинки, купленные, вероятно, в каком-нибудь сэконд-хэнде. И тем не менее, чувствуется, что это – издатель. Он сразу же вспоминает Ольгу Савицкую: да-да, стихи интересные, жаль, что она потом куда-то исчезла, мгновенно просматривает принесенную мною рукопись, согласно кивает, высказывается в том смысле, что, пожалуй, это можно было бы напечатать. Объясняет мне, что есть только одна трудность. Издательство у него не богатое, выпуск поэзии, как вы понимаете, особых прибылей не приносит. Даже те рукописи, по которым у него уже есть обязательства, будут ждать своей очереди два-три года. Раньше этого срока он ничего обещать не может.
– Все же лучше издать книгу автору, который еще успеет ее увидеть.
Я его, надо сказать, понимаю. Однако, три года – это означает практически никогда. Три года – срок при нашей жизни слишком большой.
Рукопись я ему, тем не менее, оставляю, прикрепляю визитку и договариваюсь, что в случае каких-либо неожиданных вариантов он меня известит.
– Конечно, я вам обязательно позвоню…
Совсем иное впечатление производит на меня второй издатель. Им оказывается тот самый главный редактор, который выступал на вечере поэтессы. Нет, он, разумеется, предельно любезен: внимательно выслушивает меня и отвечает, что возвращение забытых стихов – дело весьма благородное; собственно, вся культура – это овеществленная память, без постоянного внимания к прошлому она не может существовать, это такой, знаете, единый континуум… И они со своей стороны, конечно, сделают все возможное, рассмотрят рукопись на редколлегии, известят меня, какое решение будет принято. То есть, по внешним признакам – результат самый благоприятный. Однако стоит лишь раз заглянуть в его тухлые, даже с какой-то прозеленью, маленькие, безжизненные глаза, как становится абсолютно понятным, что все эти слова для него ничего не значат. Он произносит их только потому, что так принято. Произносит, наверное, уже сорок лет, и еще будет произносить, пока к нему обращаются. Даже патлатый критик нравится мне несколько больше. Тот хотя бы живой, этот же – просто мертвец, прикидывающийся человеком.
Стихи, тем не менее, я опять оставляю. В жизни бывает всякое – вдруг вспыхивают и начинают идти самые безнадежные предприятия. Всегда можно рассчитывать на везение. Правда, видя в какой запредельный развал всяких папок рукопись попадает, я догадываюсь, что здесь на везение рассчитывать не приходится. Судьба этого чудовищного Монблана вполне очевидна: через год или больше, нетронутый, он перекочует в местный архив (если что-то вроде архива у них вообще существует), а затем, при очередной расчистке завалов, будет выброшен вместе с остальными невостребованными материалами.
Континуум есть континуум.
Никто в этом разбираться не будет.
* * *
Кстати, именно в эти дни я получаю письмо из Америки. Сыну Оли я написал месяца два-три назад, взяв адрес у Ираиды. И вот теперь, когда уже совсем потерял надежду, читаю наконец долгожданный ответ.
Юрий (Джордж, как он теперь себя называет) изъясняется сухо и ясно, словно боится остаться непонятым. Никаких рукописей или печатных текстов матери у него не имеется, и он даже не представляет, у кого бы они могли находиться. К сожалению, поспособствовать чем-либо в этом вопросе он мне не может.
Что же касается обстоятельств исчезновения, то четыре года назад, как только до него дошли известия о случившемся, он немедленно, бросив все, прилетел в Россию и за месяц пребывания здесь убедился, что ситуация безнадежная. Никто ничего делать не будет. Никакая милиция пальцем не пошевелит, чтобы найти человека. Видимо, у них ныне другие проблемы. Уже отсюда, из Калифорнии, он дважды запрашивал соответствующее отделение – ответа не получил. Тем более, что можно сделать сейчас?
Вообще, он уже более пяти лет живет в Америке, удачно женился, год назад у него родился ребенок. А недавно произошло еще одно важное для него событие: он официально стал гражданином Соединенных Штатов.
В заключение Юрий (Джордж) просит, чтобы я не считал его человеком эгоистичным, черствым, сухим. Просто он действительно не представляет, что еще можно сделать в такой ситуации. К тому же, добавляет он в самом конце письма, про «безумную литературную жизнь» интересно читать в мемуарах лет так через семьдесят, и совсем другое – испытать это на себе. Он сейчас даже вспоминать не хочет о том, что было.
Подпись стоит: «Сан-Франциско, штат Калифорния. Джордж Д. Савицки, гражданин США».
* * *
В конце концов я сдаюсь. Я больше ничего не могу сделать для темноглазой взволнованной девочки, которую некогда, в силу стечения обстоятельств, пошел провожать. То есть, конечно, я мог бы еще кое-что предпринять. Я бы мог, например, договорившись с каким-нибудь мелким издательством, выпустить Олину книгу за собственный счет. Зарабатываю я, правда, весьма умеренно, в нашей области звания и регалии на доходах почти не сказываются, однако, поднатужившись, я, вероятно, сделать бы это сумел. Только кому эта книга будет нужна? Тухлоглазому вежливому редактору, похожему на мертвеца, патлатому критику, поэтессе, думающей сейчас исключительно об Испании? Бог с ними, со всеми. Видимо, не судьба этой девочке. Что-то у нее не связалось, не щелкнуло, не произошло сцепления с жизнью. Такое бывает. Не стоит, наверное, переделывать это задним числом.
Мне ее действительно жаль. Она возникла в моем сознании как Афродита из пены – Афродита Блистающая, Афродита-В-Тенях, Афродита Н,, неизвестная. Сколько я теперь знаю о ней. Мне даже кажется, что я ее когда-то любил. Умом я, разумеется, понимаю, что это не так. Это – придуманная любовь, скорее – тоска по времени, которое уже не вернешь. И все равно, при мысли о ней, будто чуть сдавленное, начинает ныть сердце. Слишком за последние месяцы я с ней сблизился. И я также догадываюсь теперь, почему Оля в те дни неожиданно назвала мое имя. Это та тоненькая соломинка, за которую в отчаянии пытаешься ухватиться, тот странный случай, который иногда превращается в чудо. Наверное, тоже вспомнила парк, усыпанный прелью, огненный крупный лист, легкое тепло поцелуя… Соломинка, однако, переломилась. Жизнь прошла. Случай чудом не стал и, вероятно, уже никогда не станет. Так что, это, видимо, все.
В общем, фотографии и стихи я складываю в большой конверт, который специально покупаю на почте, подкалываю туда же короткую объяснительную записку – в науке это называется «атрибутировать», конверт заклеиваю и убираю в нижнее отделение шкафа, где у меня скопился уже довольно большой архив.
Я примерно представляю себе, что будет дальше. Лет через двадцать, уже без меня, Виктория, разбирая мои бумаги, достанет этот конверт, который, скорее всего, уже пожелтеет, откроет его, перелистает без особого любопытства, может быть, даже подумает, что была здесь какая-то давняя маленькая интрижка, усмехнется, наверное: дескать, отец тоже, оказывается, был молодым, и конверт, вероятно, будет лежать еще сколько-то времени. А потом незаметно исчезнет при переезде.
И все, уже – никогда, никогда…
Мне как-то нехорошо в этот день. Я ощущаю тяжесть в груди, чего со мною, как правило, не бывает. Спать я ложусь поэтому немного раньше обычного, и мне приходится выпить снотворное, чтобы оглушить себя спасительной тупой чернотой…
* * *
Однако этим история еще не заканчивается. Примерно через месяц, когда накатывается на город волна первой летней жары, когда обвисают листья на тополях и начинает взлетать от порывов ветра пыль с тротуаров, на одной из тех презентаций, от которых, к несчастью, не всегда получается уклониться, среди стендов, приглушенного гомона и толчеи я вдруг вижу девушку, как отражение, похожую на Олю Савицкую.
В первое мгновение я даже вздрагиваю. Но я не могу ошибаться, я слишком долго и часто вглядывался в ее фотографии. Хотя тут же я замечаю и разницу: девушка тоньше, подвижнее и, вероятно, более жизнерадостная, чем Оля. Правда, кто знает, может быть, Оля именно такой и была? Вся эта разница – только издержки возраста.
Таращусь я на нее самым невежливым образом. Девушка это чувствует и оборачивается ко мне – раз, другой – уже с некоторым недоумением. Далее так глазеть становится неудобно, я подхожу, представляюсь, протягиваю заранее вынутую из кармана визитку. А пока девушка с тем же недоумением ее рассматривает, испрашиваю разрешения поговорить с ней хотя бы пару минут. Предупреждаю, что тема разговора – несколько специфическая, это не уловка, поверьте, ухаживать я не намерен.
– А жаль, – опомнившись, говорит девушка.
Мы садимся за столик, и я показываю, чтобы нам принесли два кофе.
И тут меня ожидает сильнейшее разочарование. Когда кофе приносят, и я, преодолевая неловкость, вероятно, немного путано, сбиваясь и отклоняясь от сути, рассказываю, в чем дело, выясняется, что к Оле Савицкой девушка никакого отношения не имеет. Она ей не дочь, каковое безумное подозрение у меня вдруг мелькнуло, не родственница, не седьмая вода, даже близко ничего не находится. В общем, пустой номер, промашка, случайное сходство, усиленное, возможно, моим пылким воображением. Правда, зовут ее тоже – Оля. Оля, Оленька, можете называть так, если хотите. И совпадение это, впрочем не слишком странное, почему-то успокаивает меня и возвращает к реальности.
Мы разговариваем еще некоторое время. Оленька рассказывает, что только в прошлом году закончила отделение информатики какого-то нового института, почти сразу же устроилась во вполне приличную фирму и уже несколько месяцев работает там веб-дизайнером. То есть, оформляет внешний вид сайтов. Работа ей нравится, но, разумеется, останавливаться на этом уровне она не намерена. С осени она будет ходить на курсы по компьютерной графике, а потом, вероятно, попробует свои силы в рисунке и анимации. В общем, планы у нее обширные. Я на всякий случай интересуюсь – не писала ли она стихов, и Оленька отвечает, что действительно несколько лет назад, представьте, пыталась, но потом бросила это дело и больше не возвращалась. Прошло как-то само собой. Не было, видимо, чего-то такого, что заставляло бы упорно склоняться к бумаге.
– Стихи надо писать либо очень хорошие, либо вообще не писать, – говорит она строгим голосом.
На это мне возразить нечего. Я прощаюсь и еще раз приношу извинения за то, что ее задержал.
– Ну, что вы. Мне было очень интересно, – вежливо говорит Оленька.
Она медлит, но ни адреса, ни телефона я у нее не спрашиваю. Зачем это мне? Ведь ясно, что больше мы никогда не встретимся.
Я лишь провожаю ее взглядом.
Стена в холле стеклянная, отсюда хорошо видна площадь, где расположена станция метрополитена. Я слежу, как Оленька идет по проспекту, перекинув сумочку через плечо. Вот на перекрестке она замедляет шаги, оглядывается, над ней – белая новенькая табличка «Улица Достоевского».
И в это мгновение со мной что-то случается.
Я, конечно, не верю ни в какие астралы, реинкарнации, ни в какое переселение душ. Все это, по-моему, полная чепуха; все уйдет, от нас не останется ничего. Но сейчас мне кажется, что произошло небольшое чудо. Это – та же Оля Савицкая, только она и в самом деле родилась заново. Она снова пришла в этот мир, в этот город, живет другой жизнью, где, наверное, будет счастлива. Это ей – воздаяние. Это ей – за все прошлые мучения и неудачи. Теперь она будет счастлива. Я желаю ей этого всей силой вдруг похолодевшего сердца. Я действительно желаю ей этого. И вот, что самое удивительное. Я даже немного верю, что именно так и будет.