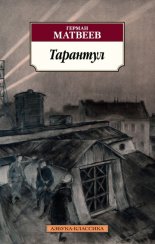Донские рассказы. Судьба человека. Они сражались за Родину Шолохов Михаил
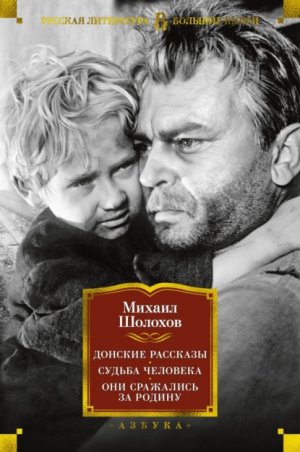
©М. А. Шолохов (наследники), 2021
©Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021
Издательство АЗБУКА®
Донские рассказы
Родинка
На столе гильзы патронные, пахнущие сгоревшим порохом, баранья кость, полевая карта, сводка, уздечка наборная с душком лошадиного пота, краюха хлеба. Все это на столе, а на лавке тесаной, заплесневевшей от сырой стены, спиной плотно к подоконнику прижавшись, Николка Кошевой, командир эскадрона, сидит. Карандаш в пальцах его иззябших, недвижимых. Рядом с давнишними плакатами, распластанными на столе, – анкета, наполовину заполненная. Шершавый лист скупо рассказывает: Кошевой Николай. Командир эскадрона. Землероб. Член РКСМ.
Против графы «возраст» карандаш медленно выводит: 18 лет.
Плечист Николка, не по летам выглядит. Старят его глаза в морщинках лучистых и спина, по-стариковски сутулая.
– Мальчишка ведь, пацаненок, куга зеленая, – говорят шутя в эскадроне, – а подыщи другого, кто бы сумел почти без урона ликвидировать две банды и полгода водить эскадрон в бои и схватки не хуже любого старого командира!
Стыдится Николка своих восемнадцати годов. Всегда против ненавистной графы «возраст» карандаш ползет, замедляя бег, а Николкины скулы полыхают досадным румянцем. Казак Николкин отец, а по отцу и он – казак. Помнит, будто в полусне, когда ему было лет пять-шесть, сажал его отец на коня своего служивского.
– За гриву держись, сынок! – кричал он, а мать из дверей стряпки улыбалась Николке, бледнея, и глазами широко раскрытыми глядела на ножонки, окарачившие острую хребтину коня, и на отца, державшего повод.
Давно это было. Пропал в германскую войну Николкин отец, как в воду канул. Ни слуху о нем, ни духу. Мать померла. От отца Николка унаследовал любовь к лошадям, неизмеримую отвагу и родинку, такую же как у отца, величиной с голубиное яйцо, на левой ноге, выше щиколотки. До пятнадцати лет мыкался по работникам, а потом шинель длинную выпросил и с проходившим через станицу красным полком ушел на Врангеля. Летом нонешним купался Николка в Дону с военкомом. Тот, заикаясь и кривя контуженую голову, сказал, хлопая Николку по сутулой и черной от загара спине:
– Ты того… того… Ты счастли… счастливый! Ну да, счастливый! Родинка – это, говорят, счастье.
Николка ощерил зубы кипенные, нырнул и, отфыркиваясь, крикнул из воды:
– Брешешь ты, чудак! Я с мальства сирота, в работниках всю жизнь гибнул, а он – счастье!..
И поплыл на желтую косу, обнимавшую Дон.
Хата, где квартирует Николка, стоит на яру над Доном. Из окон видно зеленое расплескавшееся Обдонье и вороненую сталь воды. По ночам в бурю волны стучатся под яром, ставни тоскуют, захлебываясь, и чудится Николке, что вода вкрадчиво ползет в щели пола и, прибывая, трясет хату.
Хотел он на другую квартиру перейти, да так и не перешел, остался до осени. Утром морозным на крыльцо вышел Николка, хрупкую тишину ломая перезвоном подкованных сапог. Спустился в вишневый садик и лег на траву, заплаканную, седую от росы. Слышно, как в сарае уговаривает хозяйка корову стоять спокойно, телок мычит требовательно и басовито, а о стенки цибарки вызванивают струи молока.
Во дворе скрипнула калитка, собака забрехала. Голос взводного:
– Командир дома?
Приподнялся на локтях Николка:
– Вот он я! Ну, чего там еще?
– Нарочный приехал из станицы. Говорит, банда пробилась из Сальского округа, совхоз Грушинский заняла…
– Веди его сюда.
Тянет нарочный к конюшне лошадь, по`том горячим облитую. Посреди двора упала та на передние ноги, потом – на бок, захрипела отрывисто и коротко и издохла, глядя стекленеющими глазами на цепную собаку, захлебнувшуюся злобным лаем. Потому издохла, что на пакете, привезенном нарочным, стояло три креста и с пакетом этим скакал сорок верст, не передыхая, нарочный.
Прочитал Николка, что председатель просит его выступить с эскадроном на подмогу, и в горницу пошел, шашку цепляя, думал устало: «Учиться бы поехать куда-нибудь, а тут банда… Военком стыдит: мол, сло`ва правильно не напишешь, а еще эскадронный… Я-то при чем, что не успел приходскую школу окончить? Чудак он… А тут банда… Опять кровь, а я уж уморился так жить… Опостылело все…»
Вышел на крыльцо, заряжая на ходу карабин, а мысли, как лошади по утоптанному шляху, мчались: «В город бы уехать… Учиться б…»
Мимо издохшей лошади шел в конюшню, глянул на черную ленту крови, сочившуюся из пыльных ноздрей, и отвернулся.
По кочковатому летнику, по колеям, ветрами облизанным, мышастый придорожник кучерявится, лебеда и пышатки густо и махровито лопушатся. По летнику сено когда-то возили к гумнам, застывшим в степи янтарными брызгами, а торный шлях улегся бугром у столбов телеграфных. Бегут столбы в муть осеннюю, белесую, через лога и балки перешагивают, а мимо столбов шляхом глянцевитым ведет атаман банду – полсотни казаков донских и кубанских, властью советской недовольных. Трое суток, как набедившийся волк от овечьей отары, уходят дорогами и целиною бездорожно, а за ними вна`зирку – отряд Николки Кошевого.
Отъявленный народ в банде, служивский, бывалый, а все же крепко призадумывается атаман: на стременах привстает, степь глазами излапывает, версты считает до голубенькой каемки лесов, протянутой по ту сторону Дона.
Так и уходят по-волчьи, а за ними эскадрон Николки Кошевого следы топчет.
Днями летними, погожими в степях донских, под небом густым и прозрачным звоном серебряным вызванивает и колышется хлебный колос. Это перед покосом, когда у ядреной пшеницы-гарновки ус чернеет на колосе, будто у семнадцатилетнего парня, а жито дует вверх и норовит человека перерасти.
Бородатые станичники на суглинке, по песчаным буграм, возле левад засевают клинышками жито. Сроду не родится оно, издавна десятина не дает больше тридцати мер, а сеют потому, что из жита самогон гонят, яснее слезы девичьей; потому, что исстари так заведено, деды и прадеды пили, и на гербе казаков Области войска Донского, должно, недаром изображен был пьяный казак, телешом сидящий на бочке винной. Хмелем густым и ярым бродят по осени хутора и станицы, нетрезво качаются красноверхие папахи над плетнями из краснотала.
По тому самому и атаман дня не бывает трезвым, потому-то все кучера и пулеметчики пьяно кособочатся на рессорных тачанках.
Семь лет не видал атаман родных куреней. Плен германский, потом Врангель, в солнце расплавленный Константинополь, лагерь в колючей проволоке, турецкая фелюга со смолистым соленым крылом, камыши кубанские, султанистые, и – банда.
Вот она, атаманова жизнь, коли назад через плечо оглянуться. Зачерствела душа у него, как летом в жарынь черствеют следы раздвоенных бычачьих копыт возле музги[1] степной. Боль, чудня и непонятная, точит изнутри, тошнотой наливает мускулы, и чувствует атаман: не забыть ее и не залить лихоманку никаким самогоном. А пьет – дня трезвым не бывает потому, что пахуче и сладко цветет жито в степях донских, опрокинутых под солнцем жадной черноземной утробой, и смуглощекие жалмерки по хуторам и станицам такой самогон вываривают, что с водой родниковой текучей не различить.
Зарею стукнули первые заморозки. Серебряной проседью брызнуло на разлапистые листья кувшинок, а на мельничном колесе поутру заприметил Лукич тонкие, разноцветные, как слюда, льдинки.
С утра прихворнул Лукич: покалывало в поясницу, от боли глухой ноги сделались чугунными, к земле липли. Шаркал по мельнице, с трудом передвигая несуразное, от костей отстающее тело. Из просорушки шмыгнул мышиный выводок; поглядел кверху глазами слезливо-мокрыми: под потолком с перекладины голубь сыпал скороговоркой дробное и деловитое бормотание. Ноздрями, словно из суглинка вылепленными, втянул дед вязкий душок водяной плесени и запах перемолотого жита, прислушаля, как нехорошо, захлебываясь, сосала и облизывала сваи вода, а бороду мочалистую помял задумчиво.
На пчельнике прилег отдохнуть Лукич. Под тулупом спал наискось, распахнувши рот, в углах губ бороду слюнявил слюной, клейкой и теплой. Сумерки густо измазали дедову хатенку, в молочных лоскутьях тумана застряла мельница…
А когда проснулся – из лесу выехало двое конных. Один из них крикнул деду, шагавшему по пчельнику:
– Иди сюда, дед!
Глянул Лукич подозрительно, остановился. Много перевидал он за смутные года таких вот вооруженных людей, бравших не спрошаючи корм и муку, и всех их огулом, не различая, крепко недолюбливал.
– Живей ходи, старый хрен!
Промеж ульев долбленых двинулся Лукич, тихонько губами вылинявшими беззвучно зашамкал, стал поодаль от гостей, наблюдая искоса.
– Мы – красные, дедок… Ты нас не бойся, – миролюбиво просипел атаман. – Мы за бандой гоняемся, от своих отбились… Може, видел, вчера отряд тут проходил?
– Были какие-то.
– Куда они пошли, дедушка?
– А холера их ведает!
– У тебя на мельнице никто из них не остался?
– Нетути, – сказал Лукич коротко и повернулся спиной.
– Погоди, старик. – Атаман с седла соскочил, качнулся на дуговатых ногах пьяно и, крепко дохнув самогоном, сказал: – Мы, дед, коммунистов ликвидируем… Так-то!.. А кто мы есть, не твоего ума дело! – Споткнулся, повод роняя из рук. – Твое дело зерна на семьдесят коней приготовить и молчать… Чтобы в два счета!.. Понял? Где у тебя зерно?
– Нетути, – сказал Лукич, поглядывая в сторону.
– А в энтом амбаре что?
– Хлам, стало быть, разный… Нетути зерна!
– А ну, пойдем!
Ухватил старика за шиворот и коленом потянул к амбару кособокому, в землю вросшему. Двери распахнул. В закромах пшеница и чернобылый ячмень.
– Это тебе что, не зерно, старая сволочуга?
– Зерно, кормилец… Отмол это… Год я его по зернушку собирал, а ты конями потравить норовишь…
– По-твоему, нехай наши кони с голоду дохнут? Ты что же это – за красных стоишь, смерть выпрашиваешь?
– Помилуй, жалкенький мой! За что ты меня? – Шапчонку сдернул Лукич, на колени жмякнулся, руки волосатые атамановы хватал, целуя…
– Говори: красные тебе любы?
– Прости, болезный!.. Извиняй на слове глупом. Ой, прости, не казни ты меня, – голосил старик, ноги атамановы обнимая.
– Божись, что ты не за красных стоишь… Да ты не крестись, а землю ешь!..
Ртом беззубым жует песок из пригоршней дед и слезами его подмачивает.
– Ну, теперь верю. Вставай, старый!
И смеется атаман, глядя, как не встанет на занемевшие ноги старик. А из закромов тянут наехавшие конные ячмень и пшеницу, под ноги лошадям сыплют и двор устилают золотистым зерном.
Заря в тумане, в мокрети мглистой.
Миновал Лукич часового и не дорогой, а стежкой лесной, одному ему ведомой, затрусил к хутору через буераки, через лес, насторожившийся в предутренней чуткой дреме.
До ветряка дотюпал, хотел через прогон завернуть в улочку, но перед глазами сразу вспухли неясные очертания всадников.
– Кто идет? – окрик тревожный в тишине.
– Я это… – шамкнул Лукич, а сам весь обмяк, затрясся.
– Кто такой? Что – пропуск? По каким делам шляешься?
– Мельник я… С водянки тутошней. По надобностям в хутор иду.
– Каки-таки надобности? А ну, пойдем к командиру! Вперед иди… – крикнул один, наезжая лошадью.
На шее почуял Лукич парные лошадиные губы и, прихрамывая, засеменил в хутор.
На площади у хатенки, черепицей крытой, остановились. Провожатый, кряхтя, слез с седла, лошадь привязал к забору и, громыхая шашкой, взошел на крыльцо.
– За мной иди!..
В окнах огонек маячит. Вошли.
Лукич чихнул от табачного дыма, шапку снял и торопливо перекрестился на передний угол.
– Старика вот задержали. В хутор правился.
Николка со стола приподнял лохматую голову, в пуху и перьях, спросил сонно, но строго:
– Куда шел?
Лукич вперед шагнул и радостью поперхнулся.
– Родимый, свои это, а я думал – опять супостатники энти… Заробел дюже и спросить побоялся… Мельник я. Как шли вы через Митрохин лес и ко мне заезжали, еще молоком я тебя, касатик, поил… Аль запамятовал?..
– Ну, что скажешь?
– А то скажу, любезный мой: вчерась затемно наехали ко мне банды эти самые и зерно начисто стравили коням!.. Смывались надо мною… Старший ихний говорит: присягай нам, в одну душу, и землю заставил есть.
– А сейчас они где?
– Тамотко и есть. Водки с собой навезли, лакают, нечистые, в моей горнице, а я сюда прибег доложить вашей милости, может, хоть вы на них какую управу сыщете.
– Скажи, чтоб седлали!.. – С лавки привстал, улыбаясь деду, Николка и шинель потянул за рукав устало.
Рассвело.
Николка, от ночей бессонных зелененький, подскакал к пулеметной двуколке.
– Как пойдем в атаку – лупи по правому флангу. Нам надо крыло ихнее заломить!
И поскакал к развернутому эскадрону.
За кучей чахлых дубков на шляху показались конные – по четыре в ряд, тачанки в середине.
– Намётом! – крикнул Николка и, чуя за спиной нарастающий грохот копыт, вытянул своего жеребца плетью.
У опушки отчаянно застучал пулемет, а те, на шляху, быстро, как на учении, лавой рассыпались.
Из бурелома на бугор выскочил волк, репьями увешанный. Прислушался, угнув голову вперед. Невдалеке барабанили выстрелы, и тягучей волной колыхался разноголосый вой.
Тук! – падал в ольшанике выстрел, а где-то за бугром, за пахотой эхо скороговоркой бормотало: так!
И опять часто: тук, тук, тук!.. А за бугром отвечало: так! так! так!..
Постоял волк и не спеша, вперевалку, потянул в лог, в заросли пожелтевшей нескошенной куги…
– Держись!.. Тачанок не кидать!.. К перелеску… К перелеску, в кровину мать! – кричал атаман, привстав на стременах.
А возле тачанок уж суетились кучера и пулеметчики, обрубая постромки, и цепь, изломанная беспрестанным огнем пулеметов, уже захлестнулась в неудержимом бегстве.
Повернул атаман коня, а на него, раскрылатившись, скачет один и шашкой помахивает. По биноклю, метавшемуся на груди, по бурке догадался атаман, что не простой красноармеец скачет, и поводья натянул. Издалека увидел молодое безусое лицо, злобой перекошенное, и сузившиеся от ветра глаза. Конь под атаманом заплясал, приседая на задние ноги, а он, дергая из-за пояса зацепившийся за кушак маузер, крикнул:
– Щенок белогубый!.. Махай, махай, я тебе намахаю!..
Атаман выстрелил в нараставшую черную бурку. Лошадь, проскакав саженей восемь, упала, а Николка бурку сбросил, стреляя, перебегал к атаману ближе, ближе…
За перелеском кто-то взвыл по-звериному и осекся. Солнце закрылось тучей, и на степь, на шлях, на лес, ветрами и осенью отерханный, упали плывущие тени.
«Неук, сосун, горяч, через это и смерть его тут налапает», – обрывками думал атаман и, выждав, когда у того кончилась обойма, поводья пустил и налетел коршуном.
С седла перевесившись, шашкой махнул, на миг ощутил, как обмякло под ударом тело и послушно сползло наземь. Соскочил атаман, бинокль с убитого сдернул, глянул на ноги, дрожавшие мелким ознобом, оглянулся и присел сапоги снять хромовые с мертвяка. Ногой упираясь в хрустящее колено, снял один сапог быстро и ловко. Под другим, видно, чулок закатился: не скидается. Дернул, злобно выругавшись, с чулком сорвал сапог и на ноге, повыше щиколотки, родинку увидел с голубиное яйцо. Медленно, словно боясь разбудить, вверх лицом повернул холодеющую голову, руки измазал в крови, выползавшей изо рта широким бугристым валом, всмотрелся и только тогда плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо:
– Сынок!.. Николушка!.. Родной! Кровинушка моя… – Чернея, крикнул: – Да скажи же хоть слово! Как же это, а?
Упал, заглядывая в меркнущие глаза; веки, кровью залитые, приподымая, тряс безвольное, податливое тело… Но накрепко закусил Николка посинелый кончик языка, будто боялся проговориться о чем-то неизмеримо большом и важном.
К груди прижимая, поцеловал атаман стынущие руки сына и, стиснув зубами запотевшую сталь маузера, выстрелил себе в рот…
А вечером, когда за перелеском замаячили конные, ветер донес голоса, лошадиное фырканье и звон стремян, с лохматой головы атамана нехотя сорвался коршун-стервятник. Сорвался и растаял в сереньком, по-осеннему бесцветном небе.
1924
Пастух
Из степи, бурой, выжженной солнцем, с солончаков, потрескавшихся и белых, с восхода – шестнадцать суток дул горячий ветер.
Обуглилась земля, травы желтизной покоробились, у колодцев, густо просыпанных вдоль шляха, жилы пересохли; а хлебный колос, еще не выметавшийся из трубки, квело поблек, завял, к земле нагнулся, сгорбатившись по-стариковски.
В полдень по хутору задремавшему – медные всплески колокольного звона.
Жарко. Тишина. Лишь вдоль плетней шаркают ноги – пылищу гребут, да костыли дедов по кочкам выстукивают – дорогу щупают.
На хуторское собрание звонят. В повестке дня – наем пастуха.
В исполкоме – жужжанье голосов. Дым табачный.
Председатель постучал огрызком карандаша по столу:
– Гражданы, старый пастух отказался стеречь табун, говорит, мол, плата несходная. Мы, исполком, предлагаем нанять Фролова Григория. Нашевский он рожак, сирота, комсомолист… Отец его, как известно вам, чеботарь был. Живет он с сестрой, и пропитаниев у них нету. Думаю, гражданы, вы войдете в такое положение и наймете его стеречь табун.
Старик Нестеров не стерпел, задом кособоким завихлял, заерзал.
– Нам этого невозможно… Табун здоровый, а он какой есть пастух!.. Стеречь надо в отводе, потому вблизости кормов нету, а его дело непривычное. К осени и половины телят недосчитаемся…
Игнат-мельник, старичишка мудреный, ехидным голоском медовым загнусавил:
– Пастуха мы и без сполкома найдем, дело нас одних касаемо… А человека надо выбрать старого, надежного и до скотины обходительного…
– Правильно, дедушка…
– Старика наймете, гражданы, так у него скорей пропадут теляты… Времена ноне не те, воровство везде огромадное… – Это председатель сказал настоисто так и выжидательно; а тут сзади поддерживали:
– Старый негож… Вы возьмите во внимание, что это не коровы, а теляты-летошники. Тут собачьи ноги нужны. Зыкнет табун – поди собери, дедок побежит и потроха растеряет…
Смех перекатами, а дед Игнат свое сзади вполголоса:
– Коммунисты тут ни при чем… С молитвой надо, а не абы как… – И лысину погладил вредный старичишка.
Но тут уж председатель со всей строгостью:
– Прошу, гражданин, без разных выходок… За такие… подобные… с собрания буду удалять…
Зарею, когда из труб клочьями мазаной ваты дым ползет и стелется низко на площади, собрал Григорий табун в полтораста голов и погнал через хутор на бугор седой и неприветливый.
Степь испятнали бурые прыщи сурчиных нор; свистят сурки протяжно и настороженно; из логов с травою приземистой стрепета взлетают, посеребренным опереньем сверкая.
Табун спокоен. По земляной морщинистой коре дробным дождем выцокивают раздвоенные копыта телят.
Рядом с Григорием шагает Дунятка – сестра-подпасок. Смеются у нее щеки загоревшие, веснушчатые, глаза, губы, вся смеется, потому что на Красную горку пошла ей всего-навсего семнадцатая весна, а в семнадцать лет все распотешным таким кажется: и насупленное лицо брата, и телята лопоухие, на ходу пережевывающие бурьянок, и даже смешно, что второй день нет у них ни куска хлеба.
А Григорий не смеется. Под картузом обветшавшим у Григория лоб крутой, с морщинами поперечными, и глаза усталые, будто прожил он куда больше девятнадцати лет.
Спокойно идет табун обочь дороги, рассыпавшись пятнистой валкой.
Григорий свистнул на отставших телят и к Дунятке повернулся:
– Заработаем, Дунь, хлеба к осени, а там в город поедем. Я на рабфак поступлю и тебя куда-нибудь пристрою… Может, тоже на какое ученье… В городе, Дунятка, книжек много и хлеб едят чистый, без травы, не так, как у нас.
– А денег откель возьмем… ехать-то?
– Чудачка ты… Хлебом заплатят нам двадцать пудов, ну вот и деньги… Продадим по целковому за пуд, потом пшено продадим, кизяки.
Посреди дороги остановился Григорий, кнутовищем в пыли чертит, высчитывает.
– Гриша, чего мы есть будем? Хлеба ничуть нету…
– У меня в сумке кусок пышки черствой остался.
– Ныне съедим, а завтра как же?
– Завтра приедут с хутора и привезут муки… Председатель обещался…
Жарит полдневное солнце. У Григория рубаха мешочная взмокла от пота, к лопаткам прилипла.
Идет табун беспокойно, жалят телят овода и мухи, в воздухе нагретом виснет рев скота и зуденье оводов.
К вечеру, перед закатом солнца, подогнали табун к базу. Неподалеку пруд и шалаш с соломой, от дождей перепревшей.
Григорий обогнал табун рысью. Тяжело подбежал к базу, воротца хворостяные отворил.
Телят пересчитывал, пропуская по одному в черный квадрат ворот.
На кургане, торчавшем за прудом ядреной горошиной, слепили новый шалаш. Стенки пометом обмазали, верх бурьяном Григорий покрыл.
На другой день председатель приехал верхом. Привез полпуда муки кукурузной и сумку пшена.
Присел, закуривая, в холодке.
– Парень ты хороший, Григорий. Вот достережешь табун, а осенью поедем с тобой в округ. Может, оттель какими способами поедешь учиться… Знакомый есть там у меня из наробраза, пособит…
Пунцовел Григорий от радости и, провожая председателя, стремя ему держал и руку сжимал крепко. Долго глядел вслед курчавым завиткам пыли, стелившимся из-под лошадиных копыт.
Степь, иссохшая, с чахоточным румянцем зорь, в полдень задыхалась от зноя. Лежа на спине, смотрел Григорий на бугор, задернутый тающей просинью, и казалось ему, что степь живая и трудно ей под тяжестью неизмеримой поселков, станиц, городов. Казалось, что в прерывистом дыханье колышется почва, а где-то внизу, под толстыми пластами пород, бьется и мечется иная, неведомая жизнь.
И среди белого дня становилось жутко.
Взглядом мерил неизмеренные ряды бугров, смотрел на струистое марево, на табун, испятнавший коричневую траву, думал, что от мира далеко отрезан, будто ломоть хлеба.
Вечером под воскресенье загнал Григорий табун на баз. Дунятка у шалаша огонь развела, кашу варила из пшена и пахучего воробьиного щавеля.
Григорий к огню подсел, сказал, мешая кнутовищем кизяки духовитые:
– Гришакина телка захворала. Надо бы хозяину переказать…
– Может, мне на хутор пойтить?.. – спросила Дунятка, стараясь казаться равнодушной.
– Не надо. Табун не устерегу один… – Улыбнулся. – По людям заскучала, а?
– Соскучилась, Гриша, родненький… Месяц живем в степи и только раз человека видели. Тут если пожить лето, так и гутарить разучишься…
– Терпи, Дунь… Осенью в город уедем. Будем учиться с тобой, а посля, как выучимся, вернемся сюда. По-ученому землю зачнем обрабатывать, а то ить темень у нас тут и народ спит… Неграмотные все… книжек нету…
– Нас с тобой не примут в ученье… Мы тоже темные…
– Нет, примут. Я зимою, как ходил в станицу, у секретаря ячейки читал книжку Ленина. Там сказано, что власть – пролетариям, и про ученье прописано: что, мол, учиться должны, которые из бедных. – Гришка на колени привстал, на щеках его заплясали медные отблески света.
– Нам учиться надо, чтобы уметь управлять нашевской республикой. В городах – там власть рабочие держут, а у нас председатель станицы – кулак, и по хуторам председатели – богатеи…
– Я бы, Гриша, полы мыла, стирала, зарабатывала, а ты учился…
Кизяки тлеют, дымясь и вспыхивая. Степь молчит, полусонная.
С милиционером, ехавшим в округ, переказывал Григорию секретарь ячейки Политов в станицу прийти.
До света вышел Григорий и к обеду с бугра увидел колокольню и домишки, покрытые соломой и жестью. Волоча намозоленные ноги, добрел до площади.
Клуб в поповском доме. По новым дорожкам, пахнущим свежей соломой, вошел в просторную комнату.
От ставней закрытых – полутемно. У окна Политов рубанком орудует – раму мастерит.
– Слыхал, брат, слыхал… – Улыбнулся, подавая вспотевшую руку. – Ну, ничего не попишешь! Я справлялся в округе: там на маслобойный завод ребята требовались, оказывается, уже набрали на двенадцать человек больше, чем надо… Постерегешь табун, а осенью отправим тебя в ученье.
– Тут хоть бы эта работа была… Кулаки хуторные страсть как не хотели меня в пастухи… Мол, комсомолец – безбожник, без молитвы будет стеречь… – смеется устало Григорий.
Политов рукавом смел стружки и сел на подоконник, осматривая Григория из-под бровей, нахмуренных и мокрых от пота.
– Ты, Гриша, худющий стал… Как у тебя насчет жратвы?
– Кормлюсь.
Помолчали.
– Ну, пойдем ко мне. Литературы свежей тебе дам: из округа получили газеты и книжки.
Шли по улице, уткнувшейся в кладбище. В серых ворохах золы купались куры, где-то скрипел колодезный журавль, да тягучая тишина в ушах звенела.
– Ты оставайся нынче. Собрание будет. Ребята уже заикались по тебе: «Где Гришка, да как, да чего?» Повидаешь ребят… Я нынче доклад о международном положении делаю… Переночуешь у меня, а завтра пойдешь. Ладно?
– Мне ночевать нельзя. Дунятка одна табун не устерегет. На собрании побуду, а как кончится – ночью пойду.
У Политова в сенцах прохладно.
Сладко пахнет сушеными яблоками, а от хомутов и шлей, развешанных по стенам, – лошадиным потом. В углу – кадка с квасом, и рядом кривобокая кровать.
– Вот мой угол: в хате жарко…
Нагнулся Политов, из-под холста бережно вытянул давнишние номера «Правды» и две книжки.
Сунул Григорию в руки и излатанный мешок растопырил:
– Держи…
За концы держит мешок Григорий, а сам строки газетные глазами нижет.
Политов пригоршнями сыпал муку, встряхнул до половины набитый мешок и в горницу мотнулся.
Принес два куска сала свиного, завернул в ржавый капустный лист, в мешок положил, буркнул:
– Пойдешь домой – захвати вот это!
– Не возьму я… – вспыхнул Григорий.
– Как же не возьмешь?
– Так и не возьму…