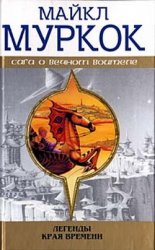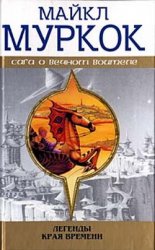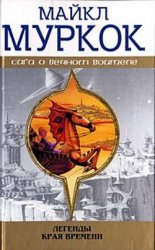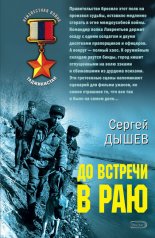Какое надувательство! Коу Джонатан

Читать бесплатно другие книги:
Цикл М. Муркока «Легенды Края Времени» продолжает сборник повестей-легенд. В нем мы снова встречаемс...
Цикл М. Муркока «Легенды Края Времени» продолжает сборник повестей-легенд. В нем мы снова встречаемс...
Цикл М. Муркока «Легенды Края Времени» продолжает сборник повестей-легенд. В нем мы снова встречаемс...
Знахарь вызвал огонь на себя, и теперь за ним охотятся все: питерская братва во главе с посланным в ...
Правительство бросило этот полк на произвол судьбы, оставило медленно сгорать в огне междоусобной во...
«Я уже выходил из пояса астероидов, когда на экране радара возник новый объект. Судя по характеру си...