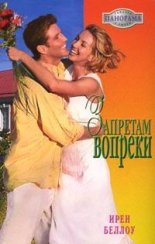Стиляги Козлов Владимир
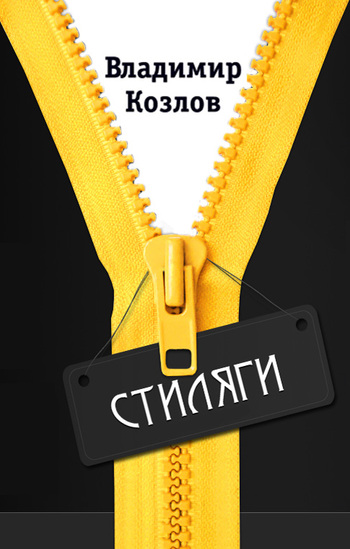
Юрий Дормидошин:
Мы позиционировали себя как «высшее общество», а девушки еще не успевали за этим. Мы более энергичные были. Алкоголь появился какой-то иностранный. Ну как откажешься от какого-то мартини? Плюс, у нас была информация, мы могли о чем-то говорить. У нас было больше информации, чем, скажем, на комсомольском собрании. Мы были совершенно другие люди, и это [притягивало девушек]. Девушки подтягивались к этому. Иногда доходило до абсурда. Мне друзья рассказывали историю – они прикинулись иностранцами, заклеили двух девушек, а потом говорят: а давайте поменяемся [партнерами]. И одна девушка: ну, я пойду поговорю с подругой. И они слышат за перегородкой разговор. Одна: они хотят поменяться. А другая: ну как так можно, у меня же с ним какие-то отношения. А та ей: дура ты, так принято в высшем обществе! Информация просто сшибала с ног, дезориентировала. А что нужно для обладания женщиной? Нужно дезориентировать ее. И дать не то, чтобы какую-то перспективу, но что-то новое. Это была, конечно, революция. Она не могла не коснуться секса. Секс, бизнес… Женщины являются стимулом всего этого.
Все это было экстремально. Не было квартир – можно было сексом где-то в парадной заниматься. Можно было где-то в садике. И вот этот стереотип, что надо выйти замуж, лечь в койку – здесь все это ломалось. Не было условий никаких практически, и [секс] становился экстремальным. И это нравилось, давало толчок.
Олег Яцкевич:
В моём детстве во всем была четкость какая-то, а сейчас многое расплывчато. Я иду и не могу понять – вот эта просто прекрасно одетая девушка, на «Ниссане», но на какие бабки так одеться можно, если ты не проститутка? А раньше все было почти четко. Мы знали, кто проститутка, а кто вкалывает. Около моего дома стояла всегда мороженица, у нее была короткая юбка. А что тогда считалось короткой юбкой? Чуть-чуть колени были приоткрыты, а это уже все равно, что голая вышла на панель. У нее – короткая юбка, ярко накрашенный рот и «беломорина». Сейчас-то только дошкольницы не курят. Она замерзала, у нее были красные руки, потому что торговала мороженым зимой. А мы, дурачки, думали, что она – проститутка.
«Дринки»
Несмотря на карикатурный имидж стиляги, который ко всему еще был еще и хулиганом-пьяницей, алкоголь не был для стиляг самым важным. Да, выпивали. Как все молодежь, кто-то – больше, кто-то меньше. Ясно, что и вечеринки на «хатах» с «чувихами» без какого-то количества крепких напитков не обходились. Но и там не это было главное.
Олег Яцкевич:
Алкоголиков не было среди стиляг, по-моему. Выпивали регулярно, но это было так просто: зашел в кафе-автомат и взял сто граммов водки, чтобы поднять настроение. Выпили и пошли дальше гулять. Все, на этом прием кончался. С девочками, вообще, только вино брали.
Виктор Лебедев:
В нашей среде пили все поголовно сухое вино, хотя я, например, его пил с наслаждением в семнадцать лет, но быстро бросил, потому что изжога дикая и так далее. Вот почему-то не пили ни водку, ни коньяк, хотя он был доступен по ценам. Пиво вообще никто не пил – или его не было, или немодно было. Пили грузинские сухие вина. Они стоили копейки просто. Цинандали, мукузани, а если уж доставалась хванчкара или киндзмараули, то это был праздник.
Валерий Сафонов:
Мы пили сухое вино, портвейны и коньяк. Водку – нет. Не знаю даже, почему. Виски тогда тоже появились. И мы, конечно, пили виски, я – до сих пор любитель. Но это уже дань моде была. Многим не нравилось – привкус какой-то, как у самогонки.
Местом сбора во времена «штатников» были «Метрополь» и «Националь». Вот что нас сближало – когда мы там собирались поужинать. Очень дешево, невероятно. Бифштекс с кровью – «по-английски», так называемый – любимое блюдо, модное стоил рубль-сорок. Бутылка коньяка стоила пять рублей. Бутылка вина – гурджаани, цинандали – порядка рубль-семьдесят. Мы даже со стипендии себе могли позволить посидеть несколько раз. Водку мы не пили – либо вино, либо коньяк.
Валерий Попов:
Мы себя считали не просто алкоголикам, а «в контексте великих дел». Ром, обязательно ром. Дайкири – только без сахара. Алкогольная интервенция тоже шла достаточно активно. Ром сначала кубинский – то есть от друзей мы получили такую «диверсию». И вот мы стали пить «дайкири без сахара» по Хемингуэю. Причем в объемах меньших, чем раньше, потому что полагалось на весь вечер одно дайкири. Водку даже еще не успели попробовать, а уже пили дайкири – не зная толком, что это такое. Ну а виски – это уже была такая недоступная мечта. Когда попробуешь виски – это уже все.
И сигареты тоже. На Малой Садовой около Елисеевского магазина вдруг свободно продавали Мальборо. И очередь была просто на пол-Невского. Подходили, брали по два блока – потом снова вставали в очередь. Это было такое событие. Все друг друга знают, столько знаменитых людей сразу не встречались.
Мне попадались какие-то пачки, и поскольку я жил в такой убогой коммуналке, я эти пачки наклеивал на стенку. Были сигареты «Кент» – там какой-то седоусый красавец изображен, и я его наклеил. И это было красивее, чем «Утро пионерки». Я помню, еще Вася Аксенов пришел ко мне в гости – мы встретились в «Европейской», и он пришли ко мне. И он говорит: «Да, вот это красиво». Так, немножко иронически – он уже свободно курил «Кент», и ему не было преград. И это долго у меня висело, потом я понял глупость этого дела, но эстетично было: сигаретные пачки западные. Наши – какие-то помятые.
Сигаретное нашествие с Запада было очень сильным. Если человек доставал «Кэмел», это все, это значит, нас посетило какое-то божество.
Вадим Неплох:
Даже водку не пили. Бутылочка портвейна в саду – «Три семерки», «Агдам», – сесть на скамеечку. Из горлышка потягивать. Мы не пили в нашем окружении много – ну, пили обязательно, без этого нельзя было. Но были персонажи, которые пили много. Сергей Довлатов вот любил выпить. Это все были символы такие – аперитив, немножко выпить. Как ритуал, чем жажда какая-то. Но как без этого? Молодые же ребята. А вот наркотиков тогда не было. Никто даже понятия не имел об этом.
Юрий Дормидошин:
Наркотиками практически никто не занимался. Были часть наркоманов, которые употребляли кодеин – это были такие таблетки от кашля, и они торчали на этих таблетках. Но таких вещей, как героин, кокаин, [не было]. Это было бы не в тему, противоречием такому образу жизни, который исповедовался этой молодежи.
Акции
Стиляги, несмотря на свою любовь ко всему западному, а значит – враждебному, не были политическим движением. Любить советский строй им было не за что, но и открыто протестовать против него они не собирались. Впоследствии кто-то стал «внутренним диссидентом», кто-то остался вне политики, а кто-то даже вступил в компартию – были и такие.
Но хоть стиляги и не занимались никаким политическим протестом, уже сам их внешний вид был «культурным» протестом против социалистического строя. А, кроме того, стиляги любили устраивать всякие розыгрыши и приколы. Самый распространенный – мистифицировать обывателя, выдавая себя за иностранцев. В Москве, на улице Горького, как вспоминал Алексей Козлов, они любили играть в «очередь»: пристраиваться целой толпой сзади к каком-нибудь старичку, образуя движущуюся очередь. Тут же к ним присоединялись все новые и новые шутники и очередь превращалась в длиннейшую колонну, идущую за ничего не подозревающим старичком. Если он останавливался у витрины, все останавливались тоже, он шел дальше – движение колонны возобновлялось. Иногда по реакции встречных прохожих он догадывался, что что-то не так, оборачивался и начинал ругаться, пытаясь разогнать «очередь». Но все ее участники стояли молча, абсолютно не реагируя на крики, и, как только он пытался идти дальше и оторваться от колонны, она как тень следовала за ним. Иногда, когда объект издевки скандалил слишком громко, вмешивалась милиция, «очередь» рассыпалась, но обычно никого в отделение не забирали, так как шутка была достаточно невинной.
Алексей Козлов:
[Хэппенинги] возникали сами собой. Я подключался к уже давно придуманным кем-то [шуткам]. У нас масса была хэппенингов. Мы разыгрывали, например, с приятелем жлобов где-нибудь в набитом битком автобусе. Наклоняемся над жлобом, который сидит, и ведем якобы разговор двух бандитов, которые на дело собираются идти, либо двух шпионов. И он сидел, и видно было, что он напряжен. А мы обменивались такими короткими полупонятными фразами, на жаргоне еще. Но так, чтобы этот жлоб, который нам не понравился, все это слышал. Он дико начинал бояться, что сейчас тут его вообще прирежут, и поскорей пытался выйти из автобуса. А мы садились на его место.
[…]
Один человек меня научил: когда смотришь на того, кто вам неприятен, смотреть надо не в глаза, а в лоб. Это страшно выглядит, взгляд становится совершенно бессмысленным – когда очень упорно смотреть, но не в глаза, а выше, над бровями. Это производит жуткое впечатление – как будто перед вами какой-то безумный человек. А если в глаза посмотреть, тут уже выражается все ваше отношение к нему. В советские времена это было необходимо, чтобы не выдать свою неприязнь к человеку – явно официознику. А притворяться, делать добренькие глаза было невозможно, просто противно. И такой взгляд выручал.
Партия и комсомол против стиляг
Комсомольские и коммунистические органы не могли мирится с существованием стиляг – «моральных уродов», «вредной опухолью общественного организма». И слово «стиляга» часто употреблялось ими как чуть ли не синоним слова «тунеядец». В уголовном кодексе СССР существовала специальная статья о «тунеядстве», но стиляги под нее не подпадали: практически все они работали или учились. За «безыдейность» и «преклонение перед Западом» тоже посадить в тюрьму нельзя было. Оставались «общественные» методы воздействия, в том числе и силовые: охотившиеся на стиляг комсомольские патрули могли принудительно состричь «кок» или разрезать узкие брюки-«дудочки».
Для борьбы со стилягами по указаниям районных комитетов партии и комсомола формировались специальные группы в «бригадах добровольного содействия милиции». Состояли они из молодежи примерно такого же возраста, что и сами стиляги, но, как правило, из фабрично-заводской, которая была гораздо более конформистской и «дремучей», чем студенческая. Их инструктировали в райкомах и горкомах, и потом эти дружинники врывались на танцевальные площадки, в рестораны, а то и устраивали облавы прямо на «Бродвеях».
Может быть, кого-то комсомольские репрессии и отпугнули, но молодежи вообще свойственно поступать «из чувства протеста», и молодые парни и девчонки не любят, когда им говорят, что делать, а особенно если это касается внешнего вида. И поэтому количество стиляг по всему СССР только росло.
Говорят, что с красными повязками комсомольского патруля в пятидесятые годы можно было встретить ребят вполне криминального вида. А иногда и сами комсомольцы могли снять со стиляги понравившуюся вещь. Валентин Тихоненко вспоминал, как на него в Мраморном зале ДК имени Кирова напали несколько комсомольцев (как потом стало известно – инструкторов горкома комсомола) и стали избивать, пытаясь снять пальто, и только вмешательство фронтовика спасло его.
Подобное происходило не только в Ленинграде и Москве, но и в других городах, где существовали стиляги. Рассказывают, что в Куйбышеве (теперь – Самара) комсомольские активисты в какой-то момент начали натравливать на стиляг учащихся ремесленных училищ и школ ФЗО (фабрично-заводского образования) – прообразов ПТУ. Это натравливание привело к тому, что однажды вечером большая группа «ремесленников» вышла на местный «Брод» и начала поголовно избивать всех, кто был в узких брюках, причем, не только кулаками, но и ремнями с бляхами, а милиция на происходящее не реагировала. Зато на следующий день стиляги сплотились и дали отпор «пэтэушникам».
А вот что несколько лет назад рассказал один из бывших» охотников на стиляг» – Егор Яковлев, впоследствии главный редактор газеты «Московские новости» и один из идеологов горбачевской перестройки:
«Я становлюсь первым секретарем Свердловского райкома комсомола, – улица Горького, со стороны» Коктейль-холла», (на той стороне был Советский район). Мы начали думать, что делать со стилягами. Был удивительный человек такой Гера Мясников, и он выдумал о том, что давайте патрулировать улицу Горького от стиляг. (Ничего более незаконного и неприличного, я сегодня не могу даже прибавить и придумать.) Но, тем не менее, это было принято. Этим очень увлеклись. Мы это делали абсолютно сознательно, мы это делали максимально публично. Машины, грузовые машины подъезжали к Свердловскому райкому партии на улице Чехова 18, выходили патрули с повязками, потому что все должны видеть, что они есть, они ехали на улицу Горького, публично выходили и начинали просто-напросто публично задерживать стиляг и приводить в 50 отделение, которое называлось» полтинником»».
«Под раздачу» попадали не только стиляги, но и люди, не имевшие к ним отношения, а просто имевшие неосторожность надеть слишком узкие брюки. Студент сельскохозяйственного института из Новосибирска жаловался в своем письме в «Комсомольскую правду» (5 апреля 1958 года) на то, что его узкие черные брюки повлекли за собой комсомольское собрание и угрозу исключения: «Стиляг в нашем обществе справедливо презирают Я понимаю: стиляга – это тот, у кого мелкая, серая душонка. Это человек, для которого предел мечты – платье с заграничным клеймом и веселая танцулька под низкопробный джаз. Но разве можно человека, у которого есть цель в жизни, который стремится учиться и который одевается недорого, но красиво, по моде, называть стилягой?.. Неужели я «стиляга», и со мной надо вести борьбу?»
А вот письмо, отправленное в 1957–м году Председателю Президиума Верховного Совета СССР Ворошилова.
«Уважаемый Климент Ефремович!
Мы, группа молодых людей, обращаемся к Вам с просьбой разобраться в взволновавшем нас факте, описанный ниже. Все это уже разбиралось на страницах комсомольских газет под рубрикой «о стилях и стилягах». До сего времени у нас под словом» стиляга» понимают что-то нехорошее, людей, которые ничего не дают обществу, не работаю, шатаются по ресторанам, с невозмутимым видом целый день прохаживаются по улице, хулиганят и дебоширят, стараются выделиться яркой ультрамодной одеждой, прической, манерой держаться и ходить. Эти люди отличаются обычно узким умственным кругозором, их приводит в восторг звуки джаза, их не увидишь в опере, но зато встретишь на танцах или в ресторане. Все это вошло в понятие» стиляга» или» золотая молодежь». Все это несомненно, правильно, с такой молодежью надо вести борьбу, но вот тут и начинаются» перегибы».
Если молодой человек или девушка хорошо, со вкусом оделись, их все-таки крестят «стилягами». Становиться обидно, что у нас не понимают современного стиля одежды и как лучше, удобней и красивей одеться. Почему девушке не носить красивую, яркую одежду с гармонирующими тонами, почему девушка не может одеть для прогулки весной или летом такой спортивный костюм, как курточка и брюки? Это удобно и красиво! Мы не» стиляги», мы работаем и учимся, и нам нравиться современная одежда, конечно не испохабленная одежда» золотой молодежи»! Но нет, и этому виду одежды объявлена борьба, комсомольские организации борются со» стилягами» – это же преклонение перед Западом! А если действительно красиво, удобно и приятно! Почему бы не поучиться и у Запада, как надо красиво и хорошо одеваться? Почему мало, а то и совсем не ведется борьба с пьяницами и дебоширами, почему не объявлена» стилягами» молодежь, которая носит сапоги с брюками навыпуск, небольшую кепочку с непременно торчащим чубом? Почему в наших клубах, как клуб ДЖД девушка под страхом драки и скандала не смеет отказать в танце какому-нибудь подвыпившему молодчику, на которого нет никакой управы? Почему же наконец человеку хорошо и модно одетому кричат в спину: «стиляга»!
Вот это непонимание и неправильное толкование слова» стиляга», и не совсем правильная борьба со» стиляжничеством» привела к весьма печальным и отрицательным результатам. Этим пользуются хулиганы, которых действительно надо было бы назвать» стилягами», они начали травлю людей, которые выделились своей одеждой. Эта» борьба» и привела к возмутительнейшему фактору произвола и разнузданности хулиганов, при попустительстве органов милиции который был совершен в воскресенье 31 марта с. г. между 9–ю и 10–ю часами вечера в центре города перед зданием оперного театра.
Мы, компанией из 4–х человек (2–х девушек и 2–х юношей) в воскресенье вечером возвращались домой после прогулки. На центральной улице нашего города – Первомайской, неизвестный нам человек пытался нас сфотографировать. По всей вероятности, его привлекла спортивная одежда одной из девушек: на ней были брюки и спортивная курточка. Мы подошли к нему и спросили, почему он нас фотографирует. Он ответил, что ему это так нравиться. И далее он продолжал, забегая вперед нас, фотографировать. Его странное поведение стало собирать любопытных. Вокруг нас стал собираться народ, все время привлекаемый» фотокорреспондентом». Скоплением народа воспользовались хулиганы, которые начали кричать» стиляги, стиляги! Стиляг фотографируют!»«бей стиляг»! Эти выкрики все больше собирали толпу, и когда мы дошли до оперного театра, толпа запрудила всю улицу. Чтобы избежать нарастающие оскорбления, мы зашли в фойе театра, но и здесь нас не оставили в покое. Неизвестный с фотоаппаратом все пытался нас сфотографировать. Когда мы подошли к нему и спросили его фамилию, и право нас фотографировать, то он вынул красную книжечку, но показать ее или назвать свою фамилию отказался. Чтобы выяснить его личность, мы обратились к стоящему рядом милиционеру. Но увидав, что мы приближаемся к нему с милиционером, неизвестный скрылся в толпе, которая стала настолько большой, что остановилось всякое движение на площади перед театром. Одна из девушек нашей компании (Малыжева Анна) бросилась в толпу, чтобы задержать неизвестного с фотоаппаратом и мы ее потеряли из вида. Окружившие нас хулиганы стали всячески оскорблять нас. Мы решили сесть в такси и уехать, но они, приподняв заднюю часть машины, мешали тронуться с места. Когда мы все-таки вырвались из толпы, то за нами помчались на другой машине те же хулиганы и только благодаря ловкости шофера нам удалось избавиться от преследования хулиганов, а девушка, которая бросилась за неизвестным в толпу, впоследствии сказала следующими: «Когда я очутилась, сдавленной, среди толпы, то меня стали со всех сторон толкать, пинать ногами, дергать за пальто. Может быть я была как-то одета в какой-нибудь одета в какой нибудь ультрастильный костюм, или была преступницей? Ничего подобного! Я считаю, что была одета посредственно. Откровенно говоря, мне бы хотелось гораздо лучше и красивей одеваться. На мне было пальто, которое я шила 4 года тому назад. И вот меня за это стали толкать, бить в спину, крича: «бей стилягу»! На мне порвали пальто. Распоясавшиеся молодчики затолкнули меня в подъезд, где пытались сорвать с руки часы и снять пальто. Я упала в какую-то яму, меня стали бить ногами, довели до такого состояния, что я не могла встать на ноги. Не знаю, что было бы со мной если бы мне не помогли двое подоспевших студентов ЛГУ. Они помогли мне встать и переодеться, чтобы я могла уйти незаметно. Но уйти я не могла: на улице хулиганы, оцепив выход, кричали: «выдайте нам стилягу!». Наконец, сквозь толпу пробилась машина с милиционерами, которую не пускали хулиганы, меня посадили в нее и отвезли в 10–е отделение милиции!
За что избили эту девушку, за что оскорбили нас? Нам это до сих пор непонятно. Особую роль играла при этом милиция. Она появилась только тогда, когда вся площадь была запружено народом, только тогда, когда была совершена расправа с девушкой. А кто-нибудь из хулиганов был задержан? Нет, этого не произошло. Встает вопрос, где же были в это время работники милиции, где были комсомольские патрули, почему не остановили вовремя распоясавшихся хулиганов, почему, наконец, создали в центре такой беспорядок?
Кто за это ответит? Ответить до сих пор никто не может, молчат все, молчит газета, ожидая каких-либо указаний, молчат работники милиции. Неужели нет виновных, неужели хулиганы не понесут ответственность за оскорбления и нанесенные побои?
Нам кажется, что в наших комсомольских организациях неправильно понимают борьбу со» стиляжничеством». В первую очередь обращают внимание на то, чтобы молодежь меньше носила модной одежды, а то иначе станут стилягами. Это боязнь нового – боязнь Чеховского Беликова: «Как бы чего не вышло»! – боязнь, чтобы молодежь не преклонялась перед западом. Но разве это преклонение? Нет, это не преклонение. Не заграничное клеймо красит человека, а красота одежды, сочетание красок, красивые модели одежды.
Почему на международной выставке моделей наши образцы заслужили перед Западом высшую оценку, а вот в массовом пошиве этих моделей не увидишь. Почему еще мало выпускают фабрики красивую, дешевую и модную одежду? Тогда и молодежь стала бы лучше одеваться, не кричали бы на каждого, модно одетого человека: «стиляга».
Хотелось бы, чтобы и милиция у нас была по Маяковскому:«… моя милиция меня бережет!», а не то, чтобы она берегла хулиганов, как это произошло в описанном нами случае.
Ответить просим по вышеуказанному адресу. Подписали:
Студент 5 курса Львовского политехнического института радиотехнического факультета Загартовский Б. М
Инженер-лаборант завода железобетонных конструкций и стройдеталей Малыжева А. Г.
Ст. инженер Львовского автобусного завода Деменев.
Студентка медиц. института Малыжева И. Г.
20/IV.1957 г.»
Алексей Козлов:
Началась кампания травли инакомыслящих в сорок седьмом году, с «Ленинградского дела» (серия судебных процессов в конце 40–х в начале 50–х годов против партийных и советских руководителей в СССР – В. К.), когда появилось понятие «инакомыслие», потом «низкопоклонство перед Западом» и «космополитизм», «космополиты безродные». И тут же товарищ Беляев подсуетился и придумал это слово – «стиляга», – и дал пищу обывателю. Это была специально задуманная акция, чтобы дать широким [массам] читателей журнала «Крокодил» – а он был очень популярным – название для этих «отщепенцев». Это был бытовой термин. «Космополит», «низкопоклонство» – это все был политический уровень. А тут дали на бытовом уровне, чтобы простые люди травили тех, кто на них не хочет быть похожими. И это продолжалось вплоть до возникновения дружинников – это был пятьдесят второй, пятьдесят третий год, при Сталине еще – и облав на «Коктейль-холл» и на танцплощадки, на подпольные танцы, которые тогда организовывались – там я уже уходил из-под облав. Это был уже пятьдесят третий – пятьдесят четвертый год. Уже Сталин умер, но все равно до пятьдесят седьмого года все правила игры оставались сталинскими. Все законы еще действовали, и КГБ такой же был. И я сразу понял, что надо завязывать с этим, что это опасно, и перестал ходить на «Бродвей». Мы стали собираться просто узкими компаниями и слушать музыку, и уже на толпу не выходили. Появились уже организованные формы преследования – облавы. И в лучшем случае сообщали на работу или на место учебы, и человека выгоняли и давали ему «волчий билет», и он после этого попадал либо в армию, либо вообще в психбольницу, а можно было и в лагеря угодить. Либо он попадал в дурдом, где его закалывали аминазином, и он уже никогда больше из этой системы психбольниц не выходил. Делали укол аминазина, он начинал пускать пузыри и становился равнодушным ко всему на свете. Это страшно было.
Психбольницы в советское время – это отдельная тема. Когда человека просто брали на улице – устраивали провокацию, как будто он подрался. Человек, работавший под пьяного, затевал драку. Его сажали на пятнадцать суток, там его тоже провоцировали, что он буйно себя вел, делали укол, после чего его помещали в дурдом, и дальше уже никуда из этой системы он не выходил. Это были как тюрьмы – с решетками на окнах, – да он и не хотел никуда бежать. Ему давали таблетки или что-то такое, изверги – врачи закалывали инакомыслящих. И тогда это все перешло в инакомыслие, это началось диссидентство.
Валерий Попов:
Были милицейские витрины «боевого карандаша», и там карикатуры такие были – как комсомольцы душат стиляг. Стилягу тащат две руки таких мощных. И написано: не за узкие брюки, а за хулиганские трюки. Но на самом деле хулиганы – это были совершенно отдельные люди. Стиляги, в целом, не нарушали уголовный кодекс, но вызывали гораздо большую ненависть, чем настоящие хулиганы, потому что хулиганы были классово близкие: рабочие парни. Потом общество сообразило и стало хулиганов натравливать на стиляг. Помню, уже позже была какая-то выставка – первая неформальная выставка художников-абстракционистов, уже к шестидесятым ближе. И стояли такие как бы дружинники, а на самом деле – бандиты. И били всех, кто шел на эту выставку. Заговаривали – куда идешь? – и били. Народ натравливали на этих «диссидентов». Хотя из стиляг потом вышли вполне успешные люди. Очень много. Потому что такой дерзкий дух – он способствует… Помню, в институте были такие джазисты, саксофонисты – и потом я их увидел доцентами, профессорами и так далее.
Анатолий Кальварский:
Я помню, как совершенно безвинно был оклеветан Жорж Фридман, совершенно порядочный человек, ныне – отец Жорж, католический священник. Он просто очень любил со вкусом одеваться, но это вызывало у комсомольских патрулей и власть придержащих ненависть какую-то. Тогда люди не должны были отличаться друг от друга. Те, которые отличались в чем-то одеждой, уже вызывали какие-то нарекания со стороны властей, на них натравливались какие-то люди. Это было малоприятное время. Вспоминаю я о нем без удовольствия.
Олег Яцкевич:
Рисковали. Ведь эта грань между купить себе костюм и сесть на год в тюрьму была очень тонкой. У нас же такие органы…
Комсомольский патруль – это первое. Вы идете с девушкой, к вам подлетают и располосовывают вам брюки. Или отрезают волосы. После того, как вышел фильм «Тарзан», все завели себе длинные прически. Ну и накидывались с ножницами, резали волосы. И галстуки отрезали. Как-то все неумно делалось. Вышибали из институтов. На работе? Ну, те, кто ходили в узких брюках, любили джаз – их там как-то корили, но они были полезные работники. Тоже ведь соображают – из-за узких брюк гнать с работы?
Валерий Сафонов:
Нас преследовали, да. Я сразу эти форменные брюки, которые мне приобрели, перешил – я их сузил. И меня на комсомольское собрание вызвали. Пришлось все это восстанавливать. [Говорили]: ты же комсомолец, позоришь таким вот образом коллектив, как на себя ярлык какой-то навешиваешь.
Георгий Ковенчук:
У меня с узкими брюками была целая легендарная история. Я не просто был пижон, я работал – со школьной скамьи. Я учился в СХШ – средней художественной школе – и уже с последнего класса делал иллюстрации в журнале «Нева», книжки в «Лениздате» делал. И покупал [одежду] на заработанные деньги – я неплохо зарабатывал. А потом я стал работать в коллективе «Боевой карандаш», где делали карикатуры «Они мешают нам жить», в том числе, против стиляг. И одновременно с возникновением этого коллектива у меня произошла такая история. У меня был костюм, который купили еще на барахолке – у Балтийского вокзала продавали что-то и стиляги, и моряки привозили торговые. И я купил там костюм австрийский. Двадцать четыре сантиметра ширина брюк. И я шел в кино со своим приятелем, он учился в академии на архитектурном факультете, а я – на графическом. И около Аничкова моста нас кто-то схватил так грубо за локти. Я решил, что это – какие-то хулиганы. И когда я говорю «В чем дело?», вижу – на руках у них красные повязки с надписью «Комсомольский патруль». И такие с прилипшими папиросками на нижней губе, довольно такие хулиганистые ребята, в тельняшках. Шпана такая. «Вы откуда такие приехали?» – «Как – откуда?» – говорю. – «Мы здесь родились». И они: «Что это у вас за такие брюки – от долгов бегать?» Тогда так говорили – мол, удобно от долгов бегать в узких. А все ходили в широченных – широченных таких – это тоже была своя мода, надо было, чтобы брючина закрывала ботинок, и не было видно ботинка. Их в свое время «клешами» называли и тоже запрещали – в тридцатых годах, – но не так сильно боролись, [как с узкими брюками].
Отвели нас в штаб комсомольского патруля – пропали билеты в кино. Посадили нас на скамейку – там действительно были и хулиганы, и пьяные были, и девицы были всякие. И мы сидим. Неприятно было. Во-первых, по-хамски нас схватили, во-вторых, собирались в кино, и билеты пропали. А в-третьих, я очень боялся, что сообщат в институт – мы на втором курсе были. Нам говорят: вот сейчас придут вас фотографировать и потом в газете поместят – неприятная перспектива.
И вот приходит журналист из «Смены» и говорит: «В чем дело?» Они ему говорят, что вот этот пьяный валялся, этого задержали, за то что он там пИсал где-то, эта вот приставала к мужчинам. «А этих за что?» – «За вызывающий внешний вид». Он так посмотрел: «А в чему у них вызывающий внешний вид?» – «А вот посмотрите, какие у них брюки?» – «Какие брюки?» – «Ну вот посмотрите, какая ширина». И к нашему счастью журналист тоже по-модному одевался. И он говорит: «И у меня точно такие же брюки. Отпустите их – вы неправильно их задержали».
И нас отпустили. Мы так были рады, что такой попался прогрессивный журналист – мог бы и другой попасться.
Анатолий Кальварский:
Брюки мне не разрезали. Но убегать от комсомольских патрулей [приходилось]. Наш джазовый оркестр имел своих охранников. Обычно это были ребята очень спортивные, и они нас предупреждали о том, что идет комсомольский патруль, и мы сбегали из тех мест, где играли. Но несколько раз нас залавливали. Однажды нас заловили в доме культуры промкооперации на Каменноостровском проспекте. Комсомольский патруль стал спрашивать фамилии. Валя Милевский сказал «Циммерман» – ему вспомнилась дощечка на фортепиано, и он сказал «Циммерман». Я сказал «Эллингтон» – мы начали кривляться просто. А парень записывает. А мой приятель, Толя, саксофонист, который тоже как-то себя назвал, сказал трубачу, который пришел к нам играть первый раз и был из воспитанников военного музыкального училища: «Чувак, ну, ладно, нас-то из институтов повыгоняют, а тебя-то за джазуху под трибунал». Тот испугался: «Что делать?» – «А ты то место, где у тебя на партитуре написано «буги-вуги», оторви и съешь». Тот оторвал кусок нотной бумаги и начал жрать. Тогда эти комсомольцы начали смеяться. «Ну вас, ребята, к ебени матери, идите, куда хотите».
Виктор Лебедев:
Меня дважды за внешний вид выбросили с вечеринок в холодильном институте и в технологическом – потому что я не был одет, как советский студент. У меня был кок такой большой, до колен пальто и узкие брюки – в общем, весь набор. Конечно, я выглядел очень смешно, родители ужасались, но нам тогда казалось, что эстетически мы соответствуем этому направлению.
Валерий Попов:
Советская власть пошла сразу грудью на это дело. Конечно, понимали это все. Но уже страха расстрела не было. Но ощущение приятной дерзости, приятного риска – оно, конечно, нас двигало. Но борьба закончилась поражением советской власти – в очередной раз. Правда, она потом взяла реванш.
В стенгазете [нас] рисовали. В России все вроде бы строго и в то же время бог спасает. Такой был Илья Банник – главный стиляга, и в то же время его очень любили учителя. Он веселый такой, обаятельный, хорошо учился, шикарно в баскетбол играл. И его только журили – ну, что ты, убери свой чуб, немножко пригладь. Как-то все смягчается добродушием русским.
Борис Алексеев:
Дружинники могли вас схватить. Если вы в узких брюках, дудочках так называемых, могли распороть. Там, где памятник Юрию Долгорукому, был московский центр вот этой добровольных дружин. Там и начальник сидел – чекист какой-то, гэбэшник. Однажды и сам я туда попал, потому что хотел взять у Бенни Гудмана автограф – когда он приезжал. Меня арестовали и увезли туда. Долго надо мной там издевались, измывались. Пытались, чтобы я «завелся» – и тут же сунуть пятнадцать суток. Но я отключался, сидел, как дурачок, смотрел, глазами дергал и как бы ничего не понимал. Ну, они меня и отпустили. Правда, пластинку, которая у меня была с собой, они стащили – себе оставили.
Борис Дышленко:
Это запрещалось и в школах, и в институтах. За это могли выгнать. Комсомольские патрули стригли стиляг, в провинции вели себя просто грубо и вызывающе. Я не говорю о тех «черносотенцах», которых поощряли власти негласно просто избивать, стричь, распарывать брюки. Делалось это и в Питере. Ловили, приводили в штаб дружины и делали все, что полагалось делать. Подглядывали в замочные скважины. Писали статьи в «Комсомольской правде» и других газетах. Якобы это критика, а на самом деле – это не критика, а просто поношение. Практически ни за что.
В Риге систематических гонений не было, но если ловили за «не таким» танцем, тут же выводили из зала. И если собиралась компания, и достаточно часто они встречались и предавались так называемым «оргиям» – это были вряд ли оргии, просто обычные вечеринки, – то могло кончиться очень плохо. Могли запросто выгнать из института.
Рауль Мир-Хайдаров:
Рискованно было. Могли тебя из комсомола исключить, из общежития выселить. В нашем городе, кроме Роберта, были еще Алик Прох – известный стиляга, Славик Ларин – у него очень хорошие записи были. Олег Попов, мой приятель. Полковник КГБ в отставке – и из стиляг!
Александр Петров:
Однажды, имея двадцать шесть лет от роду, я взял автограф у японского музыканта – Нобуо Хара такой приезжал к нам. И у него большой оркестр, назывался «Sharps and Flats» – «Диезы и бемоли». Я пришел в гостиницу «Россия», где он остановился – взять у него автограф. Меня – до сих пор не пойму, как таких тогда держали? – маленький рыженький пьяненький чекист: «Молодой человек, пройдемте». Ну, я пошел – у них резиденция была в комнате милиции, проверили – я не разведчик, не фарцовщик, ко мне прицепиться нельзя было. Но они – как впоследствии я понял – написали соответствующую бумагу в институт. Я уехал на преддипломную практику, приехал, пришел в институт – оказывается, меня ищут, с кафедры профилирующей. А при каждом крупном предприятии и учебном заведении был так называемый «первый отдел» (отвечающий за идеологию – В. К.) Из главного здания КГБ направили туда бумагу и написали, что я несоответствующим образом себя веду. Меня завкафедрой – а я у него был любимчиком – пригласил в кабинет. Он был осторожен и даже трусоват, попросил секретаря закрыть снаружи – и провел со мной беседу. «Расскажи, что случилось, как?» Я ему рассказал, и он говорит: «Э-э-э, обосрал институт». Я говорю: «Ну, как же? Когда наши музыканты где-то во Франции или в Польше находятся, у них берут автографы, и это нормально». Он говорит: «Францию и Польшу Гитлер подмял под себя за две недели, а о нас споткнулся». Он посигналил секретарю, та открыла. Я ушел. А зачет по преддипломной практике был автоматический, никто не проверял. Всем проставляли зачет. В результате, по команде какой-то эту ведомость вернули в деканат, порвали, заново напечатали, всем поставили зачет, а мне – незачет. Потом меня пригласил замдекана, Валентин Владимирович Москаленко, он до сих пор работает в МЭИ. «Вот, до нас дошли сведения, что вы заискиваете перед иностранцами, что-то клянчите у них». «Да нет», – я говорю. – «У меня есть книга для автографа. Я – любитель джаза, коллекционер». – «Но это же постыдно для советского человека». – «Но если Рихтер или Ростропович едут на Запад, у них берут автографы, об этом пишут как о положительном явлении». – «Но это – Рихтер или Ростропович. Правда, я в джазе не разбираюсь, но меня не интересует, как там. Меня интересует, как здесь». Там уже решено было наверху. Меня хотели выгнать из комсомола – а я не комсомолец. Двадцать шесть лет – а я не комсомолец. Я выкрутился, как-то ответил, и в результате я должен был пойти поработать год-полтора – и не в НИИ, не в проектный институт, а на завод и принести характеристику. Что я и сделал.
А на завод я только пришел – ко мне подходит комсорг. Рабочие пареньки – они не особо вступали в комсомол. А я как раз ему создал фронт работы. Ну и потом, [поработав на заводе], я защитил диплом.
У меня есть приятель – полковник КГБ на пенсии. И я ему задал вопрос: «Как все это произошло, что меня выгнали из института? Найти бы документы». Он говорит: «Таких документов нет». – «Слушай, но меня же выгнали из института». – «Им пришла бумага от начальства, они обосрались и приняли меры против тебя».
Юрий Дормидошин:
И тогда власти начали репрессии. В противовес этому явлению были созданы комсомольские дружины под управлением КГБ. Достаточно жестко все было, были репрессии жесткие – избиение было. Нельзя было носить красные носки почему-то, нельзя было носить узкие брюки, и когда ты проявлял себя слишком импозантно, тебя куда-то уводили, с тебя снимали эти красные носки и разрезали эти брюки.
Лев Лурье:
Многие из рок-поколения будут говорить о том, как их преследовали за длинные волосы, но это была хуйня по сравнению с тем, как преследовали стиляг. И насколько им сложнее было это сделать. Стиляги, если хотите, были как геи. Это было некое заявление.
Советская власть никогда не была тоталитарной, даже при Сталине, но она стремилась так выглядеть. Она хотела какого-то порядка, но никогда его не достигала. И в некоторой степени этот открытый вызов был похож на поведение воров в законе или шпаны. Ребята реально шли на риск. И в этом смысле – как демонстрация смелости и того, что можно так поступить
Идиотским советским искривленным образом этот «буржуазный образ жизни» достигался какими-то невероятными героическими усилиями: для того, чтобы пройти в узких брюках, требовалась реальная смелость. И как всякий пример героизма, это воспитывает.
Шпана против стиляг
Проблемы у стиляг возникали не только с милицией и комсомольскими патрулями, но и с обычной шпаной, которой, понятное дело, не нравились эти одетые «не по форме» странные молодые люди. Кроме того, как уже говорилось выше, милиция и комсомольцы часто сами натравливали приблатненную публику на стиляг. Но стиляги в долгу не оставались и старались дать отпор.
Рауль Мир-Хайдаров:
Время было хулиганское. Это было временем царствованием шпаны, когда появились стиляги. Но стиляги не давали себя в обиду, многие были спортсменами. Всегда стояли друг за друга. То, что резали брюки, стригли волосы – это на официальном уровне, против них не попрешь. А с блатными мы жестко разбирались. И шпана тоже начала перелицовываться. Хотя бы внешне. Кто-то раньше тельняшки носил, клеши по сорок пять сантиметров – все это начало меняться.
Олег Яцкевич:
Конечно, приходилось и драться. Стыдно сопли распускать, кого-то о чем-то просить. Поэтому и в спорт пошли многие – из моего поколения.
Отношения между стилягами и шпаной были самые плохие, какие только могут быть. Шпана – она всегда ближе к ворью, к самым темным элементам. У вора он – шестерка, фраерок, но приближенный. Главная шпана была на Лиговском проспекте – а он как раз начинался у моего дома.
О том, что Берия объявил в 1953–м году амнистию уголовникам я узнал существенно позже, посмотрев замечательный фильм «Холодное лето 53–го». [И как раз] в сентябре 53–го я с Хоттабом отправился на Бродвей, – предстояла приятная свиданка со всеми вытекающими… За улицей Толмачёва нас догнал Мишка Пекельный и принялся рассказывать, как он соскочил с призыва в армию: «Я уже постригся под «ноль», но вызвали к военкому… дядя Зяма позвонил… Ой! К нам гости!»
Двое крепко дунувших блатных – клёши, фиксы, тельники и ещё не отросшие волосы приблизились вплотную. Пауза могла кончиться как угодно, но психоватый Мишка приподнял кепку и зашепелявил: «Кореша, мы все с зоны, сукой буду!»
И в тот же миг Хоттаб и я, абсолютно синхронно, врезали [блатным] по зубам. «Мой» отступил шаг назад и рухнул. Мишка, с криком «Наших бьют» нырнул на Толмачёва; а мы рванули поперёк Невского к «Катькину» садику. Отдышавшись, стали наблюдать за «полем битвы». Вокруг пострадавших уже толпились люди и указывали милиционеру почему-то в сторону Аничкина моста. Подъехал «воронок» с ментами, а вслед и «Скорая помощь». В тот же миг две тяжёлые руки ухватили наши плечи, и голос сверху:
– Попались, шпана! Счас я вам срок намотаю!
Потом нас порознь вербовали в «стукачи», но лично я отказывался под предлогом, что интенсивно учусь и не знаю ни единого антикомсомольца на Невском.
– Ну, а проституток знаешь?
– Да! Сколько вам надо?
Комитетчик рассмеялся и выгнал меня».
Александр Петров:
Центр Москвы был загажен. Там были криминальные элементы, которые пользовались тем, что некоторые элементы поведения молодежи не одобряются милицией, просто «кидали» и грабили их.
Фестиваль молодежи
Одним из «светлых моментов» для советских стиляг стал Московский фестиваль молодёжи и студентов 1957–го года, когда в столицу приехало огромное количество западных людей – от джазовых музыкантов, поэтов-битников и художников-модернистов до представителей тогдашних западных субкультур – в том числе, «Тедди-боев». Они привезли с собой книги, пластинки, журналы – такого мощного потока не было, пожалуй, с окончания второй мировой войны. Пластинки тут же тиражировались на первых бытовых магнитофонах «Днепр», а журналы и книги зачитывались до дыр.
Алексей Козлов вспоминал: «Фестиваль сыграл громадную роль в перемене взглядов советских людей на моду, манеру поведения, образ жизни. До него страна жила по инерции в некоем оцепенении и страхе, несмотря на то, что Сталин как бы ушел в прошлое. Косность и враждебность советского общества по отношению ко всему новому, особенно западному, – это не один лишь результат советской пропаганды. Я на своем опыте убедился в том, что и без всякой агитации российской массе свойственна нетерпимость ко всему чужому, а также нежелание узнать получше и разобраться: а вдруг понравится?»
Фестиваль проходил на фоне хрущевской «оттепели» – ослабления государственного пресса и некоторой «либерализации» общественной жизни, наступившей после 22–го съезда КПСС, который состоялся за полтора года до фестиваля. В своем докладе на съезде генсек Никита Хрущев развенчал культ личности Сталина, и это стала катализатором «оттепели». Собственно, благодаря «оттепели» фестиваль и стал возможен – по крайней мере, в том виде, в котором он состоялся: Москву наводнили тысячи молодых иностранцев, и как власти не старались ограничить контакты с ними местной молодежи, сделать это им не удалось. От иностранных гостей советская молодежь – причем, ее широкие массы, а не только стиляги – перенимали многое: от музыки и элементов поведения до джинсов.
«Многие считают, что именно с фестиваля начался распад этого патриархального уклада и постепенная европеизация столицы», – пишет в своей книге «Рок в СССР» известный музыкальный критик Артемий Троицкий. «Москва уже не могла оставаться прежней. Стиляги тоже не могли быть прежними».
И действительно, фестиваль можно считать началом упадка движения стиляг. «Я подозревал об этом и раньше, но во время фестиваля все смогли убедиться, что и наш «стиль», и музыка, и кумиры – все это было дремучим прошлым, – вспоминает Алексей Козлов. – Какие-то стиляги оставались и после фестиваля, но это были отсталые элементы, запоздалые подражатели».
Нет, стиляги, конечно, не исчезли сразу. Более того, среди них выделились «элитарные» группы – «штатники», а позже – «айвиликовые штатники», к которым принадлежал и Козлов. Но количественный состав их был гораздо меньшим. Став ко второй половине пятидесятых массовой модой, охватившей весь Советский Союз, стиляжничество, подобно любой массовой моде, в конце концов сошло на нет.
Валерий Сафонов:
Фестиваль молодежи и студентов пятьдесят седьмого года тоже сыграл роль в этом плане. Были концерты по городу, мы там болтались, туда-сюда. Видели эту молодежь. Многие знакомились в то время, потом у нас рождались негритята.
Борис Алексеев:
Люди ходили, улыбались – «фестивальщики», те, кто понаехал к нам. Они были раскованы, по-другому себя вели. Москвичи были какие-то собранные, не было, как сегодня сказали бы, развязности такой. А эта публика ходила – громко говорили, всякие песни пели. Хотя их старались все время возить на грузовых машинах или на автобусах – чтобы они не очень по улицам гуляли – группами, правда, своими. Но они все равно гуляли. А жили они где-то в районе ВДНХ. И было сразу видно, что вот идет «фестивальщик». Конечно, они повлияли, потому что могли вот так вот свободно идти, обниматься. Раньше у нас этого не было. Ну что вы, какое там – в обнимку ходить?
Александр Петров:
Приехало со всех стран много молодежи – и черные, и белые, и желтые. Я помню, в центре Москвы на автобусе ехали иностранцы, и, видно, араб какой-то – в чалме – всем руки пожимал. И я протянул руку – и даже испугался: он крепко схватил ее, и я не мог ее выдернуть и боялся попасть под машину.
Но это стало окном в мир. Молодежь того времени познакомилась с современной модой. Ведь мода западная отличалась от моды советской. И молодежь стала тоже стараться одеваться модно – где-то утрированно даже: молодежи, как максималистам, это свойственно.
Борис Дышленко:
Я как раз был в этот момент в Москве, и это имело очень большое влияние, произошел большой сдвиг. Советская молодежь впервые подверглась влиянию Запада. До этого все было очень тихо.
В те времена были всякие советские книжки о том, как при помощи стиляг растлевают советскую молодежь. И, как ни странно, воздействие было и существенное. Правда, не растлевающее, а скорей освобождающее, расковывающее.
Георгий Ковенчук:
Никто не верил, что в джинсах ходят американские безработные. И вот теперь могут убедиться – у нас в джинсах теперь бомжи ходят. Джинсы появились сразу же после фестиваля молодежи. Это был пятьдесят седьмой год. Я тогда обратил внимание – как раз был в Москве, приехал, потому что там фестиваль. И смотрю – все в каких-то таких красивых штанах. Я сначала думал, что это рабочие штаны какие-то – как комбинезоны простроченные. И все захотели такие джинсы тогда купить. И подделки тогда появились – «самопалы» назывались. Доставали нашивки-«лейблы», нашивали. У каких-то портных это получалось очень профессионально. Но зоркий глаз сразу различал подделку. Были еще джинсы болгарские – это вообще считалась самая туфта. Они какого-то цвета были травяного.
Родственные субкультуры
Советский Союз немало отставал от западных стран и в поп-музыке, и в киноиндустрии, и в индустрии моды. Но при этом первая субкультура в СССР – стиляги – появилась ненамного позже, чем подобные движения в Европе и Северной Америке. Ясно, что тогда еще слова «субкультура» никто не знал, и первых парней, которые надевали узкие брюки и длинные пиджаки с широкими плечами, делали из волос «коки» и слушали джаз, большинство людей воспринимало как молодых придурков, которым обязательно надо выделиться из толпы. Но примерно таким было отношение обывателя и к «дальним родственникам» советских стиляг – зут-сьютс сороковых годов в Америке или тедди-боям пятидесятых в Великобритании.
Считается, что «zoot suits» – костюмы с огромными подбитыми ватой плечами и сильно суженными к щиколотке брюками (пиджаки и брюки стиляг в СССР десятилетием позже были очень похожи на них) – появились в тридцатых годах двадцатого века в Гарлеме, черном районе Нью-Йорка, и были связаны с местной джазовой сценой. Правда, там их называли» drapes». Само же слово» zoot», согласно оксфордскому словарю, – это искаженное произнесение слова «suit» – «костюм» – жившими в США выходцами из Мексики – «pachucos». Сленг «pachucos» был смесью английского и испанского, и именно благодаря им костюмы «zoot suits» вошли в историю.
«Pachucos» сделали его своей униформой, а главной задачей их субкультуры было сопротивление шовинизму со стороны белого населения США. Еще одним атрибутом «pachucos» был танец «Pachuco Hop»: в нем парень практически не двигался (дабы не испортить костюм), он только подставлял партнёрше руку, а она старательно вертелась вокруг него. Белые американцы с подозрением и опаской поглядывали на одетых в огромные пиджаки мексиканских парней, и многие считали «pachucos» криминалами. Конечно, криминалы среди них были, но считать бандитом любого, надевшего длинный пиджак с подбитыми ватой плечами было глупо.
В марте 1942–го года Комитет Военной Промышленности США выпустил закон, ограничивающий количество ткани, используемое при пошиве одежды. Эти правила, по сути, запретили производство «zoot suits», и большая часть производителей прекратила выпускать и рекламировать эти костюмы. Тем не менее, спрос на «zoot suits» не уменьшился, и сеть полуподпольных портных в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке продолжила их изготовлять. Ткань для костюмов приходилось доставать подпольными способами, так что в определённой среде ширина брюк zoot suit стала неким символом, а для многих американцев, в особенности для военных, тот же костюм стал ассоциироваться с непатриотичностью. В августе того же года произошли крупные расовые столкновения между pachucos и расквартированными в Калифорнии американскими военными, причем порой единственной виной мексиканцев, с которыми завязывались драки, было то, что они были одеты в zoot suits. Мексиканцы ответили массовыми беспорядками. Насилие продолжалось еще около года, пока решение о раскваритровании военных не было отменено. А костюм «zoot suit» и вся субкультура pachucos стали символом протеста против обывательского большинства и шовинизма.
В тридцатые годы в гитлеровской Германии (преимущественно в Гамбурге и Берлине) существовало движение молодых людей – в основном, из семей среднего класса, – не желающих вступать в нацистскую молодежную организацию «Гитлерюгенд», слушавших джаз и свинг и одевавшихся в соответствующем стиле. Их называли свинг-кидс (по-немецки – Swingjugend). При нацистском режиме это было более опасно, чем быть стилягой в СССР: за «кок» и узкие брюки могли выгнать из комсомола и из института, но, по крайней мере, не сажали в тюрьму и не расстреливали. А нацистская идеология однозначно не принимала джаз, который исполняли, в основном, черные музыканты. Вместе с абстрактной живописью джаз относили к категории «дегенератского искусства». «Свободная любовь», присутствующая в джазовой лирике, также противоречила «моральному кодексу истинного арийца». Поначалу свинг-кидс были аполитичны, интересуясь, в основном, музыкой и модой, но по мере того, как нацистский режим укреплялся, они все больше уходили в оппозицию к нему, относясь к атрибутам «третьего рейха» с издевкой: например, они приветствовали друг друга» Swing heil!», прикалываясь над нацистским приветствием» Sieg Heil!». Кстати, одежда свинг-кидс вполне напоминала стиль американских «зут-сьютс»: длинные пиджаки, часто – в клетку, удобные для танцев туфли на резиновой подошве, шарфы ярких цветов. Девушки обычно носили длинные распущенные волосы и обильно использовали макияж. Между собой свинг-кидс общались на сленге, состоящем из множества англицизмов (позже подобный сленг появится и у стиляг СССР).
С 1941–го года начались жесткие репрессии немецкой тайной полиции Гестапо и «Гитлерюгенда» против свинг-кидс. 18 августа арестовали более 300 молодых людей, часть из которых отпустили, предварительно срезав им волосы, а их лидеров отправили в концлагеря. Принятый тогда же закон, который запрещал лицам младше двадцати одного года ходить в танцевальные клубы, еще больше загнал свинг-кидс в подполье. Теперь они слушали свою музыку и танцевали под нее на закрытых вечеринках, куда посторонним попасть непросто – все это очень напоминает вечеринки стиляг в СССР. По некоторым данным, они участвовали в антинацистском сопротивлении, распространяя печатные материалы.
Известно о контактах свинг-кидс с гамбургским движением сопротивления «Белая роза», и хотя никакого фактического взаимодействия не было, нацистские власти позже обвинили свинг-кидс, причастных к контактам с «Белой розой» в анархистской пропаганде и саботаже, и только окончание войны спасло их от суда и смертных приговоров.
Моды и тедди-бойс, в отличие от «свинг-кидс» или «зут-сьютс», были в гораздо большей степени модными, чем протестными движениями. Но поскольку они существовали примерно в то же время, что и стиляги в СССР, стоит упомянуть и о них.
Название «мод» (Mod) – сокращенное от «modernist», и субкультура «модернистов» появилась в середине пятидесятых в Лондоне. Моды – происходившие не из самых богатых семей одевались в классические «континентальные» костюмы, слушали преимущественно негритянский соул, ямайский ска, британский бит и ритм-энд-блюз и катались на итальянских скутерах, стараясь – по выражению Пита Медена, в прошлом менеджера группы The Who, «хорошо жить в сложных условиях». Позже словом «мод» стали на Западе обозначать все модное, популярное и «актуальное». С субкультурой «модов» иногда ассоциируются фильмы режиссеров французской «новой волны», а также экзистенциальная философия.
«Тедди-бойс» появились в Великобритании примерно в то же самое время – их стали так называть после газетной статьи, опубликованной в 1953–м году. Они носили длинные драповые пиджаки и короткие брюки, из-под которых выглядывали носки ярких цветов, ботинки на толстой подошве, а из музыки предпочитали американский рок-н-ролл. В прессе часто писали об участии «Тедов» в криминале, но по всей видимости, эти сообщения были преувеличены. Хотя известно, что некоторые из них принимали участие в расовых беспорядках в Ноттинг Хилле в 1958–м году на стороне расистов, избивающих черных и разрушающих их имущество.
В отличие от вышеупомянутых, субкультура стиляг – чисто «советская», ничего подобного не могло появиться на Западе, уже хотя бы потому, что моделью для нее и был тот самый «западный образ жизни». Они не хотели быть «молодыми строителями коммунизма», им нравилось смотреть американские фильмы, слушать американский джаз, включать в свою речь английские словечки и подражать в одежде героям любимых фильмов.
Алексей Козлов:
Мы тогда ничего не знали [про западные субкультуры], все это я узнал позже, когда стал заниматься историей музыки – узнал, что были «Тедди-бои», чтоб было «потерянное поколение», битники. А совсем недавно я посмотрел фильм «Swing Kids» – про стиляг в фашистской Германии, в тридцать девятом году в Гамбурге. Молодежь, которая интересовалась свингом и называла себя «свингерами», и как с ними расправились. Это была точная, только более жестокая копия нашего послевоенного движения. Потрясающий фильм!
2. Советские денди
В сегодняшних СМИ и литературе стиляг иногда называют «советскими денди». Словарь дает такое определение этому слову:
Денди (англ. dandy) – социально-культурный тип XIX века: мужчина, подчёркнуто следящий за «лоском» внешнего вида и поведения. В отличие от щеголя, не слепо следует моде, но сам ее создает, обладая тонким вкусом, неординарным мышлением, иронией по отношению к существующим моделям поведения.
В сущности, стиляги – по крайней мере, самая активная их часть, не примитивные подражатели – соответствовали этому определению: они создавали свою собственную моду, обладая для этого крайне скудными средствами и возможностями.
В конце сороковых – начале пятидесятых власти пытались контролировать абсолютно все сферы жизни «советского человека»: задача малореальная и абсурдная, но попытки ее решить постоянно предпринимались. Объектом контроля был и внешний вид «строителя коммунизма». «Длина волос и ширина брюк почему-то всегда были меркой политического состояния советского человека», – замечает Алексей Козлов.
А стиляги сопротивлялись попыткам навязать им, как нужно одеваться и как стричься, и в это сопротивлении некоторые – особенно, первые стиляги – доходили до абсурдности и почти карикатурности: длинный до невозможности пиджак с такими же невозможно широкими плечами, максимально узкие брюки и максимально толстая подошва ботинок, а также крикливые, яркие цвета всего гардероба.
Но пусть в несколько менее утрированном виде все эти атрибуты и брюки-«дудочки», и пиджак с широкими плечами, и узкий галстук, завязывающийся на микроскопический узел стали неизменными атрибутами внешнего вида стиляг, который, однако, менялся с годами в зависимости от западной моды, которая, пусть с опозданием, но доходила до СССР, ну и, конечно, от возможностей каждого конкретного человека.
Валерий Сафонов:
Как-то сама собой образовывалась эта мода. Я так полагаю – как протест против серости всеобщей. Тем более, что на нас напялили тогда эту форму школьную – она чудовищная была совершенно. И вообще публика одевалась примитивно в те времена.
Борис Алексеев:
[Достать стильную одежду] было довольно сложно, почти невозможно. Купить было практически невозможно – только в одном комиссионном магазине у консерватории. Но туда уже ходили довольно взрослые люди – с моей точки зрения. Им было двадцать пять, двадцать шесть лет. Они были знакомы с продавщицами, им оставляли все это дело.
Единственное, что было можно – это пошить себе брюки. Пошить брюки стоило двести пятьдесят рублей, причем, это большие были деньги. Подпольные портные шили брюки – не по лекалам, конечно, а по моде американской, в основном.
Валерий Сафонов:
Поскольку мои тетушка с дядей жили в Голландии – дядя работал в посольстве в Гааге, – они привозили очень хорошую стильную одежду по тем временам, и меня как-то тоже одевали. Я в Москве отличался одеждой и обувью и прочим. Видел, конечно, и других людей, [одетых подобным образом], и из той одежды, которую привозили, я выбирал ту, которая напоминала их стиль. У нас семья была большая, поэтому они привозили на всю семью, и мы потом обменивались. Обувь, которую привозили, я даже давал напрокат – ну, кто-то хочет пойти, покрасоваться. Мои друзья, если на танцы или еще куда – девочек там кадрить – у меня их брали на прокат. И куртку брали на прокат – у меня куртка была по тем временам неожиданная. Сейчас-то она ничего собой не представляла бы, широкая такая, дутая как бы, с резиночкой, таких здесь тогда не было вообще. Цвет был неожиданный – ярко-желтый, это вообще было немыслимо.
Анатолий Кальварский:
В основном, это было желание нормально одеться. Всем хотелось после войны как-то немного расслабиться, одеться. Но, к сожалению, ничего не было. В магазинах была стандартная серая, абсолютно не радовавшая глаз одежда, плохо сшитая. Может быть, ткани были приличные – ничего не могу сказать. Но сшито это было ужасно.
Приезжали студенты – у нас много студентов училось из стран «народной демократии». В основном, у них покупали чешские и немецкие вещи. Потому что об американских, французских или английских вещах речи не шло, это было у считанных единиц – у детей дипломатов. Но это все было в Москве, а я в то время в Москве бывал редко. А здесь, у нас – то, что перепадало от студентов. Были какие-то умельцы, которые что-то шили, потом это выдавалась за «фирму».
Виктор Лебедев:
Тогда легкая промышленность наша не давала возможности одеться так, как хотелось, и поэтому шили домотканые какие-то вещи, копируя западные образцы. Я, например, купил такой материал «бобрик», и из бобрика мне сшили какое-то ужасно уродливое пальто, но я им восхищался, выходил в нем на Невский проспект.
Все утрировалось. Наши ателье это шили по нашей просьбе – из тех тканей, которые были, – как протест вот этому серому абсолютно ширпотребу, который продавался в то время у нас. Куртки шили до колена – какие-то клетчатые куртки «сто пуговиц». Их не сто, конечно было, а пуговиц двадцать. Какие-то джинсы нам шили из плащевой ткани – там какой-то был человек на шестой Советской улице, Семен Маркович, который их шил.
Валерий Попов:
Когда я поступал в институт и собеседование проходил как золотой медалист, мне нужно было достать брюки приличной ширины – у меня все были ушитые, перешитые в «дудочки». И у меня был друг Слава Самсонов, который гениально владел маминой машинкой и ушивал брюки просто до предельной узости. Образно говоря, «с мылом» натягивались – еле-еле. А снимать было еще труднее. Без посторонней помощи их было не стащить. Но для собеседования я взял у двоюродного брата брюки приличной ширины. Что, может быть, и спасло мою судьбу. Потом пошли уже хорошие вещи, какой-то импорт. Я помню, пришел в театр, и ко мне подошел такой красивый седой мужчина. Говорит: «Наверно, вам нужно одеться?» И я пришел к нему. Дом у него напоминал турецкие магазины. Там было все – даже подносы какие-то, чайники, кофты, бонлоны так называемые – «удавки» нейлоновые. Я помню, что оттуда вышел совершенно ошеломленный. Сейчас я понимаю, что это, конечно, турецкая такая дешевка. Но в то время это было колоссальным стимулом. Мы понимали, что жизнь меняем вообще, вырываемся из этой серятины. Школа – все это идет к черту. Мы – свободные люди!
Валерий Сафонов:
Узкие брюки – это была мода и в Америке, и в Европе. А здесь наши фабрики шили даже еще по моде тридцатых годов широкие брюки. Как-то они припозднились в этом смысле.
Борис Дышленко:
Одежду перешивали: брюки суживали. Если удавалось достать какой-нибудь пиджак клетчатый, необычный – это уже было каким-то достижением. Галстук был в те времена существенной деталью костюма стиляги. И чем ярче, тем лучше. Не стандартный галстук, выпущенный тогда – обычный, в косую полоску, а какой-нибудь с пальмой, с обезьяной. Или какой-нибудь японский галстук с вышитым драконом – это было очень престижно. У меня был великолепный галстук с вышитым драконом. Но я его испортил – я его вздумал постирать в горячей воде – и все. Я не знал, что шелк нужно стирать в холодной воде. А купил я его у своего приятеля-студента. По тем временам довольно дорого – за бутылку водки. Тогда галстук в магазине стоил рубль-двадцать, а я отдал примерно в два раза дороже.
Валерий Сафонов:
Эту моду очень быстро освоили портные, сапожники наши. Шили пиджаки с широкими плечами, из «букле» – это ткань такая плотная, толстая. Немножко все утрированное, не так, как было на Западе. Там шили нормальную одежду, а здесь все утрировали. Головные уборы даже шили. Резиновый был козырек и тоже «букле» – подражало своей формой американским кепи тридцатых годов. Называлась «кепка с пиздой» – потому что на ней была складочка такая прошитая. Это тоже сразу же отличало тебя от людей, у которых другие головные уборы.
Галстуки шили – с обезьянами: пальма там, обезьяна. У меня с обезьянами, конечно, не было. А потом из Китая стали привозить такие шелковые галстуки – они тоже были очень пестрые и яркие. Китайского шелка, с таким рисунком китайским специфическим, растительность какая-то китайская. Узкие, их называли «селедочка».
Был портной – брат соседки моей тетки. Павел Давыдович – фамилию его, к сожалению, не помню. У него были журналы фирменные. Он был вообще журналист, но считал, что каждый человек должен иметь вторую профессию. На случай войны, каких-то передряг – что-то руками надо уметь делать, иначе – пропадешь. Инженеры никому не будут нужны, журналисты тоже…
И раз он мне сшил пальто. То ли Жерар Филипп здесь был, то ли фотографию я где-то увидел его – я уже не помню. И мне понравилась модель его пальто. Я пришел, попросил Павла Давыдовича: давай, ты мне сваргань такое пальто. И он мне сшил. Это был десятый класс – то есть, пятьдесят шестой год.
[Павел Давыдович] и меня тоже, кстати говоря, учил, и я умел шить. И я сам брюки шил – «трузера». Именно брюки было трудно купить американские. Пиджаки еще были, а брюк не было. Пиджак я сшил один раз, но это было мучительно, противно. И потом я шил только брюки. Обшивал всех своих друзей – всем шил брюки. Ткань-то можно было нормальную купить.
Дакрон – это был такой материал новомодный американский. Не нейлон, а именно дакрон, и рубашки были дакроновые, и пиджаки дакроновые. Для американцев это было дешевкой, а для нас выглядело очень эффектно. Новая ткань такая. Рубашки были смешанные – дакрон с хлопком. Они очень легко стирались, сушились, и их можно было не гладить.
Юрий Дормидошин:
Я купил плащ у финнов. Он весь переливался. Я его купил за четырнадцать рублей – долго торговался, [сбил цену] с двадцати. И я был просто каким-то героем несколько дней. Потом я влез в краску и понял, что его надо продавать. Мне дали за него сто рублей и поддельный аттестат за окончание десяти классов: я сделал шикарный бизнес. Сто рублей тогда были большие деньги. И аттестат тоже стоил что-то – мне он нужен был куда-то.
Вадим Неплох:
Каучук наклеивали на обыкновенные ботинки, чтобы толстая была такая подошва. Узенький галстучек. Узкие брюки, и пиджаки – такие плечи большие. И подкладывали плечи тоже. Но мы не относились к этим «ультра-стилягам», не были стиляжными ортодоксами, на которых рисовали карикатуры. У нас была более американского стиля одежда. Мы не выделялись среди других стиляг – а некоторые делали невозможные вещи, чтобы как-то эпатировать публику. А мы не эпатировали, просто думали, что это хорошо. Но все равно вызывали ненависть какую-то, потому что «другие» люди всегда вызывают ненависть.
Олег Яцкевич:
Стоим с приятелем в кафе-автомате, кушаем. И говорит он – от переполнявших его чувств: «На мне все штатское». А я: «А что, все должно быть военное?» Он: «Дурень ты, все из Штатов». А у него тетка где-то в Калифорнии – еще первой волны иммигрантка – ему ежемесячно посылала пятьдесят долларов. А те пятьдесят долларов – это не те пятьдесят долларов, что сейчас. На них можно было что-то купить в спецмагазине.
Анатолий Кальварский:
[Такую одежду] видели в фильмах. Фильмов этих было очень мало. Тогда можно было посмотреть несколько фильмов подпольно. На одной квартире мы собирались и смотрели, в частности, «Серенаду Солнечной Долины», потом «Джордж из Динки-джаза» и еще какие-то картины. Естественно, одежда киногероев очень резко отличалась от нашей. Я не могу сказать, что именно это меня подвигло. Но вот, например, я с удовольствием купил у одного чешского студента – через своего знакомого – весьма поношенные, но на толстой подошве туфли. Узкие брюки мне просто нравились, потому что они никогда не были мятыми, и я с удовольствием их носил.
Я играл тогда в таком полупрофессиональном джазе. Играли мы танцевальные вечеринки. На них собиралась молодежь, которая любила послушать или потанцевать под джаз.
Хотелось нравиться девушкам. Девчонкам нравились стиляги – во всяком случае, люди, одетые со вкусом. Было, конечно, очень много карикатурных моментов. Например, куртки из шарфов каких-то шили, очень смешные. Совершенно дикое сочетание цветов было у людей безвкусных. Но были люди, которые очень хорошо и красиво одевались. Я помню, что очень хорошо одевался к сожалению ныне покойный Константин Носов, с большим вкусом. Однако это не помешало комсомольскому патрулю разрезать его брюки на Невском проспекте.
Олег Яцкевич:
Попался как-то польский журнал «Жице Варшавы», и там на развороте стоит Ренье – князь Монако. Он – в светлом пальто с поднятым воротником – элегантный до безумия. Рядом – кинозвезда какая-то стоит. И так это выглядит клёво! Фотка отложилась в памяти, посему и зашел как-то в магазин «Ткани». Вижу – бобрик светло-песочного цвета: – «А что, если сшить такое же пальто?» Купил ткань очень недорого – и в ателье. Портной – пожилой еврей – говорит: – «О, я вам сделаю такую штучку, – в Голливуд поедете, и вас там снимать будут, чтоб я так жил!». Получилось весьма неплохо.
На Невском сразу сказали: «О, хорошая штучка! Из Парижа, небось?». Гуляем компанией, а на меня все пялятся. Дискомфортно! А потом захожу в гастроном что-нибудь купить на ужин, и сзади: «Во, разрядился!» Я был достаточно скромен и стеснителен, и мне не понравилось этакое «внимание». Потом какая-то старуха: «Вот шут гороховый!» В общем, еще два-три замечания – и я утром понес пальто в скупку. Новое совершенно пальто. Потом на семидесятилетии мой друг старинный говорит: «А вот мне запомнилось, как ты вышел однажды на Невский в светлом пальто. Такой вид великолепный!».
Валерий Сафонов:
Обувь была специальная, так называемая на «манке». Сапожники сразу освоили. Был такой материал – микропорка. Вот они наклеивали такую толстую мягкую подошву и еще гофрировали ее сбоку. Ты сразу отличался в своей обуви.
Борис Алексеев:
Ботинки на толстой подошве делали частные сапожники. Тогда, как ни странно, было много частных сапожников – хоть это было и сталинское время. Они приклеивали такую замечательную толстую подошву.
Алексей Козлов:
Среди нас, «чуваков», которые одевались, не как жлобы, сначала был «совпаршив» – самопальные все шмотки, потому что никто не мог достать настоящие вещи. Потом, уже после фестиваля (молодежи и студентов в Москве 1957 года – В. К.) появились «фирменники» так называемые – те, кто одевался в фирменные шмотки, только в фирменные – с лейблами. И среди них были «бундесовые фирменники» – те, кто носили только западногерманское, были «финики», которые финские шмотки носили, были «демократы», которые носили польские, чешские и прочие – они самые считались низкопробные, а «штатники» были те, кто носил только американские вещи. И вообще, понятие «штатник» выходило за рамки шмоток. Это были люди, которые увлекались Америкой, ее культурой, историей и, конечно же, носили только американские вещи. А потом уже среди «штатников» выявилась элитарная маленькая группа – «штатники Ivy League».
Это уже самая крайняя степень пижонства была, когда мы стали «штатниками Ivy League.» Это уже было в шестидесятые годы, когда мы узнали, что в Америке была создана «Лига Плюща» – студентами сначала трех, а сейчас, по-моему, там семь элитных университетов. Гарвардского, Йельского и еще какого-то. И я, когда был в Бостоне, видел стену, обвитую плющом, и тогда я наконец-то увидел, откуда взялось «Ivy League.» «Ivy» – это плющ, а «League» – это лига. Эти студенты, которые не хотели быть похожими на других американских студентов. Самая богатая американская молодежь поступала только в эти три университета. И они образовали «Лигу плюща». Эта стена в Бостоне, обвитая плющом – символ этих людей. Откуда тогда мы это узнали и стали называть друг друга «айвиликовые штатники»? И это были пижоны высшей марки, потому что даже в Америке мало кто знает про «Ivy League». А мы доставали шмотки, которые носили в Америке вот эти вот англосаксонские протестантские дети – W. A. S. P. есть такое понятие. (Сокращение от White Anglo-Saxon Protestants (Белые англосаксонские протестанты), одна из социально-этнических групп США – В. К.), которые не хотели быть, как все. Это были такие стиляги американские. И мы стриглись под них, одевались так же. Мы носили только то, что, как нам казалось, носят студенты университетов «Лиги плюща» в Америке. Мы были элитой уже среди «штатников» – сами придумали такой способ отделиться даже от «штатников».