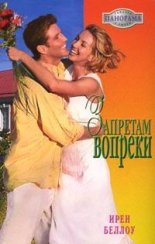Стиляги Козлов Владимир
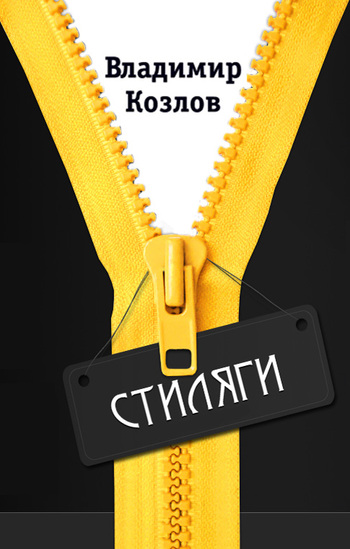
Но это был короткий период в моей жизни, потому что началась хипповая революция, и я тут же отрастил длинные волосы, стал носить джинсы и забыл про «штатников» вообще. Потому что это было что-то самое преследуемое. Оперу «Jesus Christ Superstar» исполнять назло советской власти. Я не мог оставаться в тени. Желание было все время все делать назло у нас у всех. И знать больше всех.
Таких людей, кто был «айвиликовыми штатниками», уже почти не осталось. Очень многие просто умерли. Многие сели в лагеря, и их там кого зарезали бандиты, кто умер – просто спился. Сколько таких было – и Арапетян, и Стэн Павлов, и Феликс Соловьев. Вообще, вся «штатская» тусовка концентрировалась в доме у Феликса, который окнами выходил во двор американского посольства – в Девятинском переулке. И мы там просто смотрели в потусторонний мир и не верили, что такой вообще существует. Во дворе там дети играли, машины фирменные стояли. Это был пятьдесят четвертый, пятьдесят пятый год – сразу после смерти Сталина. Мне просто повезло, что я попал в эту компанию. Случайно попал – потому что я в институте оказался в одной группе с человеком – Пашей Литвиновым, – который был соседом [Феликса]. Он меня познакомил с Феликсом, а через него я вышел на остальных «штатников»
Александр Петров:
Ivy League, по-русски – Плющевая лига, – это объединение университетов, особых, не рядовых. И вот кто-то стал для студентов подобных университетов шить модели. Рубашки – верхней пуговицы не было, а петля была, а под воротником – маленькая пуговица. Как правило, расстегнутой носили, и виднелся T-shirt. Я потом приобрел [у знакомого] пальто – не из ткани, а из трикотажа. Воротник на стойке и петля такая широкая. Так же шились и плащи. Сейчас иногда в секонд-хэндах находятся хорошие модели тех лет, в прекрасном состоянии.
А началось все, когда я учился в техникуме, и один наш парень, Юра Крылов, под рубашку одевал футболку с каймой. Я спрашиваю у него: «А что это такое?». Он говорит: «Это – «стэйтс», это – «стэйтс»». Такая футболка – T-shirt – пользовалась на североамериканском континенте такой же популярностью, как у нас обычные майки с бретелями. Мне это понравилось. Отсюда все и пошло. Потом случайно познакомился с молодыми людьми, у которых место сбора было в центре Москвы. Так они и назывались – «центровые». То есть, «высший свет».
У [одного парня] я купил ботинки с рисунком. Их название аутентичное было Oxford Shoes или Winged Tips. Нашлепка была пришита на ботинки, кругом – дырочки, считалось классикой: примерно с начала прошлого века так носят. А у нас кто-то придумал название этим ботинкам – «разговоры». То есть, когда человек идет, они как бы разговаривают – эти дырочки создают впечатление речи.
[ «Штатники»] носили брюки не «дудочки», а с манжетами и как раз впритык к обуви – не так, как сейчас – «гармошкой», и не так, как носил Остап Бендер – очень-очень короткие. То есть, всегда видно было и носок, и ботинок. Это среднему человеку в СССР было непонятно. Почему? Потому что большинство людей ориентировались на европейскую моду, а там манжеты не носили.
В рубашках были пуговицы с четырьмя дырками: рубашка button-down – с пристегнутым вниз воротником, и пуговицы с четырьмя дырочками. А сейчас пуговицы с четырьмя дырками употребляют во всем мире. Это раньше – смотришь: не те пуговицы. Срезаешь, ищешь нужные тебе. Таких пуговиц не было – использовал советские пуговицы пятидесятых годов. Такие перламутровые. В магазинах уцененных товаров можно было пачку этих пуговиц – они были пришиты к картонке – можно было недорого купить. Или галстуки, сделанные в ГДР или Чехословакии – в диагональ. Они были непонятны советскому человеку, никто не покупал такие – можно было купить по десять, кажется, копеек.
Иногда [вещи] покупали в комиссионных магазинах. Часто «выездные» люди – дипломаты, спортсмены, чекисты, внешторговцы – покупали [за границей] что-то из одежды, привозили, получали, может быть, за это нагоняй от жен и в результате избавлялись через комиссионный магазин от этого. Комиссионные магазины называли «комки». А там можно было купить недорого. Например, я ботинки за тридцать рублей купил. А они стоили в то время – если сейчас двести пятьдесят, триста долларов, то тогда сто долларов должны были стоить. А я купил их за тридцать рублей. Почему? Потому что [кому-то нужно было] их продать, а средний человек себе такие не купит. Когда мы приходим в какой-то комок, сразу [продавцы] говорят: «Вот, штатники пришли».
У меня таким образом собралась большая коллекция одежды, и в самые лучшие времена у меня было тридцать пять пиджаков. Ни у кого не было такого количества одежды. А потом я от части избавился, потому что перестали застегиваться. И у меня около двух с половиной тысяч галстуков. Галстуки не могут быть малы.
Мы называли вещи не «штатовские», а «штатские». И когда я с одним человеком познакомился, он решил немножко [подшутить]: «Не военные? Не военные?»
Еще носили шапки – я не знал сначала, что они военные. А оказалось – морская пехота США. Шапка из искусственного меха, сверху – дерматин, ушки, лямочка с кнопками – и застегивается.
Многие одевали рубашки типа «snap up» – то есть, воротник имел продолжение в виде двух ленточек, или с пуговицей, или с кнопкой, и застегивались они под галстуком.
[А вообще, североамериканские вещи] носили в пику общей тенденции. Партнерши по танцам задавали вопрос: «А почему ты одет вот так вот – непохоже на других?». Девочки понимали, в основном, молодых людей, одетых по-европейски, а не по-североамерикански. Некоторые не обращали на это внимания, некоторым – нравилось.
Валерий Сафонов:
Плащ называли рэйнкоат. Я английским не владею, но помню те названия. На «рэдовой» подстежке, на зиппере. Либо черный плащ, прямой, реглан, либо в такую неяркую клеточку, либо белый, совершенно белый. И на рэдовой подстежке: распахивается – и там ярко-красная подкладка.
«Сопля» на том жаргоне – это под воротничком (такой английский воротничок) петля, чтобы наглухо застегнуться. Это тоже было шиком. «button-down» рубашки. До сих пор ношу – их до сих пор шьют, слава тебе господи. Один карман обязательно, даже шов на кармане был немножко с наклоном. Или рубашки «snap up». Это ворот «куда подевалась булавка», глухая такая застежка.
Костюмы – обязательно прямой, из легкой ткани, тоже на красивой яркой подкладке обязательно, потому что, если распахивался, то видно, что это за вещь. Шляпа американская, обязательно с таким перышком маленьким, канареечным. Она была шерстяная, не фетровая, а из шерсти. Такая неяркая клеточка мелкая. Ну, и «шузы», «шузня» «с разговором». Я их до сих пор предпочитаю. «Разговор» – это перфорированный такой узор, типично английский. Ну, если ты такой комплект приобрел, то ты уже все, имеешь «паспорт штатника».
[Европейскую] моду не приняли, именно американскую. Может быть, из-за журнала «Америка». Может быть, из-за джаза, потому что джазмены так одевались всегда. Тут несколько мотивов. А потом европейская мода все-таки свое взяла, и я переключился на итальянцев, французов – как-то к американской одежде охладел. Магазины «Березки» – вот они нас «переодели». Всегда эта одежда американская была все-таки ношеная, потому что мы ее покупали в комиссионном, редко удавалось, чтобы новая вещь была. А тут – свежая одежда, хорошо сшитая. Да и в обычных магазинах появилась импортная одежда, можно было купить – «выбрасывали», как это называлось.
Борис Алексеев:
Я предпочитал американскую моду. Тогда не было французской, итальянской – «Нина Риччи» и прочее. Тогда за образец был взят американский стиль. Он был такой простой и привлекательный. Он был не яркий – надо прямо сказать, – но очень удобный. В такой одежде было удобно ходить, ты чувствовал себя нормально. Не было красных, желтых цветов – чего-то такого.
Георгий Ковенчук:
Был и официальный источник [получения импортных вещей]: когда завозили в нашу торговую сеть ботинки, люди, имевшие знакомства в торговле, покупали их большую партию, и на следующий день полгорода ходили в этих ботинках. Или, допустим, плащи болоньевые. Еще был анекдот про то, что какой-то советский человек послал жалобу в Италию – на фабрику, где делают эти плащи: жалуется, что он у него выгорел очень быстро на солнце. А они ему ответили: мы их одеваем только, когда дождь. А у нас носили и в хорошую погоду.
У меня были еще друзья – фарцовщики. Они покупали у финнов, в основном, рубашки, джинсы. Труднее всего было с ботинками – сложно найти твой размер. У меня были венгерские ботинки – это первые в жизни заграничные ботинки, я купил их у приятеля. И они были чуть не на два номера меньше – я себе натер пятки до крови. А потом печальной была их кончина. Я вышел на первомайскую демонстрацию, и там была конная милиция на Невском. Я стоял сзади лошади, на которой сидел милиционер – и она попятилась и копытом мне наступила прямо на правый ботинок, на носок – она мне его совершенно изуродовала. И я был как инвалид: у меня и пятки были, и пальцы правой ноги покалечены.
Валерий Сафонов:
Носки – «соксы» – у стиляг были яркие, обязательно яркие. В полосочку поперечную. Как их доставали – я не помню, честное слово, не помню. Красить – не красили. А американские – простые носки, обыкновенные были. Я американские и не покупал, покупал обычные. Они отличались, может, только качеством. Тогда нейлоновые были носки – они не очень приятные, может, но модные.
Георгий Ковенчук:
Когда появились носки нейлоновые, они очень дорого стоили. И поэтому, когда выходили все вечером на «Бродвей», молодежь демонстрировала свои наряды. И я помню, когда у меня появились носки, я так любил стоять у какой-нибудь витрины – ставил ногу на карниз, брючину задирал, разговаривал с кем-то и ловил на этой ноге своей завистливые взгляды прохожих.
Я учился в академии художеств, и у нас учились много так называемых «демократов». Интересно, что сейчас демократы – почти ругательное слово, а тогда их называли демократами не из-за их политических взглядов, а из-за того, что они жили в «странах народной демократии». И вот эти поляки, венгры, румыны, которые с нами учились, одевались, ничуть не отличаясь от современной моды – их там за это не преследовали. И поэтому мы пользовались дружескими отношениями с ними и просили привезти после каникул куртку какую-нибудь, брюки.
Олег Яцкевич:
Идем с «Хоттабычем» с работы – мы вместе работали. Мимо гостиницы «Балтика» – тогда это была вшивейшая гостиница. И выскакивает такой Жора. «Ребята, одолжите пятьсот». – «А что такое?». – «Да тут югославские волейболисты костюмы сдают по двести пятьдесят рублей». Мы говорим: «Так, веди нас. Тогда получишь [пятьсот]». Он завел нас, мы купили по костюму. Дали ему то, что у нас оставалось – четыреста рублей. А он им сунул четыреста – решил, что они впопыхах не разберутся – на два костюма. Они пересчитали, дали ему по роже, забрали деньги и дали один костюм. Он говорит: «Все, все. Теперь только с «финиками». Никаких югославов». А тот костюм я довольно долго носил. Такой светло-бежевый костюм, шикарно выглядел.
Рауль Мир-Хайдаров:
У нас практика уже была преддипломная, работали как рабочие и очень хорошо зарабатывали. Очень хорошо оделись – все в вечерних костюмах, роскошных белых рубашках, с бабочками. А я себе в ателье заказал смокинг. С белым жилетом. Нашел в журнале. Мне портной говорит: «На смокинг замахнулись?» Я говорю: «Да». И он чуть – чуть погрустнел. А он – из Ленинграда, в тридцать седьмом сосланный. Говорит: «Представляете, я уже двадцать пять лет не шил смокинги». И он сам мне белую бабочку сшил и подарил. Меня затрясло, когда кто-то по телевизору говорит – когда перестройка началась – что в Советском Союзе первым надел смокинг [ведущий передачи «Поле чудес»] Якубович. Я говорю: вы меня извините, я смокинг имел в шестидесятом году. У меня есть фотография. И причем не театральный, как ему дали поносить фирмы, которые продают их, а специально заказанный.
И я после 1960–го года уже сознательно одевался. Когда я переехал в Ташкент, я нашел себе выдающегося закройщика. Александр Сапьяна, армянина. И Наума Альтмана, портного, они работали в паре. Один человек не может шить. Должен быть закройщик, и тот, кто исполняет. И я себе шил такие костюмы, такие пиджаки, пальто, куртки! И немного было таких заказов. Люди заказывали – что сошьют, то и сошьют. А я ткань сам выбирал, подкладку сам выбирал. И тогда ставил красные, «огненные» подкладки на пиджаки и пальто. Пуговицы искал непонятно где. Но зато все приносил.
Юрий Дормидошин:
У меня был приятель – мы его «Америка» звали, он одевался только в американское. Все по пристрастиям: кто-то одевался в итальянское, кто-то – в американское. И он «заклеил» американку, она у него жила в коммуналке, и так ей нравилось, так она была счастлива. Говорила: «Как вы здесь хорошо живете, я могу прийти к соседу и бухнуть с ним. А у нас – эти вонючие дома, там ни с кем, ничего. А потом у нее кончились «тампаксы». И она говорит: а где у вас можно купить тампаксов? А он: у нас нет тампаксов. – Как – нет тампаксов? Я что, скотина? Тогда еще не было американского консульства, она в канадское консульство пошла, и там ей дали. После этого она уже начала что-то понимать.
Лев Лурье:
Это был абсолютный дендизм. Они считали окружающих людей, «неправильно» одетых, не любящих фильм «Серенада Солнечной Долины», просто быдлом, пушечным мясом истории, людьми, которые не врубаются. Это какие-то «не чуваки», их вообще не существует, они не релевантны. В них было необычайное такое высокомерие.
А для [следующего] поколения – семидесятников – следование моде было уже периферийным и довольно маргинальным.
Столь же – если не более – экстравагантно выглядели и «чувихи»: они носили, например, юбки чуть выше колен – тогда это считалось коротко, – выразительно подчеркивающие фигуру, кофточка или платье немыслимых расцветок, иногда с достаточно глубоким декольте, капроновые чулки и туфли на высоком каблуке, а на голове делали невообразимое: или взбитая копну волос, или короткую стрижку с торчащими во все стороны неровными вихрами. Правда, не все стиляги – мужчины считали такой внешний вид – хоть и делавший их не похожими на других, выделявший из толпы – «стильным».
Валерий Сафонов:
Про девушек я бы ничего такого не сказал, конечно. Вообще, женскую одежду трудно назвать стильной. Мужская одежда проработана – англичанами, итальянцами. Она канонизирована достаточно. А женская одежда фантазийная такая – кто что сочинит. Но мода была, и девушки одевались по моде. Но не вычурно. Их я бы к этой категории не отнес. Это, по – моему, было такое чисто мужское явление.
Отдельно следует сказать о прическе – «коке»: высоко зачесанном и напомаженном (или набриолиненном) чубе. Чтобы сделать кок как следует, приходилось искать продвинутых парикмахеров, понимающих в моде толк, которые могли бы так начесать и уложить волосы, что кок стоял весь день. Но некоторые делали его и в домашних условиях – с помощью сахарного раствора.
Позже «штатники» от кока отказались, и предпочитали более короткие прически.
Валерий Сафонов:
Вот Элвис Пресли, с него началась прическа эта – «кок». А я тогда понятия не имел об Элвисе Пресли никакого. Эта прическа возникла от людей, которые были, возможно, более информированные, чем я, имели какую-то визуальную информацию о Западе, что было довольно редко. Журналов в то время не было, ничего… Но эта прическа выделяла человека из толпы. Потом, когда я увидел видеозаписи Пресли, я понял, что он одевался весьма экстравагантно, и это тоже сыграло роль для наших модников. Вероятно, они видели, как он одевался для сцены. Но это был именно сценический образ, который он себе создавал, а мы тут за чистую монету все приняли.
А «кок» был насахаренный, держался. Намочишь [сахарной водой], и пока просыхает, выставляешь. Бриолин тогда еще продавали, но бриолин практически и не держал. Это уже потом, чтобы придать некий лоск волосам, их смазывали бриолином.
Александр Петров:
Прически у «штатников» были короткие. Люди высоко стриглись – типа того, что делают военные в американской армии, вплоть до генералов. А еще прически примерно равнялись тому, как носили советские люди в тридцатые годы. И вообще, одежда штатников была похожа на советскую одежду тридцатых, только более высокого качества.
Стиляги и фарцовщики
Неудивительно, что субкультура стиляг была тесно связана с фарцовкой (или, как называл ее советский уголовный кодекс, «спекуляцией»). Где брать модные западные вещи, когда выехать за границу невозможно? Конечно, у иностранцев, потому что комиссионные магазины, в которые время от времени что-то сдавали «выездные» советские граждане, и которые долгое время были одним из главных источников стиляжной одежды, не могли справиться с растущим спросом на стильные шмотки.
Помогли здесь и внешние, политические факторы. После смерти Сталина началось некоторое «потепление» политического климата в стране, которое в конце концов перешло в «хрущевскую оттепель». Хоть Советский Союз и оставался для Запада враждебной страной, «железный занавес» несколько приоткрылся, и в страну начали приезжать иностранцы – причем в массовом порядке. Особенно это затронуло Ленинград, куда – благодаря географической близости – охотно стали наведываться жители соседней Финляндии: В «колыбели революции» они могли свободно напиваться водкой, тогда как у них на родине действовал «сухой закон».
За пару бутылок водки финны готовы были отдать сверхдефицитную на тот момент в СССР шмотку, и все равно не оставались в проигрыше: такой натуральный обмен был выгоден при тогдашних валютных ограничениях. Постепенно с иностранцами, часто приезжающими в Советский Союз, устанавливались «долговременные связи», и они привозили вещи уже под конкретный заказ.
Кто-то из начинающих фарцовщиков учил финский, кто-то пользовался знанием английского, а кто-то обходился и без языка. Одним из главных мест питерской фарцовки того времени стала гостиница» Европейская», где постоянно селились иностранцы. Причем, не для всех первых фарцовщиков главным фактором были деньги. Как вспоминал позже ленинградский стиляга и фарцовщик Максим Герасимов, фарцовка была для него «средством больше узнать об иностранной жизни».
Валюта в расчетах с иностранцами чаще всего не участвовала: их самих интересовал, прежде всего, «натуральный обмен». Кроме того, сроки за «незаконные валютные операции» были установлены очень строгие от 7 до 15 лет, причем под верхнюю планку – 15 лет – попадала уже «операция» с суммой в сто долларов.
Постепенно, к началу шестидесятых, фарцовка изменилась за счет того, что в нее пришел криминал и отчасти подмял под себя.
Александр Петров:
Доставали вещи у молодых людей, которые занимались тем, что по-теперешнему называется коммерцией, а по-советски называлось спекуляцией или фарцовкой. Они покупали вещи у иностранцев, что-то отбирали себе, по размеру, по модели, а остальное продавали. Сейчас под это определение любой коммерсант подходит. Разница только в том, что те рисковали многим.
Олег Яцкевич:
Фарцовка пошла от стиляжничества, возникла как один из его элементов. Потому что шмотки надо где-то доставать. И вот появились финны-«финики». У нас же почти пограничный город. Но сам я не лазил по машинам, не пас их около гостиницы. Покупал, когда попадалось что-то, но для себя.
«Финики» начали приезжать в начале пятидесятых годов. Был такой Крюк – оптовый фарцовщик. У него были знакомые финны, которые доставляли товар. Он им заказывал, к примеру, двести нейлоновых рубах. Тогда за нейлоновую рубаху некоторые стиляги родителей готовы были продать. А на самом деле – это ужас, а не рубаха: в ней зимой холодно, летом пот льет. Они ему привозят, получают, например, двести бутылок водки по три рубля. Рубашонки он продает по сто рублей. Представляете, какой навар?
Вадим Неплох:
Мы с фарцовщиками дружили, вернее, они с нами дружили. И можно было что-то у них подкупить. У меня штаны такие были в клеточку – я ими очень гордился, плащ был с подкладкой красной.
Валерий Сафонов:
Фарцовщики тогда уже были, и они тоже придерживались такого стиля – американского. У фарцовщиков, как правило, посвежее был товар, поэтому у них было немножко дороже. Но тоже нормальные, доступные цены. Скажем, джинсы стоили максимум пятнадцать рублей. Рубашка тоже стоила пятнадцать рублей – и в комиссионном, и у них тоже. Я некоторых [фарцовщиков] знал – именно на предмет того, чтобы у них покупать одежду. А они все покупали в гостиницах, у автобусов. Но я сам этого делать не пытался. Страшновато было. Ну, и надо было владеть английским языком. А я не владел и до сих пор не владею.
Анатолий Кальварский:
Мир фарцовки расцвел, когда начали приезжать финны. Это год, наверно, пятьдесят восьмой, пятьдесят девятый. Приезжали финны, и у них за бутылку водки можно было что-то купить. Они знали, что существует такой промысел, и привозили много таких вещей, которые сегодня именуют «секонд хэнд», и их с удовольствием покупали. Мой приятель так купил себе замечательные ботинки. Но когда он их начал мерить, они оказались ему малы.
Олег Яцкевич:
Мой приятель отсидел три года в лагере. За что? Добыл где-то триста-четыреста долларов, поехал в Москву – и взял с собой еще студента иняза. «Там же, в Москве все лохи», – говорит. Приехали в столицу, зашли в «Березку», отоварились. Говорят по-английски, как-то шутят, а на выходе их остановили: «Пройдите к администратору». «Раскололи» и по три года влепили. Незаконные валютные операции! В Москве вообще за это расстреливали. Шлёпнули же главного валютчика – Рокотова. Еще писали, что на Западе он был бы гений бизнеса, а в Москве…
Юрий Дормидошин:
Фарцовка началась приблизительно с шестидесятого года. Начали заезжать финны. И я влился в этот бизнес. Я жил в центре, и у меня были друзья старшие, которые [уже этим занимались].
Такое было упоение, было, чем заняться. И это была общность такая. Мы были джентльмены – мы никогда не обманывали. Потом начались эти «каталы», начали ломать бабки, начали какое-то фуфло подсовывать. Уже в этот бизнес вошли и криминальные какие-то – не джентльмены. А мы позиционировали себя как джентльмены.
Тяга к какому-то самовыражению, даже эстетический голод гнали на какую-нибудь Малую Морскую или Большую Морскую. Я, в основном, работал с «Асторией». Территория была несколько поделена. Потом мы попытались «брать» [финнов] в Выборге, но там была очень серьезная местная группировка, и нас оттуда вытеснили. Пришлось вернуться в город, а там уже в каждом отеле была спецслужба.
Сначала приезжали только финны. Иногда – до двухсот автобусов. Какое-то неимоверное количество. У нас была «агентура», нам говорили, что к «России» подъехало, например, пять автобусов, к «Европе» – четыре автобуса, там еще где-то десять автобусов. Они – такой добродушный народ. Сначала мы меняли [вещи] на водку, потом платили конкретно деньги – рубли. Они с удовольствием [брали рубли]. И потом уже каждый иностранец привозил то, что ему надо было продать, уже завязывались связи. Появлялись «домашние магазины», потому что в комиссионные такие вещи было сдавать достаточно стремно – там была старая одежда.
Естественно, деловые люди как-то прониклись всем этим. Начался спрос, появилось предложение. Появились какие-то самопальные джинсы. Настоящих вещей [было мало] – если в Москве были дипломаты, то Питер был город совершенно маргинальный. И с появлением волны туристов появилось преклонение перед иностранной одеждой. Моды как таковой не было, ее никто не мог диктовать, везли не бренды, а, естественно, ширпотреб. И тогда уже Невский проспект, «Брод» начал расширяться. Он уже перевалил Садовую улицу, Литейный проспект, кафе «Север». Там была «диаспора» немых – они, в основном, были карманниками, но были и те, кто занимался бизнесом всяким.
Приезжало огромное количество туристов, и власти ситуацией не владели. Фарцовка приняла серьезные масштабы. Завязывались связи, началась контрабанда. Тут же подтянулись девушки, началась проституция. Причем проституция была совершенно специфичная – они не занимались проституцией с русскими. Это было совершенно четко, и они этим очень гордились. Они считали, что с «рашенком» переспать западло. У них был чистый отбор.
Это был шикарный бизнес. Во-первых, ты сам одевал себя. И это было решение всех проблем – моральных, сексуальных, каких угодно. Если ты хорошо выглядел, у тебя был пропуск ко всему. Тебя уже уважали, и какой-то набор вещей позволял тебе выйти в «высшее общество». Весь другой бизнес – например, цеховики – они были совершенно законспирированы, в подполье. У меня был один знакомый – очень богатый цеховик. Я его встретил, мы пошли в обувной магазин, и он купил шесть пар обуви «Скороход». Я говорю: «Зачем тебе шесть?» – «Пусть думают, что я хожу в одних и тех же сапогах». У него был набор одежды – он покупал его в большом количестве, но ассортимент был один. Потому что не дай бог кто-то подумает, что он [богатый]. Половина этих людей жила в коммуналках, и они там прятали свои миллионы. А нам было нечего терять, мы ходили, эпатировали публику, мы уже приобретали вид практически настоящих иностранцев. Мы ходили в валютные бары – это был экстрим: зайти в валютный бар – швейцар пропускал тебя с толпой, потому что он не понимал, кто ты, что ты. И это был просто другой мир, какое-то другое ощущение, это был кусок какой-то свободы. Там сидели свободные люди – они курили Marlboro, пили какие-то напитки, общались с девушками. Но с девушек спецслужбы уже начали брать взятки. Они были все на учете, они были все информаторы, как правило. И поэтому их не трогали. Это был такой сервис, такой бренд – бренд России.
Лев Лурье:
Фарцовщики, в отличие от стиляг, не образовывали никакой субкультуры. А субкультура, соответствовавшая стилягам, называлась «мажоры». К фарцовщикам от стиляг перешла более широкая идея контрабанды. На Невском проспекте всегда было очень много людей – и их количество разрасталось, – которые каким-то образом доставали немыслимые вещи.
Стиляги и фарцовщики – это два разных поколения. Власть в современной России захватили фарцовщики, а не стиляги. Стиляги старые уже были. Они были «прорабами перестройки». Им уже поздно было захватывать какие-то, особенно командные высоты. Это все были люди пятидесяти или за пятьдесят. Но они были помешаны на потребительских ценностях, и в этом смысле разницы между стилягами и фарцовщиками действительно нет. И те, кто пришел к власти, исповедуют эти ценности. Вообще, эта идея Куршавеля, Лазурного берега, Ксюши Собчак – это стиляжная идея.
3. Культура из-за бугра
Культурные потребности стиляг явно контрастировали с тем, что предлагалось в СССР. Однажды услышав джаз и посмотрев «Серенаду Солнечной Долины», стиляги увлеклись западной культурой, которая, хоть и с большим трудом, но все же проникала за «железный занавес». Музыка Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, Бенни Гудмена, оркестра Гленна Миллера, Майлза Дэвиса, Каунта Бейси, а позже – Билла Хейли и Элвиса Пресли создавали звуковой фон их жизни, а немногие доходившие до советских экранов западные фильмы создавали модели для подражания во всем – в одежде, в поступках, в поведении.
«Музыка толстых»
Западная, «буржуазная» культура в СССР никогда не приветствовалась. Но в первые годы советская власть еще не определила свои культурные приоритеты, а потом наступила эпоха НЭПа, когда многие атрибуты «мира капитализма» более или менее уживались с социалистическими реалиями.
Днем рождения советского джаза можно считать 1 октября 1922 года. Тогда вернувшийся из эмиграции поэт, переводчик и танцор Валентин Парнах устраивает в Москве концерт «Первого республиканского джаз-банда». Сам Парнах не владел ни одним музыкальным инструментом, но привез из Парижа немалое количество американских граммофонных пластинок. Московские музыканты, наслушавшись этих пластинок, смогли сыграть нечто подобное, а сам Парнах принял участие в концерте в качестве танцора.
А уже весной 1926–го года по СССР впервые гастролируют джазовые ансамбли с участием иностранных музыкантов. «Jazz Kings» дают концерты в Москве, Харькове, Одессе и Киеве, а базирующийся в Великобритании Сэм Вудинг привозит эстрадное ревю из перебравшихся в Англию темнокожих американцев The Chocolate Kiddies. Через год в московском Артистическом клубе дебютирует первый советский профессиональный джазовый коллектив – «АМА-джаз» под управлением пианиста Александра Цфасмана. В следующем году он становится первым джазовым коллективом, живьём сыгравшим в студии Московского радио, и первым советским джазовым ансамблем, записавшимся на грампластинку.
Но уже в 1928–м году мощный удар по джазу наносит «главный пролетарский писатель» Максим Горький, опубликовав в газете «Правда» статью «О музыке толстых», где обрушивается на всю тогдашнюю эстрадно-танцевальную музыку.
«Но вдруг в чуткую тишину начинает сухо стучать какой-то идиотский молоточек – раз, два, три, десять, двадцать ударов, и вслед за ними, точно кусок грязи в чистейшую, прозрачную воду, падает дикий визг, свист, грохот, вой, рёв, треск; врываются нечеловеческие голоса, напоминая лошадиное ржание, раздаётся хрюканье медной свиньи, вопли ослов, любовное кваканье огромной лягушки; весь этот оскорбительный хаос бешеных звуков подчиняется ритму едва уловимому, и, послушав эти вопли минуту, две, начинаешь невольно воображать, что это играет оркестр безумных, они сошли с ума на сексуальной почве, а дирижирует ими какой-то человек-жеребец, размахивая огромным фаллосом», – пишет пожилой «Буревестник», которого, по слухам, подтолкнули к этому танцевальные фокстроты – их на первом этаже виллы на Капри крутил на патефоне его сын.
Определение «музыка толстых» подхватила советская идеологическая пропаганда, начав применять ее в том числе и к джазу. Так музыка, появившаяся в бедных негритянских кварталах, стала ассоциироваться в Советском Союзе не иначе как с капитализмом и «буржуазным» образом жизни.
Подобная судьба выпала и «буржуазным» танцам – фокстроту и танго. Фокстрот (название происходи от английского foxtrot – «лисья походка») появился в 1912 году в США, и его поначалу танцевали в медленном 4/4–тактном темпе. В двадцатые годы танцевальные оркестры постепенно взвинчивают темп под влиянием джаз-ритмов с 32 до 50 тактов в минуту. Эту версию называли квикстеп (от английского quikstep – «быстрый шаг»). В конце двадцатых в Англии был создан собственный «Квиктайм Фокстрот и Чарльстон» – быстрая разновидность фокстрота, в которой были использованы плоские шаги из чарльстона. Медленный фокстрот – «slowfox» – был моден в начале 1930–х в США, но к середине десятилетия уступил место джиттербагу (jitterbug), с которого началась эра свинга.
Танго получило распространение от африканских сообществ в Буэнос-Айресе на основе древних африканских танцевальных форм. В первые годы ХХ века танцоры и оркестры из Буэнос-Айреса и Монтевидео отправились в Европу, и первый европейский показ танго состоялся в Париже, а вскоре после этого в Лондоне, Берлине и других столицах. К концу 1913–го года танец попал в США и Финляндию. В США в 1911 году название «Танго» часто применялось для танцев в ритме 2/4 или 4/4 «на один шаг». Иногда танго исполняли в довольно быстром темпе.
Эти энергичные и чувственные танцы если и не запрещали явно, то, по крайней мере, «не рекомендовали», и на танцплощадках доминировали бальные танцы, появившиеся еще в девятнадцатом века.
Между тем, вышедший в 1934–м году на экраны фильм Григория Александрова «Весёлые ребята» – первая советская музыкальная комедия – представляет «отечественную версию» джаза: легкую эстрадную музыку, сыгранную тем же составом, что и джаз. Фильм становится крайне популярным, как и исполнивший главную роль эстрадный певец Леонид Утёсов. После этого фильма, где оркестр Утесова назывался «Теа-джаз» название «джаз-оркестр» начинает восприниматься более или менее спокойно, хотя джаз и не получает официального одобрения.
Великая Отечественная война, в которой США были союзником СССР, несколько изменила ситуацию. Во время войны слушать джаз стало можно, и даже в кинотеатрах перед сеансами иногда играли джаз-оркестры. Джазовые оркестры выезжали и на фронт для подержания боевого духа в войсках: в такой ситуации было не до запретов. А в 1944–м году в честь открытия «второго фронта» англо-американскими союзниками даже американский джаз ненадолго становится в СССР официально терпимым. Леонид Утёсов записывает на русском языке свинговую песенку американского композитора Джимми Макхью «Comin' In On A Wing And A Prayer».
Сразу же после окончания войны строились планы «культурного обмена» между двумя странами: предполагались поездки советских джазовых коллективов в Америку и приезд в СССР американских джазистов. Но все эти планы обрушила начавшаяся «холодная война». Более того, на волне борьбы с «космополитизмом» и «низкопоклонничеством перед Западом» достается и джазу. 10 февраля 1948 Политбюро ЦК ВКП(б) выпускает постановление «Об опере» Великая дружба» Вано Мурадели», в котором клеймит «формалистическое направление, чуждое советскому народу». По результатам постановления вместе с музыкой Шостаковича и Прокофьева «чуждым» начинают считать и джаз, хотя в тексте постановления его нет. Следующие восемь лет слово «джаз» в официальном контексте не употребляется, а музыкальные инструменты, связанные с западной музыкой – шестиструнная («испанская») гитара и саксофоны также оказываются в опале.
Часть джазовых коллективов были тогда расформированы, а другие, чтобы избежать слова «джаз», из джаз-оркестров превратились в «эстрадные оркестры». Некоторые коллективы, например, оркестр под управлением Леонида Утесова, могли себе позволить сыграть какие-то джазовые стандарты, но это подавалось в форме «критики империализма», как, например, бывшая в репертуаре оркестра «Песня американского безработного».
Вспоминают, что в послевоенные годы на танцплощадках висели списки для музыкантов: что можно играть, что нельзя. Можно было играть «русский бальный», мазурку, медленный вальс, но ни в коем случае не фокстрот, танго или румбу.
Часть бывших джазистов осели в ресторанах, где контроль над содержанием исполняемой музыки не был столь строгим, и за вечер можно было исполнить какое-то количество джазовых номеров, играя в остальное время более «нормальную» музыку: вальсы, марши и польки.
Еще одной возможностью услышать джаз и потанцевать под него были «закрытые» вечера в школах, клубах, институтах и научно-исследовательских учреждениях, на которые старались не допускать «посторонних» людей – тех, кто мог бы «настучать». Для музыкантов это была неплохая возможность подхалтурить, да еще и играя музыку, которая нравилась им самим. Одним из оркестров, часто выступавших на подобных мероприятиях, был в Ленинграде полупрофессиональный оркестр под управлением Вайнштейна.
Естественно, время от времени милиция и дружинники – по наводке и без – устраивали рейды на подобные «вечера отдыха», и музыкантам вместе со всеми остальными приходилось убегать, чтобы не угодить в милицию.
Борис Дышленко:
Стиляги все слушали джаз. Это было не то что необходимо, это было знаком каким-то для любого стиляги: его отношение к джазу, его любовь к джазу. А рок-н-ролл тогда почти не знали в России. Он появился позже.
Алексей Козлов:
Вообще, связи прямой [между стилягами и развитием джаза] нет. Если брать историю раннего джаза – послевоенного, то большинство джазменов к категории стиляг не относились по-настоящему и одевались как все. Но небольшая часть относилась. Были такие легендарные лабухи-стиляги – Боря Матвеев, Леня Геллер, Утенок, – которые еще при Сталине играли.
Послевоенный джаз начал развиваться в хрущевские времена – в пятьдесят девятом – шестидесятом году. Тогда время стиляг уже прошло, это было уже после фестиваля (международного фестиваля молодежи и студентов 1957–го года в Москве – В. К.). А вот те, кто играл джаз еще при Сталине, вот это – люди легендарные. Они как раз повлияли на меня. Это – люди, которые играли запрещенный полностью джаз после войны, как-то умудряясь играть на халтурах на подпольных, на квартирах, на танцах. И вот там собирались чуваки с чувихами, танцевали. Были облавы постоянно. Приезжали «раковые шейки» (милицейские машины, прозванные так за раскраску, напоминавшую популярную в те годы карамель – В. К.), всех вязали. Вот здесь связь была, но она имеет отношение скорей к лабухам, чем к джазменам.
Анатолий Кальварский:
Джаз [в СССР] был запрещен после постановления тысяча девятьсот сорок восьмого года, после речи товарища Жданова (см. главу «Низкопоклонство перед Западом» – В. К.). Были распущены очень многие оркестры. Единственный оркестр, который тогда остался, это был оркестр Утесова. Но это был государственный оркестр, и он не назывался джаз-оркестром.
Оркестры стали называться эстрадными оркестрами. Когда началось это поветрие, и не рекомендовалось играть на саксофонах, один из старейших музыкантов, работавших на ленинградском радио – а там был изначально джаз-оркестр КБФ, Краснознаменного балтийского флота, – мне рассказывал: приходила к ним комиссия, и комиссию эту возглавлял скрипач театра оперы и балета имени Кирова некто товарищ Аркин. Этот товарищ Аркин подозвал к себе гитариста на беседу и спрашивает: почему это ты играешь на шестиструнной гитаре? У нас же есть замечательная семиструнная русская гитара. Зачем нам нужна эта шестиструнная гитара? И Болеслав Сигизмундович Росинский, который мне рассказывал эту историю, был человек не робкого десятка и острый на язык. Он сказал Аркину: А вот вы играете на четырехструнной скрипке. А вот какой прекрасный инструмент русская балалайка. Так вот возьмите три струны и играйте на трех струнах. Тогда Аркин ему сказал, что вопрос снят.
Валерий Попов:
Сначала появились песни как бы советские, но [для] стиляг. Мода под видом сатиры, под видом пародии. Был такой оркестр под управлением Атласа – король всех площадок. И они придумали гениально. Был цензурный комитет, который принимал все номера. Каждый джаз, каждый ресторанный коллектив проходил комиссию. Они понимали, что вообще нельзя, а под видом сатиры – можно. И комиссия тоже понимала – потому что ей тоже хотелось погулять, послушать что-то. И играли такие песни разоблачающе – манящие. Разоблачительные – и, в то же время, в ритмах рок-н-ролла и буги-вуги.
Это было первое, что прорвалось. Потом началась эпоха блистательного джаза. В Питере самый известный был «Диксиленд». Усыскин был знаменитый трубач, маленький в очках. Потом у него стало ухудшаться зрение – и он все более выпуклые такие линзы носил. [Впоследствии] «Диксиленд» вошел на официальную сцену, стал ездить за границу – чуть ни в консерватории выступал. Такая музыка южных штатов – быстрая, ритмичная, сначала один солирует, потом другой солирует, импровизируют… Вечера с «Диксилендом» – это было наше главное счастье в жизни. Мы музыкантов всех знали по именам. Если в каком-то институте играет «Диксиленд», то это была эпопея – прорваться на вечера. Помню, во скольких прорывах я участвовал… Билеты распределяет только институтский профком. Дают отличникам, или своим, близким – тоже коррупция власти. Остальным надо было прорываться. Стоят дружинники – и надо было жать, давить. Кто-то прорвался – смял дружинников. Пробежали. Потом они усилили кордон. Потом говорят, что там вот через окно можно пролезть в женский туалет, а оттуда выйти через другое здание и потом прорваться туда. Помню такие операции – через угольные кучи, через кочегарки пролезали. Входим в зал – и «Диксиленд» шпарит. Полное счастье. Стряхиваешь грязь с себя, пыль, уголь – и начинаешь плясать. Помню, часто это было в спортивных залах, где шведские стенки. Помню, в военмех как-то прорвались – и у шведских стенок. Мой друг там встретил свою любовь. Помню, ехали из Солнечного – там купались, загорали – вечером такие веселые: давай прорываться в военмех. Прорвались в военмех – и мой друг Слава встретил там свое счастье. Случайно зашли, случайно прорвались – и оказалось, что это жизнь.
Потом стали солидные, огромные оркестры появляться. Уже профессиональные. Там был такой знаменитый трубач Носов. Но оркестры большие – они уже немножко были официозные. Как в фильме «Серенада Солнечной Долины» – такие американские большие оркестры. Они были больше для слушания, чем для плясок. Уже появились коллекционеры дисков, теоретики. Джаз лет тридцать был нашей религией. Кто глубоко знал, кто просто – слушали все мы его с утра до вечера. По приемнику – Voice of America – это обязательно слушалось вечером. Уиллис Коновер, с таким густым голосом. Это был наш джазовый кумир. Jazz Hour – «Час джаза» – называлась передача. Все американские джазовые гении к нам пришли через Уиллиса Коновера. Их записывали, переписывали… Диски на костях так называемые – на рентгеновских пленках. Было, чем заниматься, было, чему радоваться.
Валерий Сафонов:
Конечно, все увлекались джазом. Это поголовное было увлечение. Но у меня другой интерес был и тогда… Я люблю джаз, в принципе, но никогда не считал себя знатоком и не собирал его. У меня огромная коллекция классической музыки – три тысячи дисков. Я уже тогда, когда приехал к нам Ван Клиберн – это пятьдесят восьмой год, первый конкурс Чайковского… Он, кстати, был одет по той самой моде – американской, был очень яркой такой фигурой. Я тогда был потрясен – и проснулся интерес к классической музыке, должен был быть какой-то толчок, и вот этим толчком было как раз его выступление. Оно, можно сказать, всколыхнуло весь народ – то, что американец взял первую премию, блестяще исполнял первый концерт Чайковского. Все по телевизору смотрели это исполнение. Это произвело неизгладимое впечатление, и я стал интересоваться, покупать пластинки. А так в основном все друзья увлекались, конечно, джазом. И многие даже играли. Вот в каждом институте были обязательно свои какие-то оркестры – у нас в «станкине» тоже был джазовый оркестр. И музыканты были сначала стиляги, а потом переключились на штатовскую одежду.
У нас в институте был именно джаз – оркестр: с саксофонами там. Но было запрещено исполнять американскую музыку. Играли музыку советских композиторов, но джазовым составом. На репетициях, для себя, они играли американскую музыку, американский джаз.
Вадим Неплох:
Слушали Чарли Паркера, Диззи Гилеспи, Бинга Кросби, Фрэнка Синатру, Дорис Дэй. Пластинки покупали на барахолке – у нас была на Обводном канале барахолка. Там можно было купить все, что угодно, и мы все время покупали пластинки. Семьдесят восемь оборотов пластинки. Американские – старые, довоенные. Sweet Sue – шедевры, они и сегодня звучат, как шедевры. Для нас, для тех, кто остался. Это же не советская музыка.
Олег Яцкевич:
Джаз слушали фанатично. Мы трое дружили – Юра Блажин, такой известный «центровой», я и Миша. И мы все трое увлекались джазом. Мы всех знали. У Юрки отец был морской офицер, в хорошем чине, и у них дома стоял шикарный приемник. Хотя все глушили, но хороший приемник мог что-то поймать. Мы ему завидовали, и он всегда хвастал: вот, вчера слушал Армстронга. И однажды Мишка ему говорит: «А ты Чака Барроу слушал вчера?» – «А кто это такой?» – «Виброфонист, в Калифорнии», – говорит и называет какую-то группу. «Нет, не слышал». Ну и расстались. А я говорю: «Миша, откуда ты взял этого Чака?» – «Выдумал, чтобы он не воображал». А при следующей встрече Юрка говорит: «Слышал я вашего Чака. Ничего особенного. Вот Лейтон Хэмптон – вот это да».
А джаз был запрещен еще до войны. Это же «музыка толстых», буржуазная. Утесов для нас был предел – это ведь тоже джазовый все же оркестр.
Борис Алексеев:
Я не считаю, что стиляги были связаны с джазом. Они скорей были с танцами разными связаны – с буги-вуги там, рок-н-роллом. Это очень сложный танец был – что буги-вуги, что рок-н-ролл. Это было еще до фестиваля, тогда танцы, в основном, проходили под Москвой, и там можно было играть джаз. Ради бога, пожалуйста, пляши. Играли все, что хотели. А в Москве это было довольно рискованное дело. Иногда джаз играли на всяких студенческих вечерах, Вечера устраивали, приглашали музыкантов. Вот Леша Козлов там вовсю дудел – еще не джаз, а такой танцевальный джаз. Через эту танцевальную музыку те, кто заразился этим, перешли спокойно на джаз. Потому что это – совсем разные вещи, танцевальная музыка и джаз.
Джаз мало понимали. Считалось, что вся ритмичная музыка – это джаз и есть. То, что увидели в «Судьбе солдата в Америке» – это знаменитый фильм, откуда пошла My Melancholic Baby – считали, что это – джаз, суперджаз. Но под него можно было танцевать. Он был ритмичный. А джаз никто не играл тогда, танцевальную музыку играли. А джаз играли продвинутые люди – Леша [Козлов], Андрюша Товмасян. Вот он танцевальную музыку не играл. Ему сколько было – четырнадцать, пятнадцать лет, когда он начинал на трубе дуть своей. Но он начинал в каких-то клубах при ЖЭКах, в подполье, нелегально. Это потом уже поняли, что никуда от этой музыки не денешься, что надо взять ее под руководство, под управление. И пошли фестивали и прочее – но это значительно позже уже.
Анатолий Кальварский:
Джаз и стиль – это ничем не связано. Стиляги просто ходили танцевать, им хотелось знакомиться с девушками, уговорить кого-то, затащить на хату. К джазу это имело очень маленькое отношение. Были джазмены, и были стиляги. Это разные вещи абсолютно. Очень многие джазовые музыканты не были стилягами. Я не помню, чтобы музыканты были такими яркими стилягами. В основном, стилягами была молодежь, которая ходила на танцы.
Вадим Неплох:
Джаз был запрещен в СССР всегда. Все было запрещено. Особенно после сорок восьмого года. В те времена даже говорили, что «от саксофона до ножа – один шаг». Когда мы играли уже у Вайнштейна, на танцах, то нам разрешалось играть один фокстрот в отделении. А отделений было четыре. И, в основном, были всякие танцы советские. И то старались, чтобы фокстрот был медленный. Джаз – музыка свободных людей, я думаю, поэтому [он и был запрещен].
Играли нелегально, и нас гонял все время комсомольский патруль. Играли закрытые вечера в академии художеств, в доме архитектора, в академии наук устраивал вечера институт физики. В школах каких-то. Нам платили – с кого-то собирали, потом нас разгоняли. Иногда больше удавалось сыграть, иногда – меньше. Там мы играли то, что хотели. И это все делалось под видом вечера на седьмое ноября или первое мая. Какие-то праздники – день строителя. В научно – исследовательские институты нас приглашали. Я помню, в институт цемента.
Танцы были по субботам, и приходили на них очень интересные люди. Хорошо одетые. Много народу – не попасть было. Я помню даже, что Сережа Довлатов [однажды] ждал меня и контрабас мой нес, чтобы его пропустили.
Георгий Ковенчук:
Были «бродячие» джазы, которые появлялись на всяких студенческих вечеринках, подпольные. Они сначала играют разрешенные бальные танцы, потом – раз, и начинается. За ними тоже следили, выгоняли, вызывали милицию – преследовали их очень сильно. Джаз тогда был запрещен – «тлетворное влияние Запада». Был взят на вооружение Максим Горький, [очерк] «Город желтого дьявола», [который] он про Нью-Йорк написал, и джаз назвал «музыкой толстых». А у нас как-то проскальзывал джаз – например, Поль Робсон был такой, он пел некоторые «спиричуэлс», а аккомпанемент был джазовый. Кстати, в ресторанах джаз был вполне разрешен – ты приходил и мог слушать джаз. Видимо, в целях привлечения посетителей им разрешали. Потом, Хачатурян написал «Танец с саблями» – это тоже было похоже на джаз, и все слушали. Потом были оркестры – они назывались не джазы, а эстрадные оркестры. А потом постепенно все это пробивалось наружу, и, например, передавали эстрадную музыку по радио, и под конец ставили или фокстрот, или танго. Но фокстрот назывался «быстрый танец», а танго назывался «медленный танец». И потом вдруг однажды – я помню, не поверил своим ушам – вдруг диктор так быстренько произнес: «танго». Я думал, что ослышался. Утром прихожу в институт – да-да, слышали, сказали «танго». Это было такое событие: танго сказали, ой! Вот такое время было.
Рауль Мир-Хайдаров:
Колоссально был популярен Луи Армстонг и Дюк Эллингтон с его «Караваном». Элвис Пресли был у всех, конечно, на слуху. Но еще был Джонни Холидей – французский певец. Один в один они шли: Джонни Холидей – он американскую музыку перенес во Францию. И почему-то в нашем городе были записи Джонни Холидея. Все это было плохо записано, но нам казалось: какая чудесная музыка, какой ритм! И когда я сегодня слушаю на первоклассной аппаратуре музыку, думаю: вот хотя бы один раз те записи услышать в настоящем виде тогда! От всех этих вещей один «хыр-пыр» только был, но мы все это интуитивно дополняли.
К этому времени ребята из Актюбинска и из нашего поселка уже учились в Москве и в Ленинграде. Кому-то заказывали, у кого-то были родные. А в Актюбинске было очень много ссыльных с тридцать седьмого года. В техникуме, где я учился, все преподаватели были профессора и доценты. Можете себе представить – в дыре какой-то весь преподавательский состав – профессора и доценты. А это были ссыльные из Ленинграда. Естественно, они несли какую-то культуру. А джаз-то уже и до войны существовал. Кто-то присылал им [записи], среди них наверняка были музыканты, потому что очень рано у нас открылось музыкальное училище – это же на ровном месте не откроешь.
Я ходил на завод Сельмаш – он сейчас уже разрушился, – в заводской клуб. Танцы были – среда и пятница. В городе было, куда ходить: ОДК – областной дом культуры, шикарный, дворец культуры железнодорожников – в царское время построенный особняк, дворянское собрание было там. Там тоже были танцы. Но там обыкновенные эстрадные оркестры играли. А в клубе Сельмаша играл джазовый оркестр – и там яблоку негде было упасть – столько было народу. Билет не достать было. Туда ходили люди, интересующиеся джазом.
Если ты модно одевался, мог о музыке поговорить, знал десять-двадцать фамилий [музыкантов] или записи имел какие-то, ты мог приехать в любой город, ты приходил на танцы – и ты сразу попадал в свой круг. Так со мной было. Я приехал к бабушке в Оренбург, пошел в парк «Тополя». И я через полчаса был в компании родных мне людей. То же самое, после окончания техникума, в шестидесятом году я был в Алма-Ате. Красивейший город, танцплощадка в парке имени «28 героев панфиловцев». И за два дня я там перезнакомился со своими единомышленниками – стилягами. Они помогли мне приобрести в комиссионках нужные мне вещи.
Но тогда были танцплощадки, а танцплощадки – это невиданная форма общения, которую мы сейчас потеряли. «Золотая молодежь», рабочая молодежь, студенческая могли встречаться на одной площадке. Парень с завода мог пригласить девушку из института, что сейчас невозможно. Или там дочь секретаря райкома с тобой пляшет, ты ее приглашаешь, не зная, кто она. Вот мы застали такое время.
Анатолий Кальварский:
После фестиваля пятьдесят седьмого года [начались послабления], потому что тогда к нам попали первые музыканты из-за рубежа, приехал оркестр Мишеля Леграна, и этот приезд оказал огромное влияние на музыкантов. Это был очень интересный концерт, и те, кто на нем побывали, сохранили впечатления от этого концерта по сей день. В то время уже наступала «оттепель», и стало немного полегче. К этому времени появился в Ленинграде оркестр под управлением Иосифа Вайнштейна. Вайнштейн сумел собрать и зачислить на работу в отдел музыкальных ансамблей многих музыкантов, которых туда просто не брали, потому что считали стилягами. Многие музыканты относились к ним откровенно с завистью и ненавистью.
Но прошло некоторое время, и музыканты все-таки заставили себя уважать, потому что они действительно очень хорошо играли. И гости из других городов или даже других стран, кто приезжал в Ленинград, первое, что делали, это шли слушать этот оркестр. Половина зала там никогда не танцевали, а просто стояли и слушали. А работали они в основном во дворце культуры первой пятилетки, который ныне снесли.
Рауль Мир-Хайдаров:
Я начинал с буги-вуги и рок-н-ролла. Лет с четырнадцати половина пластинок, которые игрались у нас на танцплощадке в Мартуке, были мои, личные. Если я не приходил, то танцы были очень скучные и унылые. И это как-то влияло на культуру [районного центра] – новинки какие-то слушали, с джазом связанные. Новьё. А в пятьдесят седьмом году я поехал по бесплатному билету в Ташкент на каникулы. А в Советском Союзе в то время было только два пластиночных завода – Апрелевский и Ташкентский, который в войну перевели из Ленинграда. Только там печатались пластинки. А Ташкент далеко, самолеты тогда почти не летали. И когда я ехал, мне заведующая клубом, куда я носил пластинки на танцы, подходит и говорит: «Рауль, я слышала, что вы в Ташкент едете. Пожалуйста, продайте мне ваши пластинки». А я не понял сразу. «Почему я вам должен продать? Я их столько собирал». – «Ну, вы же едете в Ташкент, там – грампластиночный завод». И они у меня приобрели пластинки за сто с лишним рублей. Я эти деньги держал, как святые. И перед глазами стоит центральный магазин грампластинок в Ташкенте, напротив оперного театра. И я на все – и еще у меня была копейка какая-то – привез пластинок. И меня ждали, как не знаю, кого – ну, как сейчас Диму Билана ждут в аэропорту.
Виктор Лебедев:
Джаз своеобразно стыдливо просачивался сквозь культурную жизнь [СССР]. Например, Цфасман, который был талантливым пианистом и талантливым композитором, написал пародию на американскую жизнь – спектакль «Под шорох твоих ресниц», разоблачая «продажный американский стиль шоу-бизнеса». Но под это дело, под эту пародию он написал много интересных джазовых композиций. И под видом ироничного разоблачения всего вот это было. А Утесов пел песню американского безработного нищего: «Дайте мне хоть что-нибудь». А оркестр свинговал, и все любили эту песню безработного, потому что это была американская музыка. А потом уже даже такие столпы советской музыки, преданные партийцы – композиторы, которые делали карьеру через обком партии, через ЦК партии, воспользовались достоянием стиляг. Я помню, как [советский композитор Андрей] Петров написал для фильма «Человек-амфибия» песню «Эй, моряк, ты долго плавал» – такая смешная пародия на блюз, на мой взгляд довольно безвкусно сделанная. Но примкнули к этому, когда можно было.
В то время халтурами называли, где играл какой-то модный состав. И прорастали очень талантливые джазовые музыканты. Квартеты, квинтеты разъезжали по вечеринкам. И как только мы попадали в эти институты – бог его знает: через форточку пролезали в женский туалет, чудеса творили, чтобы попасть. Институты, устраивавшие такие вечеринки, были очагом вот этого всего «разврата» с точки зрения властей.
Наше поколение стиляг настоящих рок не затронул. [Для этого поколения] иконой был джаз. И когда появились «Битлз», стиляги, люди влюбленные в джаз, даже несколько не приняли это, так как приняло уже другое поколение, на десять лет моложе нас, тот же Мишка Боярский, они уже стали битломанами и к джазу относились достаточно прохладно.
Александр Петров:
Мне почему-то понравилась музыка в стиле кантри. Однажды в Серебряном бору, на третьем пляже – он был очень моден тогда, там собиралась «золотая молодежь» или как ее назвать? – смотрю – на банджо кто-то играет. Подошел, смотрю – горбатенький музыкант. Впоследствии оказалось, что его зовут Николай Базанов. Он тоже любил так одеваться и играл кантри-музыку. Но также и джаз он играл. Правда, очень известным он не стал. Потом, однажды, находясь в ГУМе, я подумал: а почему это я – штатник, и не приемлю джаз? И я купил две первых джазовых пластинки: одна была польская, Кшиштоф Комеда, а вторая – наш джаз. И с тех пор я слушал джаз, слушал и стал его понимать. Ездил на всевозможные фестивали, которые были доступны – внутри, естественно, СССР. Джаз был в загоне, под прикрытием комсомола – он его курировал и не давал выходить за рамке.
Музыка на ребрах
Сначала джаз пришел в СССР на патефонных пластинках, привезенных из-за границы. Но таких пластинок было крайне мало, и по мере того как в тридцатые годы Советский Союз все больше отгораживался от западного мира, их становилось еще меньше. Что-то изменилось сразу после войны, когда дошедшие до Германии солдаты и офицеры привезли с собой, среди всевозможных трофеев, еще и патефонные пластинки. Но это по-прежнему была капля в море: людей, посмотревших «Серенаду Солнечной Долины» и захотевших слушать подобную музыку, в СССР было гораздо больше, чем привезенных из Европы пластинок.
И тогда в СССР появляется уникальный музыкальный носитель: пластинки, сделанные из старых рентгеновских снимков. Их называли записями «на костях», «на ребрах», просто «ребрами» или даже «скелетом моей бабушки». Такие «пластинки» скрипели, шипели но хоть в каком-то виде позволяли услышать западный джаз в ситуации, когда в СССР настоящие европейские и американские пластинки не продавались, а привезенные из-за границы были большой редкостью.
Это были самые настоящие рентгеновские снимки: на них были видны грудные клетки, позвоночники, суставы. В середине делалась маленькая круглая дырка, края слегка закруглялись ножницами – и такую пластинку можно был слушать на обычном патефоне. Почему для изготовления гибких пластинок выбрали именно рентгеновские снимки? Рентгенограммы были самым дешевым и доступным материалом. Их можно было дешево купить, а то и получить бесплатно в поликлиниках и в больницах.
Начиная с первых послевоенных лет в крупных городах СССР – особенно, в Москве и Ленинграде – создается целая «индустрия» по изготовлению и продаже «пластинок на костях». Продавались они, естественно, на «черном рынке», и, как рассказывают очевидцы, порой пластинки содержали сюрпризы: через несколько секунд запись американской музыки могла прерваться, и кто-то с издевкой, на чистом русском языке спрашивал: «Что, музыки модной захотелось послушать?» Потом следовало еще какое-то количество непечатных выражений в адрес любителя иностранной музыки, и на этом запись заканчивалась.
Несколько лет индустрия «музыки на костях» существовала, избегая репрессий со стороны властей, но в середине пятидесятых они наконец наступили, и многие изготовители пластинок на рентгенограммах отправились в лагеря. Но некоторые продолжали заниматься их изготовлением. И только к концу пятидесятых, когда появившиеся в продаже в начале десятилетия катушечные магнитофоны стали, наконец, общедоступными, пластинки «на костях» ушли в небытие.
Но сам факт существования подпольной «индустрии», выпускающей пластинки «на ребрах» и тиражирующей таким образом практически любую музыку, значил достаточно много. Тиражирование записей, не доступных в советских магазинах, продолжалось с помощью магнитофонов все шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые годы, пока исполнители не получили возможность легально тиражировать свои записи на пластинках и компакт-дисках.
Борис Павлинов:
Мы восполняли то, что не доходило до ума людей, которые управляли порядком в России. Пришлось дополнять, возмещать потери.
Рентгеновских снимков во всех поликлиниках, во всех больницах было навалом. Их было предписано уничтожать, поскольку они были огнеопасны. Но вместо уничтожения они нам их передавали, а мы им, так сказать, давали вторую жизнь. Они даже рады были – с большой благодарностью [нам их отдавали] – мы освобождали их от необходимости выносить их во двор и сжигать.
Были специальные звукозаписывающие аппараты. Они имели внешний вид патефона, только вместо мембраны – вместо иголки – там вставлялся резец, и он при вращении диска вел нарезку музыкальную. Такую же, как на обыкновенных пластинках. Если в лупу посмотреть – это один к одному. В Германии ими пользовались на нормальных пластиночных фабриках, чтобы не сразу отливать пластинки под прессом, а чтобы предварительно прослушать исполнение – где-то, может быть, сделать замечание музыканту или солисту, комиссия прослушивала. Для этого в единственном экземпляре делалась нарезка – два, три экземпляра. Пока не утвердят, что именно так должен диск звучать. А потом уже делалась нормальная пластинка. Это – промежуточный этап.
Кто-то привез [звукозаписывающий аппарат] после войны, кто-то здесь уже, сняв чертежи, сам изготовил. Я знал трех человек, которые их имели. Но, конечно, были еще, которые пытались изготовить кустарным образом – может, не очень качественно. Поэтому некоторые не могли записать так, чтобы можно было слушать. Поэтому там были шипы и хрипы, и все что угодно. Но если аппарат сделан качественно, то [пластинка, записанная на нем] ничем не отличается по звучанию от настоящей пластинки.
Копировались обычные пластинки, но можно было еще самому с микрофона что-то сыграть, спеть. Тогда вместо пластинки включался микрофон.
[Цена различалась] в зависимости от качества, от пленки и от того, откуда записано, и кто желал иметь – кто-то не считался с ценами. Были и по пять рублей, и по пятнадцать, и особый заказ, когда одна пластинка делалась, чтобы только у одного человека была, тогда конкретный договор был. Но это уже у перекупщиков, которые на рынке назначали свою цену.
Преследовали нас. Сажали, по пять лет давали. От трех до пяти. Тут надо было очень осторожно – знать, с кем имеешь дело. А то они умудрялись как – подсылали в виде желающего приобрести пластинку своего осведомителя, потом осведомитель докладывал где, что и как. Нужно было и адреса менять, и узнавать предварительно через кого-то, кто бы поручился за того, кто приходит. Все сложно было.
Мы продержались с конца сорок шестого, весь сорок седьмой, сорок восьмой, сорок девятый и немножко в пятидесятом. И уже тогда нас изловили. Успели, так сказать, снабдить в большом количестве [пластинками]. И эти пластинки прозвучали на всю Россию. Очень многие их имели, знали, что есть такая возможность, и как-то доставали. Наша «студия звукозаписи» без простоя работала.
В конце пятидесятого прошли по городу повальные аресты. И потом от трех до пяти люди отдыхали в кавычках, занимались другой работой – лесоповалом там под винтовками. А когда освобождались, кто-то возвращался к своей деятельности, восстанавливал, а кто-то занимался чем-то другим уже. Я аппарат уже не приобретал, а только помогал [человеку], который восстановил все, что было, и даже усовершенствовал. Был такой Руслан Богословский.
[Тиражировали] джазовые вещи, поскольку джаз был запрещен тщательно и полностью. Или играл оркестр в подвале ночью для записи, или с пластинок иностранных джазовые мелодии – джазовую классику привозили. Это во-первых. А во-вторых – танцевальные вещи были – танго, фокстроты. Именно то, чего не было в нормальных советских магазинах. Ведь в советских магазинах в те времена были либо эти пошлые дурные комсомольские гадости, которые внедрялись, внедрялись – но бесполезно. Либо частушки деревенские, либо бальные танцы, которые тоже абсолютно никому не нужны были. Магазины пустовали, скучали продавцы, все шло именно таким подпольным путем.
[Стиляги] очень широко пользовались нашей продукцией. Она им помогала не только вечерами танцевать у себя в квартирах. Эти пластинки только им и были по вкусу – джаз. Занимались они даже перекупкой на Невском, обменом и так далее. Студенты и «бездельники», как их раньше называло правительство – которые не работали, не учились, а занимались перекупкой, в иностранцами имели контакты. В то время это было очень важно для них – они приобретали и одежду, занимались покупкой валюты. Кто чем занимался – стиляги очень разносторонние были люди. Я [со стилягами] общался очень тесно, потому что пластинки шли от нас к ним в большом количестве, знал их, но «бездельником» не было, потому что изготовление пластинок занимало очень большое количество времени. Взаимным уважением мы пользовались.
Борис Алексеев:
Записи «на костях» – замечательное советское изобретение. У меня был приятель – его окна выходили прямо на двор американского посольства. Смотрел себе и делал записи «на костях». По-моему, пять рублей каждая запись. Но если ты приносил пленку (а пленку надо было где-то достать, обычно где была ненужная пленка? в поликлиниках), то тебе он бесплатно одну делал. Она довольно хорошо играла, качество хорошее. Где-то они у меня до сих пор хранятся, но уже не на чем играть – нет у меня на семьдесят восемь оборотов проигрывателя. Хранятся на память. Продавались они также в ГУМе – там был отдел музыкальный, и какие-то люди там стояли, продавали по пять рублей. А также был тогда Коптевский замечательный рынок, там по воскресеньям можно было купить абсолютно все, что угодно. И все это было сделано на «ребрах». А можно было и [настоящую пластинку] купить, но это стоило больших денег. Потому что запрещено было ввозить любые западные пластинки. Сейчас говорят, что запрещали только [Петра] Лещенко и Вертинского, но и любую западную пластинку отбирали. Но наш народ может провезти все, что угодно. Так что, провозили несмотря ни на что. В основном, это были дипломаты, а также спортсмены. Я помню, у [футболиста] Всеволода Боброва мы брали переписать пластинки.
Виктор Лебедев:
Доставали записи «на ребрах» – на рентгеновских снимках, ездили на Обводный канал на барахолку, покупали там все эти записи, они выдерживали три-четыре исполнения на жутких этих патефонах. Но парадоксальным образом, несмотря на железный занавес, мы ведь знали практически всю американскую классику джаза. Мы знали и Бенни Гудмана, и оркестр Гленна Миллера, и Чарли Паркера, и Оскара Питерсона, и Диззи Гилеспи, и бибоп, и диксиленды, и все американские мелодии популярные. Мы знали все ньюпортские фестивали джаза, все новинки, все течения. При отсутствии информации мы обладали фундаментальными знаниями. Когда я приехал в первый раз в Америку, выяснилось, что мы ничего не пропустили. Вот этот пласт культуры знали досконально. Как грибы сквозь асфальт прорастают, так все это доходило до нас. Обменивались какими-то пластинками, записями. Те редкие люди, кто бывал на Западе, что-то привозили.
Олег Яцкевич:
Мой приятель – пианист доморощенный, играл с музыкантами. И он где-то достал пластинку, и мы пошли к девушкам с этой пластинкой. Чтобы там ее проиграть, потанцевать. Пластинка – натуральная американская. С одной стороны – Билли Мэй, трубач, он исполнял «My Darling Suzette» – «Моя дорогая Сюзетт», а что с другой уже не помню. И вот в разгар нашей вечеринки – там какое-то винцо, музыка играет – входит папа девушки. Такой богатый еврей, артельщик. Он послушал и говорит: «Сколько стоит эта пластинка?» – «Это очень дорогая пластинка. Мне ее дали просто на вечер». – «Ну, сколько она стоит?» – «Двести пятьдесят рублей». – «О чем вы говорите?» – Вынимает деньги, и дочке: «Это тебе, козочка». Мы обалдели: чтобы за пластинку – двести пятьдесят рублей? Причем, если бы там было что-то действительно такое. А тут – Билли Мэй, хороший музыкант, но не более того: мы уже могли отделить Эллу Фитцджеральд от Билли Мэя. Или даже не двести пятьдесят, а четыреста. Нам это казалось заоблачно. Мы выходим, и я говорю: вот это – жизнь. Взять и купить пластинку за четыреста рублей.
Не было еще магнитофонов. А эти записи на костях были ужасающего качества. Это – не музыка, это – пародия на музыку. Сейчас, если я что-то включаю, мне сын по слуху говорит: убери низкие [частоты], пожалуйста. А там – ни низких, ни высоких, идет такая мешанина, с трудом отличаешь.
Борис Дышленко:
Первое время были пластинки на рентгеновских снимках, а потом все обзавелись магнитофонами. Это были огромные тяжелые штуки – «Днепр-11». Они были не очень удобными, потому что в них был такой пассик – резиновая штучка от одного колесика к другому, – он быстро растягивался, и начинал плыть музыка. Записывали музыку и с «глушилок», но старались, конечно, записать с пластинок, привезенных. У всех по-разному происходило. Кто-то развивался и начинал собирать настоящий хороший джаз, серьезный. А кто-то ограничивался довольно примитивной музыкой.
Борис Павлинов:
Пока не придумали магнитофоны, эти пластинки были единственным [средством распространения] музыкальной культуры. А магнитофоны практические убили «ребра» тем, что они удобнее были, переписывали друг у друга. Магнитофоны очень быстро заполонили молодежную среду, и поскольку они были долговечнее – пока пленка не порвется, играй сколько угодно, взад – вперед перематывай. И потом еще записать на ленту можно было на получасовую кассету, на сорокапятиминутную кассету. Включил, нажал на кнопочку – и уже сорок пять минут не подходи к магнитофону, песни друг за другом идут. А пластинку ведь каждый раз надо ставить (речь идет о старых пластинках, где на одной стороне была записана одна композиция – В. К.). Удобнее магнитофоны были, и они постепенно вытеснили из обращения эту вот рентгеновскую запись. И она на корню уступила место следующей технике.
«Радио-диверсия»
В ситуации, когда джаз был практически запрещен, еще одной – кроме пластинок «на костях» – возможностью его услышать были «вражеские голоса» – иностранные радиостанции, передававшие в эфир джазовые программы. Естественно, советские власти пытались с этим бороться: передачи Би-Би-Си и «Голоса Америки» глушились. В начале пятидесятых в СССР было прекращено производство радиоприемников с диапазоном коротких волн меньше 25 метров, и в результате станции, вещающие на волнах 19, 16 и 13 метров, практически не глушили. Благодаря этому счастливые обладатели выпущенных раньше приемников имели возможность, например, слушать передачи Би-Би-Си – «Rhythm is our Business», «Like Music of Forces Favorites»,”Listeners’ Choice».
В несколько привилегированном положении находились и те, кто хоть в какой-то степени понимал английский язык: например, музыкальную передачу «Голоса Америки» «Music USA» на английском языке, как вспоминает Алексей Козлов, «по-настоящему не глушили, только иногда «подглушивали»».
«Голос Америки» (Voice of America) – радиостанция, организованная правительством в США в рамках Агентства военной информации в 1942–м году, – с началом «холодной войны» превратилась в пропагандистский инструмент в войне двух миров: коммунистического и капиталистического. С 1947–го года «Голос Америки» стал вещать не русском, а через два года советские власти начали применять «глушилки».
Для стиляг и всех, кто интересовался джазом, самыми ценными на «Голосе Америки» были именно музыкальные программы. В 1955–м году начинает выходить в эфир программа «Music USA» (другое название – «Час джаза (Jazz Hour)»). Несколько десятилетий бессменным ведущим программы были Уиллис Коновер (Willis Conover). Несмотря на возражения Конгресса, который поначалу возражал против того, чтобы на государственной радиостанции выходила передача о «фривольной» музыке, «Час джаза» все-таки вышел в эфир. В начале каждого выпуска звучала мелодия Дюка Эллингтона «Take A Train». Когда программа была на пике своей популярности, ее аудитория доходила до 30 миллионов человек, большинство из которых находились за пределами США, так как по закону «Голос Америки» мог вещать только на другие страны. И какая-то – пусть и небольшая – часть этой аудитории приходилась на Советский Союз.
Ведущего программы, выходившей шесть раз в неделю, Уиллиса Коновера (1920–1996) позже назовут «человеком, выигравшим холодную войну с помощью музыки», и какая-то доля истины в этих словах, наверное, есть. Недаром люди на огромной территории от Восточной Германии до Владивостока спешили к своим приемникам, чтобы услышать первые аккорды «Take A Train» и произнесенные приятным баритоном слова: «Это Уиллис Коновер из Вашингтона, передача «Час джаза» на «Голосе Америки». Этот высокий и угловатый мужчина в роговых очках избегал говорить о политике в своих передачах, но называл джаз «музыкой свободы», и для слушавших его передачу советских стиляг джаз действительно был символом той свободы, которой в своей стране у них не было.
Борис Алексеев:
Основной источник, конечно, был Уиллис Коновер. Это был великий просветитель джаза. [Чтобы его слушать], надо было немного понимать английский, но он специально говорил так медленно, чтобы было понятно даже полностью необразованному человеку. Может быть, смысл и не поймешь, но было понятно, кто играет, кто поет, какой оркестр. Уиллис Коновер – американцы его запустили здорово. Многие, я знаю, мои друзья его каждый вечер слушали и в тетрадку записывали: сегодня, в понедельник игралось то-то и то-то, вторник – то-то и то-то. Все это серьезно было. А остальных всех глушили – из Европы: Би-Би-Си и прочих. Еще из Швейцарии была джазовая передача, но она была как нынче на «Свободе» – пятнадцать минут. А что такое пятнадцать минут? «Здравствуйте, до свиданья, вы слушаете джаз».
Олег Яцкевич:
А у нас же не было телевидения, приемник был у одного из двадцати – такой приемник, на котором что-то можно было поймать. Мы в воскресенье бежали к кому-нибудь, чтобы послушать получасовую передачу – «Рейкьявик» называлась. Полчаса джазовой музыки. И там Сара Вонг, и Армстронг, и Диззи Гилепси.
Георгий Ковенчук:
У меня были друзья – музыканты, которые меня приучили к джазу. Раньше для меня джаз был как будто на один мотив – как люди, не интересующиеся симфонической музыкой, для них все симфонии на один мотив, и они не любят их слушать: «Опять завели эту симфонию!» – говорят. – «Выключите!» Так для меня был джаз. Я уже тогда одевался модно, но еще джаз тогда не воспринимал и был очень удивлен, когда мои модные приятели, услышав по радио джаз – по нашему радио не передавали, но джазовые меломаны – и я тоже потом стал таким же меломаном – знали, когда на коротких волнах или на средних будет передача. И многие даже специально бежали домой, чтобы слушать. А в начале я не разбирался. А они говорили: «О, вот это – Стэн Кэнтон, или Бенни Гудман, или Эллингтон». Я думал, что они просто на меня хотят произвести впечатление, потому что я не видел разницы. А потом я тоже стал отличать и тоже торопился [домой к приемнику]. Помню, были такие из Хельсинки получасовые джазовые передачи – в воскресенье, в двенадцать-тридцать. Тогда я впервые услышал «Стамбул-Константинополь» – на меня произвело большое впечатление.
Виктор Лебедев:
Наши приемники почти ничего не ловили, но ловили часовую передачу из Финляндии. Она ретранслировала новинки американской джазовой музыки. И когда я услышал Джорджа Шеринга исполнение песни «Lullaby», я тут же подобрал ее, выскочил на Невский в выпученными глазами: я тут бибоп Шеринга слышал потрясающий, и это было таким событием для Невского проспекта.
Ближе к концу пятидесятых часть стиляг перешли с джаза на более модный тогда на Западе рок-н-ролл. Популярными в СССР были композиции Билла Хейли (в особенности ставшая после классикой рок-н-ролла «Rock around the clock»), Элвиса Пресли, Чака Берри, Литтл Ричарда, Бадди Холли.
Официальные же власти рок-н-ролл не устраивал так же, как и джаз, и они, вместе с представителями официальной культуры время от времени сокрушались состоянием современной музыки в СССР.
«У нас еще слабо осуществляется контроль над музыкой, звучащей в клубах, кино и других общественных местах», – возмущался композитор Фэре на совещании работников искусства в Куйбышеве в 1958–м году. – «А чего стоит пытка пошлейшими пластинками в домах отдыха, санаториях, целиком отданных на откуп культурникам. А сколько у нас нарушителей общественной тишины, с которыми не ведется борьбы, выставляющих в окнах своих квартир ревущие на всю улицу радиолы. Плохо обстоит дело с продажей долгоиграющих пластинок. Чувствуется, что пластинки с серьезной музыкой директора магазинов рассматривают как принудительный ассортимент. Их мало, и их ассортимент не пополняется годами. Отдавая должное легкой танцевальной музыке, мы не можем мириться с нередко наблюдаемым среди нашей молодежи равнодушием к серьезной, оперной, симфонической музыке».
В июне того же года вышло Постановление ЦК КПСС «О крупных недостатках в репертуаре и распространении граммофонных пластинок», в котором говорилось, что «значительную часть выпускаемых в стране пластинок составляют записи слабых в художественном отношении музыкальных сочинений, а нередко и проникнутых чуждыми настроениями».
Но запретительными мерами и тотальным контролем желаемой цели добиться не удавалось: в стране все большее распространение получали катушечные магнитофоны, и советские меломаны переписывали друг у друга интересующую их музыку, компенсируя официальную культурную политику.
Главные музыканты стиляг
Наряду с Дюком Эллингтоном, Чарли Паркером, Майлзом Дэвисом и Джоном Колтрейном, Луи Дэниел «Сэтчмо» Армстронг (Louis Daniel «Satchmo» Armstrong) оказал наибольшее влияние на развитие джаза и его популяризацию во всем мире.
Луи родился в бедном негритянском районе Нового Орлеана, рос в неблагополучной семье: мать была прачкой, подрабатывавшей проституцией, а отец – чернорабочим, который к тому же рано ушел из семьи. Луи с детства работал: развозил уголь, продавал газеты.