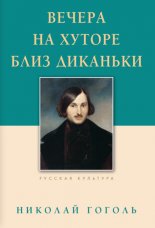История Рима от основания Города Ливий Тит
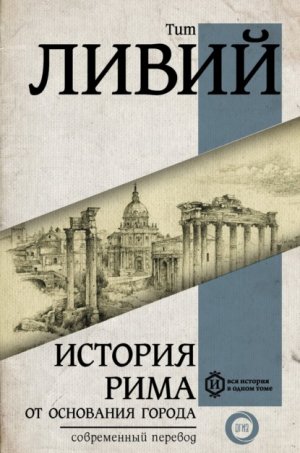
(4) Был ли этот резкий переход вызван нездоровым климатом или чем-то иным, но только суровую зиму сменило тяжкое, чумное лето. (5) Поскольку не разглядеть было ни причины, ни конца этому бедствию, сенат решил обратиться к Сивиллиным книгам. (6) Тогда впервые в городе Риме был устроен пир для богов[565]: и дуумвиры, ведавшие священнодействиями, застелив три ложа, в течение восьми дней со всей возможной тогда роскошью угощали Аполлона с Латоной[566], Геркулеса и Диану, Меркурия и Нептуна[567], пытаясь умилостивить их. (7) Этот обряд отправляли также и сами граждане. По всему городу растворяли двери, выставляли имущество на открытый воздух и пользовались всем, не разбирая своего и чужого, оказывали гостеприимство знакомым и незнакомым, приглашали чужестранцев, приветливо и ласково беседовали даже с недругами. Прекратились ссоры и тяжбы, (8) на эти дни сняли кандалы с узников и потом уже сочли кощунственным снова надеть их на тех, кому боги помогли подобным образом[568].
(9) Между тем под Вейями три войны слились в одну, и страх римлян умножился: внезапно на помощь осажденным подошли капенцы и фалиски, так что пришлось, как и в прошлый раз, с двух сторон сдерживать на своих укреплениях удар трех армий. (10) Но еще свежо было в памяти осуждение Сергия и Вергиния: из того самого большого лагеря, откуда в прошлый раз тщетно ожидали подмоги, в тыл капенцам были выведены войска, как только враги развернулись против римского вала. (11) Разгоревшаяся битва посеяла страх и среди фалисков, врагов охватила паника, и удачная вылазка из лагеря обратила их в бегство. Победители пустились преследовать бегущих и учинили небывалую дотоле резню. (12) А через короткое время на уже рассеявшихся врагов вдруг наткнулись римские воины, разорявшие капенские поля, – они-то и добили тех, кто спасся после поражения. (13) Большие потери понесли и вейяне – как только началось бегство, городские ворота заперли, и все, кто остался снаружи, были перерезаны.
14. (1) Вот что произошло в течение этого года. Уже приближались выборы военных трибунов, и за их исход патриции беспокоились куда больше, чем за исход войны. Их страшило, что высшую власть придется делить с плебеями; мало этого – простой народ мог и совсем завладеть ею. (2) И вот к соискательству должностей начинают заранее готовиться славнейшие мужи, обойти которых, по расчетам патрициев, побоялись бы из почтения. При этом и остальные патриции, как если бы все они домогались должностей, усердно взывали не только к людям, но и к богам, объявляя кощунственными результаты выборов последних двух лет. (3) Страшная зима прошлого года, твердили они, как видно, была божественным предзнаменованием, а недавно были явлены уже не только знамения, но и их исход (4) в виде обрушившегося на поля и на Город мора; тогда уже не приходилось сомневаться, что боги гневаются, и обратились к книгам судеб, и они велели для обуздания мора умилостивить богов. Богам возмутительно, что на освященном ими народном собрании почести достаются кому попало и нарушаются естественные различия между людьми. (5) И вот, пораженные не только достоинством претендентов, но и доводами благочестия, римляне избрали военными трибунами с консульской властью одних лишь патрициев, правда самых заслуженных: Луция Валерия Потита в пятый раз, Марка Валерия Максима, Марка Фурия Камилла во второй раз, Луция Фурия Медуллина в третий, Квинта Сервилия Фидената во второй, Квинта Сульпиция Камерина во второй [398 г.]. (6) При этих трибунах под Вейями не произошло почти ничего достойного упоминания, все силы тратились на грабежи. (7) Командующим в войне против Фалерий был назначен Потит, против Капен – Камилл; оба собрали огромную добычу, а из того, что можно было извести огнем и мечом, не оставили в сохранности ничего.
15. (1) Между тем было объявлено о многих знамениях, из коих большинству не поверили и ими пренебрегли, ибо, во-первых, каждое из них было явлено всего одному свидетелю и, во-вторых, из-за враждебности этрусков не нашлось гаруспиков[569], которые знали бы, как отвести беду. (2) Только одно из них привлекло внимание: вода в озере из священной Альбанской рощи, в отсутствие дождей или по другой причине, которая развеяла бы чудо, вдруг поднялась на небывалую высоту. (3) Были отправлены послы к Дельфийскому оракулу, дабы вопросить, что пророчат боги этим знамением. (4) Но толкователь судеб объявился не столь далеко – то был некий старик вейянин[570]. Римские часовые и этрусские караульные осыпали его насмешками, а он, распевая подобно кудеснику, возвестил, что римлянам не овладеть Вейями, покуда не уйдет вся вода из озера Альбанского. (5) Сначала на это не обратили внимания, как на нелепую выходку, но вскоре начали обсуждать повсюду, и однажды какой-то римский часовой окликнул одного из горожан, проходившего неподалеку, и спросил, кто был этот старик, что столь околичио вещал об Альбанском озере (из-за продолжительности войны осаждающие стали вступать в разговоры с осажденными). (6) Услышав от вейянина, что то был гаруспик, богобоязненный воин попросил позвать прорицателя, ссылаясь на то, что хочет, если тому будет угодно, посоветоваться об искуплении за какое-то ему одному явленное знамение. (7) И вот, когда оба без оружия и без страха отошли от своих укреплений на довольно большое расстояние, римский юноша, превосходивший силой немощного старца, схватил его на глазах у всех и при смятении этрусков потащил к своим. (8) Он был доставлен к полководцу, а потом отослан в Рим, к сенату. Когда у него принялись допытываться, что он говорил насчет Альбанского озера, старик ответил: (9) уж верно, разгневались боги на вейян в тот день, когда внушили прорицателю разгласить роковую тайну погибели отечества. (10) Итак, он не в силах отречься от того, что напророчил по божественному наитию, – ведь умолчать о том, что богам угодно открыть, пожалуй, столь же нечестиво, как разболтать сокровенное. (11) Вот что заповедано в пророческих книгах, вот что говорит этрусская ученость: если разольются воды альбанские, даруется римлянину над Вейями победа. Пусть он, обряды сотворив, спустит воду; пока же этого не произойдет, не оставят боги стен вейских. Дальше объяснялось, в чем состоит ритуал опускания вод[571]. (12) Но сенаторы сочли старика болтуном, не заслуживающим доверия в столь важном деле, и решили дождаться послов с ответом пифийского оракула.
16. (1) Прежде чем послы вернулись из Дельф и стало известно, каковы должны быть искупления на альбанское чудо, в должность вступили новые военные трибуны с консульской властью: Луций Юлий Юл, Луций Фурий Медуллин в четвертый раз, Луций Сергий Фиденат, Авл Постумий Регилльский, Публий Корнелий Малугинский, Авл Манлий [397 г.]. (2) В этот год появился новый враг – жители Тарквиний[572]. Было очевидно, что римляне завязли одновременно во многих войнах – с вольсками у Анксура, где шла осада крепости, с эквами у Лабиков, где римская колония подверглась нападению, да к тому же еще с Вейями, фалисками и Капенами; мало этого, в самом Городе обстановка была крайне неспокойной из-за стычек патрициев с плебеями. (3) В Тарквиниях решили, что пора воспользоваться всем этим для нанесения удара, и послали легковооруженные отряды для грабежа римской земли. Расчет был на то, что римляне или снесут эту обиду и оставят ее неотмщенной, дабы не обременять себя новой войной, или пустятся за ними с маленьким и слабым войском. (4) Римляне были скорее разгневаны, чем встревожены произведенным тарквинийцами разором. Поэтому дела не откладывали, но и готовились к нему без особого тщания. (5) Авл Постумий и Луций Юл не стали объявлять принудительного набора – этому вдобавок противодействовали народные трибуны, – а горячими призывами собрали отряд почти из одних добровольцев. Пройдя окольными тропами через землю Цере, они обрушились на тарквинийцев, когда те возвращались от своих грабежей, обремененные добычей, (6) многих убили, отняли весь обоз и, прихватив награбленное в их земле, возвратились в Рим. (7) Был назначен двухдневный срок, в течение коего хозяева могли опознать свое имущество, на третий день невостребованное (по большей части имущество самих врагов) было распродано, а вырученные от этого деньги разделили между воинами[573].
Исход остальных войн, в первую очередь с Вейями, оставался по-прежнему неясен. (8) Римляне уже изверились в человеческих усилиях и уповали лишь на судьбу и богов, когда вернулись послы из Дельф. Привезенный ими ответ оракула полностью совпадал с пророчеством пленного предсказателя: (9) «Римлянин! Остерегись воду альбанскую в озере держать, остерегись и в море ее спускать. Да растечется она по полям, да оросит их, да исчерпается, по рекам разлившись. (10) Тогда и воюй стены вражьи, да помни: прорицание своей победы ты получил из того самого города, который столько лет осаждаешь, ныне этот оракул лишь подтвердился. (11) По свершении рати пусть победитель принесет в мой храм богатые дары и восстановит обычайные отеческие священнодейства, что ныне небрежны».
17. (1) С этого момента пленный прорицатель удостоился большого уважения, а военные трибуны Корнелий и Постумий стали вместе с ним совершать искупительные жертвы по случаю альбанского знамения, чтобы надлежащим образом умилостивить богов. (2) Только тогда обнаружилось, где именно допущено нерадение о священных обрядах и нарушен порядок торжества, на что указывали боги. Как оказалось, дело было лишь в том, что должностные лица избраны были огрешно и о Латинских торжествах и жертвоприношении на Альбанской горе возвещено было не надлежащим образом[574]. (3) Искупить все это можно было лишь отставкой военных трибунов, проведением ауспиций, назначением интеррекса (4). По решению сената так и было сделано. Интеррексов назначили сразу трех: Луция Валерия, Квинта Сервилия и Марка Фурия Камилла. (5) Но народные трибуны ни на миг не прекращали подстрекать собрание, пока не было решено, чтобы большинство военных трибунов выбиралось из плебеев.
(6) В это время в храме Волтумны[575] сошлись представители Этрурии. Когда капенцы и фалиски принялись требовать, чтобы все этрусские общины совместными усилиями вызволили Вейи из осады, им ответили так: (7) раньше этруски отказывали вейянам потому, что не след просить помощи у тех, у кого не спросили совета в таком важном деле. Теперь же их понуждают отказаться уже собственные интересы: (8) в этой области Этрурии[576] осела большая часть невиданного племени; эти новые поселенцы – галлы, с которыми нет ни прочного мира, ни открытой войны. (9) Тем не менее, принимая во внимание кровные узы, славное имя и нынешние несчастья соплеменников, этруски готовы помочь им, не препятствуя добровольцам из своей молодежи отправиться на вейскую войну.
(10) В Риме разнеслась молва, будто вражеские ряды пополнились множеством добровольцев, и внутренние раздоры, как это обычно и бывает, отступили перед лицом общего страха.
18. (1) Прерогативные центурии[577] с одобрения патрициев избрали военным трибуном Публия Лициния Кальва, хоть он этого и не домогался. Умеренность сего мужа была испытана во время первого прохождения им этой должности; кроме того, он был уже очень стар. (2) Да и вообще стало ясно, что переизбранными окажутся все члены прошлогодней коллегии: Луций Тициний, Квинт Манлий, Публий Мэний, Гней Генуций, Луций Ацилий [396 г.]. Прежде чем трибы в соответствии с законом стали называть имена избранных, Публий Лициний Кальв с разрешения интеррекса произнес такую речь: (3) «Квириты! Памятуя о последнем прохождении нами этой должности, вы, как я вижу, и на будущий год хотите сохранить столь необходимое нам теперь единство. (4) Однако мои сотоварищи с прошлых выборов не изменились и даже стали достойнее благодаря приобретенному опыту, а меня вы видите уже не прежним. От меня осталась лишь тень да имя Публия Лициния: сила покинула члены, острота зрения и слуха притупилась, память ослабла, бодрость духа сникла». (5) Взяв за руку своего сына, он продолжал: «Вот вам юноша, являющий собою образ и подобие того, кого вы некогда первым из плебеев произвели в военные трибуны. Я воспитал его – вручаю и посвящаю его теперь государству, чтобы он заменил меня. Мне эта должность была предоставлена помимо моего желания, он же домогается ее – так пусть же она ему и будет поручена. Присовокупляю к его соискательству свои за него просьбы». (6) Просьба отца была уважена, а его сын Публий Лициний объявлен военным трибуном с консульской властью вместе с теми, кого мы перечислили выше.
(7) Трибуны Тициний и Генуций отправились против фалисков и капенцев. Поскольку они вели войну, руководствуясь более порывом, нежели разумом, то и попали в засаду. (8) Генуций искупил свою опрометчивость достойной гибелью, сражаясь впереди всех и пав одним из первых, Тицинию же удалось собрать на высоком холме часть бежавших в панике воинов и восстановить боевой порядок, но он так и не решился вновь встретиться с противником на открытом месте. (9) Не столько страшны были жертвы, сколько позор, но именно он чуть не привел к тяжкому поражению. Ужас охватил не только Рим, куда эта весть докатилась сильно преувеличенной, но также и лагерь под Вейями. (10) Когда там распространился слух, будто полководцы и войско перебиты, а победоносные капенец с фалиском и всей этрусской молодежью уже рядом, воинов едва удалось удержать от бегства. (11) А в Риме паника была еще больше: там все решили, что лагерь уже взят и враги уже движутся на Город злобной ордой. Люди сбегались к стенам; матроны, которых всеобщий страх выгнал из дому, молились в храмах; (12) они заклинали богов отвратить погибель от жилищ, капищ и стен римских, умоляя перенести этот ужас на Вейи и обещая возобновить священнодействия по обряду и уважать предзнаменования.
19. (1) Но уже снова были устроены Латинские игры, уже вода из Альбанского озера была выпущена на поля – и вот рок навис над Вейями[578]. (2) А полководцем, которому судьбой было предназначено разрушить этот город и спасти родину, стал Марк Фурий Камилл[579]. Объявленный диктатором, он назначил начальником конницы Публия Корнелия Сципиона.
(3) С переменой полководца все внезапно переменилось: у людей появились новые надежды, новое мужество; казалось, что у Города – новое счастье (4). Прежде всего Камилл по законам военного времени казнил всех, кто во время паники бежал от Вей, и добился того, что противник перестал быть самой страшной грозой для воина. Затем диктатор назначил на определенный день набор, а сам между тем отправился к Вейям для укрепления воинского духа. (5) Вернувшись в Рим, он набрал новое войско, причем никто не уклонялся от повинности. Собралась также и молодежь из чужих земель – от латинов и герников, предлагая помощь в этой войне. (6) Диктатор обратился к ним в сенате с благодарственными словами и, поскольку все уже было готово к походу, объявил, что, согласно сенатскому постановлению, после взятия Вей будут устроены Великие игры и освящен обновленный храм Матери Матуты[580], который был в свое время основан царем Сервием Туллием.
(7) Когда диктатор с войском тронулся из города, его провожали даже не с упованием на успех, а с полной уверенностью в победе. Глубоко все обдумав и рассчитав, он первым делом завязал бой с фалисками и капенцами на непетской земле[581]. (8) Как это обычно случается, расчету сопутствовала удача: диктатор не только разгромил врага в сражении, но выгнал из его собственного лагеря и овладел громадной добычей. Большая ее часть была отдана квестору, воинам же досталось куда меньше. (9) Оттуда Камилл повел армию к Вейям и возвел там дополнительные укрепления. Между городской стеной и валом нередко вспыхивали случайные стычки с неприятелем – диктатор запретил их, распорядившись, чтобы никто не вступал в бой самовольно. Воины были брошены на осадные работы. (10) Самая тяжелая и изнурительная из них состояла в сооружении подземного хода[582]во вражескую крепость. (11) Чтобы и работа не прерывалась, и люди не изнемогали от длительного пребывания под землей, Камилл разбил землекопов на шесть команд. Работа велась круглосуточно, в шесть смен, днем и ночью, и закончилась не прежде, чем путь в крепость был открыт.
20. (1) Диктатор видел, что победа уже у него в руках, и тут им овладело беспокойство: после взятия этого богатейшего города к римлянам попадет столько добычи, сколько не было во всех предыдущих войнах, вместе взятых, – (2) с одной стороны, он боялся вызвать озлобление воинов, если их часть добычи окажется скудной; с другой стороны, опасался навлечь ненависть патрициев, если раздача будет слишком щедрой. И Камилл послал сенату письмо: (3) благодаря милости бессмертных богов, собственному его разумению, а также стойкости воинов Вейи вот-вот окажутся во власти народа римского. Как следует распорядиться добычей?
(4) Мнения в сенате разделились. Одно предложение исходило от старика Публия Лициния, которого, как передают, его сын попросил высказаться первым[583]: пусть, мол, прямо объявят народу, что каждый, кто хочет участвовать в разделе добычи, может отправиться в вейский лагерь. (5) Другое мнение выразил Аппий Клавдий. Он заявил: эта неслыханная щедрость ни с чем не сообразна и не желательна. Если уж сенаторы считают, что нечестиво пополнять опустошенную войной казну богатством, захваченным у врага[584], то пусть из него назначат жалованье воинам, дабы простой народ платил поменьше подати. (6) Тогда этот дар поровну достанется всем семействам и не попадет в жадные до грабежа руки праздных городских жителей, готовых утащить награду прямо из-под носа у тех, кто храбро сражался: ведь всегда выходит так, что последним к дележу успевает тот, кто вынес на своих плечах наибольшие труды и опасности.
(7) Лициний со своей стороны твердил, что это богатство всегда будет давать пищу для подозрений и ненависти, что оно послужит для плебеев источником обвинений, мятежей, а там и отмены установленных законов. (8) А потому лучше умиротворить этим подарком их души, пойти навстречу людям, измученным и разоренным многолетней податью, позволить им вкусить от плодов той войны, на которой они почти что состарились. Приятнее и радостнее будет каждому своими руками принести домой то, что он захватил у врага, чем получить пусть даже больше, но по чужому соизволению. (9) Ведь и сам диктатор опасается, что это вызовет зависть и злодеяния, за тем он и послал к сенату. Сенат же доверенное ему обязан передоверить народу. Да будет позволено каждому владеть тем, чем подарит его военная удача.
(10) Более безопасным сочли то предложение, которое увеличивало популярность сената. Итак, было объявлено, что все, кто жаждет добычи, могут отправиться в лагерь к диктатору.
21. (1) Огромное множество народа заполонило лагерь. Тогда, по свершении ауспиций, диктатор отдал воинам приказ к оружию, сам же выступил вперед и возгласил: (2) «Под твоим водительством, о Пифийский Аполлон, и по твоему мановению выступаю я для ниспровержения града Вейи, и даю обет пожертвовать тебе десятину добычи из него. (3) Молю и тебя, царица Юнона, что ныне обихоживаешь Вейи: последуй за нами, победителями, в наш город, который станет скоро и твоим. Там тебя примет храм, достойный твоего величия». (4) Такую молитву произнес диктатор. Пользуясь численным перевесом, он начал приступ со всех концов одновременно, чтобы враги не заметили опасности, грозившей со стороны подкопа. (5) Вейяне не знали, что даже их собственные прорицатели, даже чужеземные оракулы их предали, что богов уже зовут к дележу вейской добычи, а других богов выманили из собственного города обетами и теперь их ждет новое жилище во вражеских кумирнях. Не знали вейяне и того, что этот день станет для них последним. (6) Но менее всего могли они ожидать, что под стенами вырыт подземный ход и в крепость уже проникли враги. Вооружившись чем попало, горожане бросились к стенам. (7) Они недоумевали, что случилось: на римских укреплениях в течение стольких дней не было заметно никакого движения – и вдруг римляне, словно охваченные внезапным бешенством, ринулись на приступ.
(8) К этому моменту приурочивают обычно такую легенду: вейский царь приготовился к совершению жертвенного обряда, и гаруспик объявил, что победа даруется тому, кто разрубит внутренности именно этого животного. Услышав его слова из подкопа, римские воины вывели подземный ход наружу, похитили внутренности жертвенного животного и принесли их диктатору[585]. (9) Когда описываешь столь глубокую древность, то и правдоподобное принимаешь за правду: зачем подтверждать или опровергать то, чему место скорее на охочих до чудес театральных подмостках, чем в достоверной истории[586].
(10) Тем временем некоторые опытные воины с оружием в руках вышли из подземного хода и оказались в храме Юноны, прямо посреди вейской крепости. Тут одни с тыла напали на врагов, стоявших по стенам, другие сбили засовы с ворот, третьи запалили крыши домов, поскольку женщины и рабы швыряли оттуда камни и черепицу. (11) Повсюду поднялся вопль, в котором разноголосье ужаса и угроз смешалось с плачем женщин и детей. (12) В мгновение ока со всех стен были сброшены вооруженные защитники, а ворота отворены, и в то время, как одни римляне толпой стали прорываться в город, другие начали карабкаться по оставленным горожанами стенам. Город наполнился римлянами, (13) бой шел повсюду. После ужасающей резни битва начала ослабевать. Тогда диктатор приказал глашатаям объявить, чтобы не трогали безоружных, что и положило конец кровопролитию.
(14) Горожане стали складывать оружие и сдаваться, а воины с разрешения диктатора бросились грабить. Говорят, что, когда Камилл своими глазами увидел, насколько эта громадная добыча превосходит ценностью все упования, он воздел руки к небу и молился, (15) чтобы не слишком дорогой ценой пришлось платить за все это ему и римскому народу – ведь то невероятное счастье, которое досталось сегодня ему самому и всем римлянам, может вызвать зависть у богов и людей. (16) Передают, что посреди своей молитвы он оступился и упал: несколькими годами позже, когда Камилл был осужден, а Рим взят и разграблен, многие вспомнили про этот случай и сочли его предзнаменованием. (17) А тогда день прошел в избиении врагов и ограблении богатейшего города.
22. (1) Назавтра диктатор продал в рабство свободных граждан. Государству достались только эти деньги, но и этим плебеи были недовольны. Даже за ту добычу, которую плебеи принесли с собой, они не были признательны командующему, негодуя, что тот передал сенату дело, которое имел право решить самолично; по их мнению, он хотел лишь найти прикрытие для своей скупости. (2) Не были они благодарны и сенату, но лишь семье Лициниев, из коих сын сделал доклад сенату, а отец внес там свое столь понравившееся народу предложение.
(3) Когда все земные богатства были из Вей унесены, римляне приступили к вывозу даров божественных и самих богов, но проявили здесь не святотатство, а благоговение. (4) Из всего войска были отобраны юноши, которым предстояло перенести в Рим царицу Юнону. Дочиста омывшись и облачившись в светлые одежды, они почтительно вступили в храм и сначала лишь набожно простирали к статуе руки – ведь раньше даже на это, согласно этрусскому обычаю, никто не посягал, кроме жреца из определенного семейства. (5) Но затем кто-то из римлян, то ли по божественному наитию, то ли из юношеского озорства, произнес: «Хочешь ли, о Юнона, идти в Рим?» Тут все остальные стали кричать, что богиня кивнула. (6) К этой легенде добавляют еще подробность, будто слышен был и голос, провещавший изволение. Во всяком случае известно, что статуя была снята со своего места с помощью простых приспособлений, а перевозить ее было так легко и удобно, будто она сама шла следом. Богиню доставили на Авентин, где ей отныне предстояло находиться всегда; (7) именно туда звали ее обеты римского диктатора[587]. Позднее тот же Камилл освятил там для нее храм.
(8) Так пали Вейи. Самый богатый город этрусского племени даже в собственной гибели обнаружил величие: ведь римляне осаждали его долгих десять лет и зим, в течение которых он нанес им поражений куда больше, чем от них претерпел, и даже когда в конце концов пал по воле рока, то был взят не силой, но хитростью.
23. (1) Пусть были получены благоприятные знамения, пророчества прорицателей и оракул Пифии, пусть римляне сделали все, что могло в таком деле зависеть от человеческого разумения, и избрали командующим Марка Фурия, величайшего из полководцев, – (2) все равно, когда до Рима донеслась весть о взятии Вей, ликованию не было предела. Столько лет длилась эта война! Столько было испытано поражений! (3) Не дожидаясь решения сената, римские матроны заполонили все храмы, вознося благодарения богам. Сенат распорядился провести четырехдневные молебствия – ни в одной предыдущей войне не назначались такие сроки. (4) Въезд диктатора также был обставлен торжественнее, чем когда-либо раньше: люди всех сословий высыпали его встречать, и триумф далеко превзошел все почести, обычные в такой день. (5) Самое сильное впечатление производил сам диктатор, въехавший в город на колеснице, запряженной белыми конями: он не походил не только на гражданина, но даже и на смертного. (6) Эти кони как бы приравнивали диктатора к Юпитеру и Солнцу[588], что делало церемонию кощунственной. По этой-то причине триумф был скорее блестящим, нежели радостным[589]. (7) Тогда же Камилл наметил на Авентине место для храма царицы Юноны и освятил капище Матери Матуты. Закончив все торжественные и мирские дела, он сложил с себя диктаторство.
(8) Затем стали обсуждать вопрос о даре Аполлону. Когда Камилл напомнил, что обещал ему десятину от добычи, понтифики сочли, что следует освободить народ от этого священного обязательства: (9) невозможно было заставить его отдать свою добычу, чтобы часть из нее выделить для выполнения религиозного обета. (10) Наконец сговорились на том, что казалось самым легким: пусть каждый, кто хочет освободить себя и свое имущество от обязанности благочестия, сам оценит собственную добычу и отдаст государству десятую часть этой стоимости, (11) дабы на эти средства создать дар, достойный римского народа и соразмерный величию храма и могуществу бога. Упомянутый взнос также отвратил от Камилла души плебеев.
(12) Среди всех этих событий явились просить о мире послы от вольсков и эквов. И они получили его: пусть это было недостойно римлян, но государство, измученное столь долгой войной, нуждалось в отдыхе.
24. (1) На следующий год [395 г.] после взятия Вей избрали шестерых военных трибунов с консульской властью: двух Публиев Корнелиев (Косса и Сципиона), Марка Валерия Максима во второй раз, Цезона Фабия Амбуста во второй, Луция Фурия Медуллина в пятый, Квинта Сервилия в третий. Воевать с фалисками выпало по жребию Корнелиям, с Капенами – Валерию и Сервилию. (2) Они не осаждали города и не брали их приступом, но разорили поля и забрали в добычу все продовольствие, не оставив там ни одного плодоносящего дерева, ни одного колоса. (3) Это несчастье потрясло капенский народ, он запросил мира и получил его. Война с фалисками продолжалась.
(4) Между тем в Риме не затихали разнообразные распри, и для смягчения их было решено вывести колонию в землю вольсков. Туда записались три тысячи римских граждан, и выбранные для этого триумвиры нарезали каждому по три и семь двадцатых югера земли[590]. (5) Эта раздача вызвала лишь негодование, поскольку ее сочли подачкой, призванной отвлечь народ от надежд на большее: зачем усылать плебеев к вольскам, когда под боком великолепный город Вейи, земли которого плодороднее и обширнее римских? (6) К тому же плебеи явно предпочитали Риму Вейи из-за их удобного местоположения, роскошных площадей и зданий, как общественных, так и частных. (7) Именно тогда зародился замысел переселения в Вейи[591], наделавший столько шума уже после взятия Рима галлами. (8) Предполагалось, что часть плебеев и часть сената переберутся туда, чтобы два города могли быть объединены в одно государство и населены римским народом.
(9) Против этого выступили лучшие граждане[592], заявляя, что они готовы скорее умереть, но только здесь, на виду у народа римского; (10) ведь теперь даже и в одном городе вон сколько раздоров – что же будет при двух городах? Неужели кто-то предпочтет побежденную родину победившей, допустит, чтоб взятые Вейи принесли больше несчастья, чем невредимые? (11) Одним словом, пусть сограждане оставят их на родине, а сами могут отправляться в Вейи за градозиждителем Титом Сицинием (именно он внес это предложение от имени народных трибунов). Их же никакая сила не принудит покинуть бога Ромула, сына бога, отца-основателя града Рима.
25. (1) Все эти споры сопровождались недостойными перепалками: патриции привлекли на свою сторону часть военных трибунов; одно не давало плебеям распустить руки – (2) лишь только поднимался крик, грозивший перерасти в потасовку, старейшие сенаторы первыми бросались в гущу толпы, призывая на себя побои, раны и смерть. (3) Поскольку чернь не смела осквернять достоинство почтенных старцев, то и в прочих грубых поползновениях почтительность заступала дорогу гневу.
(4) Камилл же везде и всюду бесперечь выступал с такими речами: неудивительно, что государство сошло с ума, если оно, будучи связано обетом, считает любую заботу важнее заботы об исполнении религиозного долга. (5) Что уж тут говорить о сборе десятины, а вернее, милостыни, – ведь каждый выплачивает ее частным порядком, а народ в целом освобожден. (6) Но ему, Камиллу, совесть не позволяет умолчать, что десятина назначается только из добычи в виде движимого имущества. О городе же, о попавшей в руки римлян земле, никто и не обмолвится – а они ведь тоже включены в обет.
(7) Поскольку этот вопрос показался сенату спорным, обратились к жрецам. Понтифики, собравшись и побеседовав с Камиллом, сочли, что Аполлону была посвящена десятина от всего, что перед принесением обета принадлежало вейянам, а потом перешло римлянам. Таким образом, при оценке следовало учитывать и город с землей (8). Деньги достали из казны, и военным трибунам-консулярам было поручено закупить на них золото. Поскольку его не хватало, матроны, посовещавшись об этом, обещали отдать военным трибунам золото – и действительно передали в казну все свои украшения. (9) Это деяние вызвало у сената глубочайшую признательность. Передают, что именно благодаря той щедрости матронам было предоставлено право выезжать в четырехколесных повозках к священнодействиям и на игры, а в одноколках как по праздничным, так и по будним дням[593]. (10) Взвесив и сосчитав полученное от отдельных лиц золото, трибуны уплатили за него деньгами. Решено было отлить золотую чашу, которая и была послана в Дельфы как дар Аполлону.
(11) Только люди отвлеклись от дел благочестия, как народные трибуны возобновили смуту. Они науськивали толпу на всех знатных, но вперед других – на Камилла: (12) он, мол, обратил в ничто вейскую добычу поборами в казну и на священные нужды. На отсутствующих народные трибуны обрушивались с ожесточением, присутствующих же робели, особенно если те сами шли навстречу их ярости. (13) Поскольку было очевидно, что этой тяжбы не закончить в истекающем году, на следующий народными трибунами были переизбраны те же лица – авторы законопроекта[594]. А патриции настояли на том же в отношении противников этого закона. Таким образом, народные трибуны были в большинстве своем переизбраны.
26. (1) На выборах военных трибунов патриции, приложив все усилия, добились избрания Марка Фурия Камилла [394 г.]. Они притворялись, будто в рассуждении войны заботятся о полководце, а на самом деле им требовался противоборец трибунским щедротам. (2) Вместе с Камиллом[595] военными трибунами с консульской властью были избраны Луций Фурий Медуллин в шестой раз, Цезон Эмилий, Луций Валерий Публикола, Спурий Постумий, Публий Корнелий[596] во второй раз.
(3) В начале года, пока Марк Фурий не отбыл в землю фалисков, война с которыми была ему поручена, народные трибуны не давали делу хода. В конце концов из-за проволочек о нем вообще забыли, а Камилл, чьего прекословия трибуны больше всего опасались, стяжал себе славу в войне с фалисками. (4) Дело в том, что враги почли за благо удалиться под защиту стен, считая это самым безопасным, а он, грабя поля и сжигая селения, принудил их выйти из города. (5) Однако страх не дал им продвинуться далеко – почти в миле от города они разбили лагерь. Выбранное место казалось им надежным лишь на том основании, что подход к нему был затруднен обрывами, крутыми склонами, а дороги были труднодоступны. (6) Но Камилл, выбрав в проводники пленного, родом из этих мест, глубокой ночью снялся с лагеря и уже на рассвете появился значительно выше той точки, где был неприятель. (7) Римские триарии принялись возводить укрепления, а прочее войско стояло, готовое к бою. Когда враги попытались помешать строительству, полководец разбил их и обратил в бегство. Фалисков объял такой страх, что, захваченные повальным бегством, они бросились к городу мимо собственного лежащего вблизи лагеря. Многие были убиты и ранены, (8) прежде чем охваченное паникой войско ворвалось в ворота. Лагерь был взят, добыча же отдана квесторам, к сильному недовольству воинов. Однако, сломленные суровостью командования, они при всей ненависти к Камиллу восхищались его непреклонностью. (9) Затем, во время осады, горожане совершали вылазки против римских укреплений, и даже заставы иногда подвергались беспорядочным нападениям. Происходили мелкие стычки: так тянулось время, но ни одна из сторон не получала перевеса, а между тем у осажденных продовольствия и других запасов было приготовлено больше, чем у осаждающих. (10) Казалось, что здесь потребуются усилия, столь же длительные, как под Вейями, но вдруг судьба даровала римскому полководцу вместе со скорой победой и случай проявить свою доблесть, однако не на военном поприще, где она была общеизвестна, а в деле неожиданном.
27. (1) У фалисков велось, чтобы учителем и воспитателем у ребенка был один и тот же человек; кроме того, на попечении одного воспитателя обычно находилось по многу детей, что и посейчас принято в Греции[597]. Детей знатных граждан, как это часто бывает, учил некий человек, преуспевший в науках. (2) Так вот, он еще во дни мира взял за правило выводить детей для игр и упражнений за город. Не отступился он от своей привычки и во время войны, уводя их то ближе, то дальше от ворот, и однажды, когда представился случай, завлек детей играми и беседами дальше обычного, привел к вражеским постам, потом к римскому лагерю и, наконец, – в палатку Камилла. (3) Там он преступное свое деяние усугубил речью еще более преступной: что-де, передав во власть римлян этих детей, (4) чьи родители главенствуют в Фалериях, он тем самым и город отдал в их руки. (5) Услыхав такое, Камилл сказал: «Не похожи на тебя, злодей, ни народ, ни полководец, к которым ты явился со своим злодейским даром. (6) Той общности, которая устанавливается между людьми по договору, у нас с фалисками нет, но есть и пребудет та, что природой врождена всем. Война так же имеет законы, как и мир, а мы умеем воевать столь же справедливо, сколь и храбро. (7) Наше оружие направлено не против тех, чей возраст принято щадить даже при взятии городов, но против вооруженных мужей, которые в свое время сами напали на римский лагерь под Вейями без всякого повода или вызова с нашей стороны. (8) Насколько было в твоих силах, ты, пожалуй, превзошел их еще большим злодеянием, я же собираюсь победить по-римски: доблестью, осадой и оружием, как это было и с Вейями». (9) Потом он приказал раздеть этого человека, связать ему руки за спиной и передать детям для возвращения в Фалерии, да велел вручить им розги, чтобы они гнали ими предателя к городу.
(10) Первым делом на это удивительное зрелище сбежался смотреть весь народ; затем должностные лица созвали сенат, чтобы обсудить неслыханное происшествие. Оно настолько изменило направление умов, что все без исключения стали требовать мира. А давно ли они, обезумев от злобы и ненависти, предпочитали скорее погибнуть, как вейяне, чем, подобно капенцам, попросить о мире. (11) И на форуме, и в курии все прославляли честность римлян, справедливость полководца. Со всеобщего согласия в лагерь к Камиллу были отправлены послы; оттуда они с его разрешения поехали в Рим, чтобы известить сенат о сдаче Фалерии. (12) Передают, что, когда их ввели в сенат, они заявили следующее: «Отцы-сенаторы! Мы сдаемся вам, побежденные вами и вашим полководцем, но победа эта такого свойства, что не может вызвать ничьей зависти – ни божеской, ни человеческой. Мы думаем, что нам лучше будет жить под вашей властью, чем под сенью собственных законов, – а что может быть слаще для победителя, чем такая уверенность побежденного! (13) Исход этой войны являет роду человеческому два достойных подражания примера: вы благородство в войне предпочли верной победе, мы же добровольно уступили ее вам, потрясенные этим благородством. Мы покоряемся вам. (14) Можете присылать за оружием и заложниками. Город открыл ворота – берите его. Ни вам не придется разочароваться в нашей верности, ни нам в вашей власти». (15) Камиллу были принесены благодарности как от врагов, так и от сограждан; с фалисков взыскали деньги на годовое жалованье воинам, чтобы освободить римский народ от подати, и по заключении мира войско вернулось в Рим.
28. (1) Победив врагов справедливостью и великодушием, Камилл вернулся в город. Его встречали куда теплее, чем в тот раз, когда он ехал по улицам в колеснице триумфатора, запряженной белыми лошадьми. Одного его скромного молчания было достаточно, чтобы сенат без промедлений освободил его от невыполненного обета.
(2) А золотую чашу в дар Аполлону повезли Луций Валерий, Луций Сергий и Авл Манлий, отправленные послами в Дельфы. Недалеко от Сицилийского пролива их военный корабль был перехвачен липарскими пиратами и уведен на Липары[598]. Тамошняя община обыкновенно делила добычу между всеми, считая плоды разбоя как бы государственным достоянием. (3) Но случилось так, что в этом году высшую должность у них занимал некто Тимасифей, муж, более похожий на римлянина, чем на своих соотечественников. (4) Он не только сам исполнился почтения к посольскому достоинству, к священному дару, к тому богу, которому дар был послан, и к той причине, что побудила дар послать, но и сумел внушить благоговение черни, которая всегда такова, каков правящий ею. Он предложил послам гостеприимство от имени государства, затем отправил их в Дельфы, дав еще и кораблей в охрану, а оттуда невредимыми вернул в самый Рим. (5) Сенат заключил с ним договор гостеприимства[599] и послал ему подарки от казны.
В течение этого года продолжалась война с эквами, шедшая с переменным успехом, так что и в самом войске, и в Риме не могли поначалу решить, победили они или побеждены. У римлян там командовали военные трибуны Гай Эмилий и Спурий Постумий. (6) На первых порах они вели войну вместе, но затем, когда неприятель в открытом бою был разбит, решили, что Эмилий станет на стоянку в Верругине, а Постумий начнет опустошать окрестность. (7) Последнему сопутствовал успех, и потому его войско двигалось без всякой осторожности, не соблюдая строя. Тут-то на них и напали эквы. Римляне были застигнуты врасплох и разбежались по близлежащим холмам. Оттуда паника перекинулась на другую половину войска, стоявшую в Верругине. (8) Когда воины Постумия собрались в безопасном месте, тот принялся на сходке упрекать их в трусости, говоря, что они обратились в бегство от противника пугливого и робкого. В ответ все как один стали кричать, что укоры заслуженны, что они каются в допущенном проступке, но готовы загладить его; недолго врагам радоваться! (9) Требуя, чтоб их немедленно вели на неприятельский лагерь (он был виден внизу, на равнине), воины клялись, что если не захватят его до наступления ночи, то согласны на любую кару. (10) Похвалив их, Постумий велел всем отдохнуть, чтобы к четвертой страже[600] быть готовыми.
Враги опасались, что римляне ночью убегут с холма – поэтому, чтобы отрезать дорогу на Верругину, они двинулись вперед, и битва завязалась еще до рассвета. Впрочем, всю ночь сияла луна, так что видно все было не хуже, чем днем. (11) Шум боя достиг Верругины, и, поскольку там решили, что взят римский лагерь, всех охватила паника. Тщетно Эмилий удерживал и умолял воинов – они в беспорядке бежали в Тускул. (12) Оттуда в Рим докатилась весть, будто Постумий с войском погибли.
А Постумий между тем дожидался, пока вместе с темнотой исчезнет угроза попасть в засаду, которая нередко подстерегает войско, увлеченное преследованием. Объезжая верхом боевые порядки, он напоминал воинам об их клятвах и вселил в них такой пыл, что эквы не выдержали римского натиска. (13) Началось избиение бегущих. На погибель врагам римлянами владел скорее гнев, чем доблесть. Не успел гонец из Тускула прибыть с ужасной вестью, не успела эта весть поднять в государстве ложную тревогу, как за ней последовало торжествующее донесение от Постумия: победа досталась римскому народу, войско эквов уничтожено.
29. (1) Поскольку требования народных трибунов не достигли еще цели, плебеи прилагали усилия, чтобы трибунами остались те люди, которые вносили законопроект[601], а сенаторы стремились избрать тех, кто его отвергал. Но на своих комициях[602] плебеи одержали верх. (2) Сенаторы же отомстили за это поражение, утвердив указ о назначении консулов: эта должность была ненавистна простым людям. Итак, после пятнадцатилетнего перерыва консулами были избраны Луций Лукреций Флав и Сервий Сульпиций Камерин [393 г.].
(3) В начале года народные трибуны, уверившись в том, что никто из них не выступит против закона, стали настаивать на нем с еще большей энергией. По той же причине против закона выступили консулы. Все граждане были заняты одним только этим делом, и тут вдруг эквы захватили Вителлию, римскую колонию в их земле. (4) Так как город был взят ночью, в результате измены, то большая часть поселенцев, бежав через задние ворота, целыми и невредимыми добрались до Рима. (5) Вести эту войну по жребию досталось консулу Луцию Лукрецию. Он выступил с войском, разбил врага в открытом бою и победителем вернулся в Рим, к схваткам куда более жарким.
(6) Были вызваны в суд народные трибуны последних двух лет – Авл Вергиний и Квинт Помпоний[603], защита которых, по мнению патрициев, была для сената делом чести. Никто не вменял трибунам в вину ни уголовного преступления, ни служебного упущения – они обвинялись лишь в том, что в угоду сенату опротестовывали трибунские законопроекты. (7) И все же ярость простого люда оказалась сильнее благодарности сената. Ни в чем не повинных людей приговорили каждого к уплате десяти тысяч тяжелых ассов, подав тем самым дурной пример на будущее. Сенаторы были уязвлены. (8) Камилл прямо обвинял плебеев в преступлении: вот они уже пошли против своих, вот облыжно засудили трибунов, не понимая того, что сами же этим уничтожили право трибунского вмешательства. А уничтожение такого права подрывает и трибунскую власть. (9) Ибо заблуждаются плебеи, если они питают надежду, что сенаторы будут вечно сносить разнузданное своеволие трибунов. Если с трибунской властью не удастся справиться при помощи тех же трибунов, то сенаторы найдут другое средство. (10) И на консулов обрушился Камилл, зачем они смолчали, зачем стерпели – ведь эти трибуны положились на авторитет сената и оказались обмануты в своем доверии к государству. Он собирал сходки, говорил это там во всеуслышание, и ненависть к нему толпы возрастала день ото дня.
30. (1) Но Камилл непрестанно возмущал сенаторов против предложенного закона: пусть они помнят, за что им предстоит бороться на форуме в день голосования – за жертвенники и очаги, за храмы богов и землю, на которой родились! (2) Что до него самого (если только позволительно вспоминать о своей славе, когда отечество в опасности), то ему лишь к чести послужило бы, если бы завоеванный им город был полон людьми, если бы сам он каждый день вкушал хвалу в городе, воплощающем его славу, если бы постоянно у него перед глазами был город, изображение которого несли во время его триумфа[604], если бы все ступали по камням, хранящим память о его подвигах. (3) Но нечестиво переселяться в заброшенный, покинутый бессмертными богами город! Нельзя, чтобы римский народ жил на полоненной земле, сменив победившую родину на побежденную.
(4) Воодушевленные призывами своего вождя, сенаторы – и старые, и молодые – в день голосования все плечом к плечу явились на форум. Разойдясь по своим трибам, они со слезами на глазах умоляли сограждан, брали их за руки, (5) заклинали не покидать отечества, за которое храбро и победоносно ратоборствовали и они сами, и их пращуры. Они указывали на Капитолий, на храм Весты, на прочие окрестные святыни: (6) да не станет народ римский изгнанником, да не уйдет с родной земли, от своих богов-пенатов во вражий город, да не переведет туда государство, дабы не пришлось пожалеть о взятии Вей опустевшему Риму!
(7) Поскольку патриции добивались своего не силой, но мольбами, перемежая их частыми упоминаниями богов, большая часть народа прониклась религиозным чувством. Закон был отклонен большинством в одну трибу. (8) Эта победа вселила в сенаторов такую радость, что на следующий день сенат по докладу консулов принял решение о разделе вейской земли между плебеями[605]. Давали по семь югеров, но в расчет принимались не только отцы семейств, а и все свободные домочадцы, дабы, одушевленные этой надеждой, плебеи плодились и множились.
31. (1) Умиротворенный этим даром, простой люд не стал противодействовать проведению консульских выборов. (2) Консулами были избраны Луций Валерий Потит и Марк Манлий, впоследствии нареченный Капитолийским[606] [392 г.]. Они устроили Великие игры, обещанные диктатором Марком Фурием во время войны с Вейями. (3) В том же году был освящен храм царицы Юноны, обетованный тем же диктатором во время той же войны, и передают, что освящение прошло с большим блеском благодаря великим стараниям матрон.
(4) Война с эквами в Альгидских горах не заслуживает особого упоминания, поскольку враги бежали, даже не успев скрестить с нами оружие. Валерию за упорство в истреблении бегущего противника был дан триумф, а Манлию – право вступить в город с овацией[607]. (5) В том же году началась новая война – с вольсинийцами. Отправить туда войско не было возможности, ибо вследствие чрезвычайной засухи и жары в римской земле разразился голод и мор. Оттого вольсинийцы исполнились самоуверенности и безнаказанно совершили набег на римские поля, присоединив к себе еще и саппинатов[608]. (6) Тогда обоим народам была объявлена война.
Скончался цензор Гай Юлий, на его место был назначен Марк Корнелий. Впоследствии данное назначение было признано сомнительным, ибо в это пятилетие Рим пал; (7) и потом никогда больше не выбирали нового цензора на место умершего[609]. Когда заболели и оба консула, было решено возобновить ауспиции посредством междуцарствия. (8) Итак, консулы по указанию сената сложили с себя полномочия, а интеррексом был избран Марк Фурий Камилл. Следующим интеррексом он назначил Публия Корнелия Сципиона, а тот, в свою очередь – Луция Валерия Потита. (9) Последний же выбрал шестерых военных трибунов с консульской властью, чтобы в случае болезни кого-нибудь из них государство не осталось без должностных лиц.
32. (1) На квинктильские календы[610] в должность вступили Луций Лукреций, Сервий Сульпиций, Марк Эмилий, Луций Фурий Медуллин в седьмой раз, Агриппа Фурий, Гай Эмилий во второй раз [391 г.]. (2) Из них Лукрецию и Гаю Эмилию выпало воевать с вольсинийцами, а Агриппе Фурию и Сульпицию – с саппинатами. (3) Война с вольсинийцами случилась раньше и была значительной, если судить по численности неприятеля, но с военной точки зрения не очень трудной. Восемь тысяч воинов сложили оружие и сдались после того, как их окружила конница. (4) Известие об этой войне привело к тому, что саппинаты даже не отважились на битву, но, вооружившись, вверили себя защите стен. Римляне, ни с чьей стороны не встречая сопротивления, повсеместно вывезли добычу и из земли саппинатов, и из вольсинийской земли. (5) Наконец изнемогшие от войны вольсинийцы запросили о двадцатилетнем перемирии и получили его на том условии, что вернут римскому народу награбленное и заплатят войску жалованье за текущий год.
(6) Тогда же некий Марк Цедиций, родом из плебеев, объявил трибунам, будто он слышал в ночной тиши голос, громче человеческого, и будто этот голос велел ему сообщить должностным лицам, что грядут галлы. Случилось это якобы на Новой улице, там теперь часовня[611], повыше храма Весты. (7). Но знамением пренебрегли, во-первых, как нередко бывает, из-за низкого происхождения рассказчика, а во-вторых, из-за того, что племя это представлялось далеким и потому неведомым. Однако над Римом тяготел рок: не только предупреждением богов пренебрегли, но даже Марка Фурия, единственного смертного, который мог отвратить беду, удалили из города. (8) Народный трибун Луций Апулей вызвал его в суд из-за вейской добычи[612], и как раз в это время он потерял юного сына. Пригласив домой своих земляков и клиентов[613], в большинстве своем плебеев, Камилл стал расспрашивать об их настроениях, и они ответили, что вскладчину готовы внести любую сумму, к какой бы его ни приговорили, (9) но освободить его от суда они не могут. И тогда он удалился в изгнание, моля бессмертных богов, чтобы неблагодарный город, которым он был безвинно обижен, как можно скорее пожалел о нем. Камилл был заочно приговорен к уплате пятнадцати тысяч тяжелых ассов[614].
33. (1) Вот как был изгнан единственный гражданин, который, случись он на месте, один был бы способен спасти Рим от падения, если только можно наверняка утверждать что-либо относительно человеческих дел. А между тем роковые для Города события приближались: явились послы от клузийцев, прося помощи против галлов.
(2) Говорят, что это племя перешло Альпы, привлеченное сладостью здешних плодов, но более всего – вина, удовольствия им неизвестного. Они заняли земли, которые раньше возделывали этруски. (3) Якобы клузиец Аррунт привез вино в Галлию именно для того, чтобы приманить это племя, – он, мол, гневался на Лукумона[615], чьим опекуном он раньше был, за то, что тот соблазнил его жену, а поскольку сей юноша обладал большой властью, то невозможно было наказать его иначе, как прибегнув к чужеземной силе. (4) Дескать, этот Аррунт и перевел врагов через Альпы и стал виновником осады Клузия[616].
Я, пожалуй, не стал бы отрицать, что на Клузий галлов навел Аррунт или кто другой из клузийцев. (5) Но совершенно ясно и то, что осаждавшие Клузий не были первыми, кто перешел через Альпы. Ведь галлы перевалили в Италию за двести лет до осады Клузия и взятия Рима[617]; (6) воинства же галльские сражались сперва не с этими этрусками; но еще много прежде они нередко сталкивались с теми из них, что жили между Апеннинами и Альпами. (7) Еще до возникновения римской державы власть этрусков широко распространилась и на суше и на море. Доказательством того, сколь велико было их могущество, служат названия верхнего и нижнего морей, которыми, подобно острову, окружена Италия; одно из них италийские племена зовут Тускским, по общему именованию этого народа, а другое Адриатическим – от Адрии, колонии тусков. (8) Греки называют эти моря Тирренским и Адриатическим[618]. (9) Туски заселили земли от одного моря до другого, сначала основав двенадцать городов[619] по сю сторону Апеннин, на нижнем море, а потом выведя на другую колонии по числу городов. (10) Эти колонии заняли всю землю за Падом[620] вплоть до Альп, кроме уголка венетов, живущих вдоль излучины моря[621]. (11) Несомненно, они же положили начало альпийским племенам, в первую очередь ретам. Правда, самые места, где обитают реты, сделали их свирепыми и не сохранили в них ничего из прежнего, разве что язык, да и тот испорченный[622].
34. (1) Вот что мы узнали о переходе галлов в Италию[623]: когда в Риме царствовал Тарквиний Древний, высшая власть у кельтов, занимающих треть Галлии[624], принадлежала битуригам, они давали кельтскому миру царя. (2) В доблестное правление Амбигата и сам он, и государство разбогатели, а Галлия стала так изобильна и плодами, и людьми, что невозможно оказалось ею управлять. (3) Поскольку население стремительно увеличивалось, Амбигат решил избавить свое царство от избытка людей[625]. Белловезу и Сеговезу, сыновьям своей сестры, он решил назначить для обживания те места, на какие боги укажут в гаданиях. (4) Они могли взять с собой столько людей, сколько хотели, дабы ни одно племя не было в состоянии помешать переселенцам. Тогда Сеговезу достались лесистые Герцинские горы[626], а Белловезу, к огромной его радости, боги указали путь в Италию. (5) Он повел за собой всех, кому не хватало места среди своего народа, выбрав таких людей из битуригов, арвернов, сенонов, эдуев, амбарров, карнутов и аулерков[627]. Тронувшись в путь с огромными силами пехоты и конницы, он пришел в земли трикастинов[628]. (6) Впереди вздымались Альпы. Мне ничуть не удивительно, что преодолеть их показалось ему невозможным: ведь если справедливы исторические предания, никому до тех пор не удавалось перейти через них, разве что мы поверим сказкам про Геркулеса[629]. (7) Горы стенами высились со всех сторон. Потрясенные вышиной уходящих в небо хребтов, галлы принялись искать, как бы им перебраться через них в лежащий по ту сторону мир. Задержало их еще и суеверие: они узнали, что некие пришельцы, искавшие себе земель, подверглись нападению племени саллювиев[630]. (8) То были массилийцы, приплывшие кораблями из Фокеи[631]. Считая это предзнаменованием своей судьбы, галлы помогли им закрепиться в том месте, где они обосновались, как только высадились на сушу; и саллювии это стерпели. (9) Сами же они перешли Альпы по Тавринскому ущелью и долине Дурии[632]и разбили тусков в сражении при реке Тицине. Узнав, что выбранное ими для поселения место называется Инсубрское поле, они сочли это благим предзнаменованием, поскольку инсубрами именуется одна из ветвей племени эдуев. Они основали там город Медиолан[633].
35. (1) Затем новая орда, ценоманы, под водительством Этитовия, идя по следам первых галлов, перешла Альпы по тому же ущелью. Но им уже помогал Белловез. Они заняли те земли, где теперь находятся города Бриксия и Верона[634]. (2) После них осели либуи и саллювии, поселившись вдоль реки Тицина, рядом с древним племенем левых лигурийцев[635]. Вслед за тем по Пеннинскому перевалу пришли бои и лингоны, но, поскольку все пространство между Падом и Альпами было уже занято, они переправились на плотах через Пад, выгнали не только этрусков, но и умбров с их земли, однако Апеннины переходить не стали. (3) И наконец, сеноны, переселившиеся последними, заняли все от реки Утента вплоть до Эзиса. Я уверен, что именно это племя напало потом на Клузий и Рим[636], неясно только, в одиночку или же при поддержке всех народов Цизальпинской Галлии[637].
(4) Клузийцы боялись надвигавшейся войны: им было известно, сколь многочисленны галлы, сколь неслыханно велики ростом, как вооружены; они были наслышаны, сколь часто этрусские легионы бежали пред их лицом как по сю, так и по ту сторону Пада. И вот клузийцы отрядили послов в Рим. Они просили сенат о помощи, хотя с римлянами их не связывал никакой договор, ни о союзе, ни о дружбе. Единственным основанием могло служить то, что они в свое время не выступили против римского народа на защиту вейян, своих единоплеменников[638]. (5) В помощи было отказано, но к галлам отправили посольство – трех сыновей Марка Фабия Амбуста, чтобы они именем сената и народа римского потребовали не нападать на их друзей и союзников, которые вдобавок не причинили галлам никакой обиды; (6) если потребуется, римляне-де вынуждены будут защищать клузийцев с оружием в руках; однако предпочтительнее, если возможно, вовсе отказаться от войны и познакомиться с галлами, этим новым народом, в мирной тиши, а не в грохоте битвы.
36. (1) Это посольство было бы мирным, не будь сами послы буйными и похожими скорее на галлов, чем на римлян. Когда они изложили все, что им было поручено, на совете галлов, те ответили: (2) хоть они и слышат имя римлян впервые, но верят, что это храбрые мужи, раз именно к ним бросились за помощью клузийцы, оказавшись в беде. (3) Они, галлы, предпочитают искать союзников во время переговоров, а не боев, и не отвергают предложенного послами мира, но только при одном условии: клузийцы должны уступить нуждающимся в земле галлам часть своих пашен, поскольку все равно имеют их больше, чем могут обработать. Иначе они на мир не согласятся. (4) Пусть им немедленно, в присутствии римлян дадут ответ, и если в их требовании о земле будет отказано, то они в присутствии тех же римлян пойдут в бой, дабы послы могли дома рассказать, насколько галлы превосходят доблестью прочих смертных.
(5) Когда римляне спросили, по какому праву галлы требуют землю у ее хозяев, угрожая оружием, и что у них за дела в Этрурии, те высокомерно заявили, что право их – в оружии и что нет запретов для храбрых мужей. Обе стороны вспылили, все схватились за мечи, и завязалось сражение. (6) А над Римом уже нависал рок, ибо послы, в нарушение права народов, также взялись за оружие. И это не могло пройти незамеченным, коль скоро трое знатнейших и храбрейших римских юношей сражались впереди этрусских знамен – доблесть сих чужеземцев бросалась в глаза. (7) И в довершение всего Квинт Фабий, выехав на коне из строя, убил галльского вождя, неистово рвавшегося к этрусским знаменам. Он насквозь пробил ему бок копьем, а когда начал снимать доспехи, галлы узнали его, и по всем рядам разнеслось, что это римский посол.
(8) Клузийцы были тотчас забыты; посылая угрозы римлянам, галлы затрубили отбой. Среди них нашлись такие, кто предлагал немедленно идти на Рим, но верх одержали старейшины. Они решили сперва отрядить послов с жалобой на обиду и потребовать выдачи Фабиев за осквернение права народов. (9) Когда галльские послы передали то, что им было поручено, сенат не одобрил поступка Фабиев и счел требование варваров законным. Но поскольку речь шла о мужах столь знатных, то угодничество преградило путь долгу и решение не было принято. (10) Итак, сенат передал это дело народному собранию, чтобы снять с себя ответственность за возможные поражения в войне с галлами. А там настолько возобладало лицеприятие и подкуп, что те, кого собирались наказать, были избраны военными трибунами с консульскими полномочиями на следующий год. (11) После этого недостойного деяния галлы ожесточились и, открыто угрожая войной, вернулись к своим. (12) Военными же трибунами, кроме трех Фабиев, были избраны Квинт Сульпиций Лонг, Квинт Сервилий в четвертый раз, Публий Корнелий Малугинский [390 г.].
37. (1) Вот до какой степени ослепляет людей судьба, когда она не хочет, чтобы противились ее всесокрушающей силе! Уже надвигалась громада беды, уже от Океана, от самого края мира[639] приближался с войною невиданный и неслыханный враг – (2) а государство не учредило никаких особых полномочий и не обратилось ни к кому за помощью, в то время как даже в войне с фиденянами, с вейянами и прочими окрестными народами оно принимало крайние меры, да и диктатора назначало множество раз. (3) Во главе всех приготовлений стояли те самые трибуны, из-за дерзости которых и началась война; они проводили набор ничуть не более тщательно, чем для обычной войны[640], еще даже умаляя ходившие о ней слухи.
(4) А галлы, узнав, что осквернители общечеловеческих законов избраны на высшую должность, а посольство их подверглось оскорблениям, вскипели гневом, коего народ сей не умеет обуздывать. Немедля подняли они знамена и спешным маршем выступили в путь. (5) При виде их стремительно проходящих полчищ жители городов в страхе бросались к оружию, а поселяне разбегались. Однако они громким криком возвещали, что идут на Рим. Двигавшиеся колонны занимали огромное пространство; массы людей и лошадей растянулись и в длину, и в ширину. (6) Впереди врагов неслась молва о них, за ней спешили вестники от клузийцев, а потом и от других народов поочередно – и все же наибольший страх вызвала в Риме стремительность неприятеля: (7) вышедшее ему навстречу наспех собранное войско, как ни торопилось, встретило его всего в одиннадцати милях от города, там, где река Аллия, по глубокой ложбине сбегая с Крустумерийских гор, впадает в Тибр несколько ниже дороги[641]. (8) Не только впереди, но и вокруг все уже было полно врагов. Галлы и вообще по своей природе склонны производить бессмысленный шум, а тогда весь воздух был наполнен леденящими душу звуками: это варвары издавали дикие крики и горланили свирепые песни[642].
38. (1) Тут военные трибуны, не выбрав заранее места для лагеря, не соорудив загодя вал на случай отступления, выстроили боевой порядок. Не позаботились они не только о земных, но и о божественных делах, пренебрегши ауспициями и жертвоприношениями. Римский строй был растянут в обе стороны, чтобы полчища врагов не могли зайти с тыла, (2) однако все равно уступал по длине неприятельскому – между тем в середине этот растянутый строй оказался слабым и едва смыкался. Резерв решили поставить на правом крыле, где была маленькая возвышенность; именно она послужила впоследствии как источником паники и бегства, так и единственным спасением для беглецов. (3) Галльский вождь Бренн[643], при малочисленности неприятеля, весьма опасался какой-то хитрости, и вот он решил, будто этот холм занят для того, чтобы ударить резервом во фланг и тыл галлов, когда те столкнутся с легионами лицом к лицу. Тогда он развернул строй против резервов в твердой уверенности, что, если он выбьет их с холма, (4) победу на ровном поле при таком численном перевесе будет одержать легко. Вот до какой степени не только судьба, но и рассудительность была на стороне варваров!
(5) А в противоположном стане ни вожди, ни воины не напоминали римлян. Во всех душах царил лишь страх и мысль о бегстве; помрачение умов было таково, что, несмотря на препятствие в виде Тибра, подавляющее большинство бросилось в Вейи, чужой город, вместо того, чтобы бежать прямым путем в Рим, к женам и детям. (6) Лишь резервы еще недолгое время находились под защитой возвышенности, остальное же войско, как только передние сбоку, а задние с тыла услышали крики, враз обратилось в бегство от неведомого врага еще раньше, чем его увидело. Римляне бежали, не только не пытаясь помериться силами с неприятелем, не только не сразившись с ним и не получив ни одной царапины, но даже и не ответив на его клич. (7) Никто не погиб в сражении, все убитые были поражены в спину, когда началась давка, а толчея затрудняла бегство. (8) Страшная резня произошла на берегу Тибра, куда, побросав оружие, бежало целиком все левое крыло. Многих не умевших плавать или ослабевших под тяжестью доспехов и одежды поглотила пучина. (9) Тем не менее огромное большинство без затруднений добралось до Вей, откуда они не послали в Рим не только подмоги, но даже вести о поражении. (10) С правого крыла, стоявшего далеко от реки, под горой, все кинулись в Город, где укрылись в Крепости, даже не заперев городских ворот[644].
39. (1) Галлы онемели от этого чуда. Повергнутые в страх своей собственной молниеносной победой, они сперва застыли, не понимая, что произошло. Потом начали подозревать засаду. Затем принялись собирать доспехи убитых и по своему обычаю нагромождать их оружие в кучи. (2) И лишь тогда, не видя никаких признаков неприятеля, они тронулись в путь и незадолго до захода солнца подошли к Риму. Когда высланные вперед всадники донесли, что ворота не заперты, перед ними не выставлены заставы, а на стенах не видно караулов, это диво поразило галлов, как и первое. (3) Опасаясь ночи и не зная расположения Города, они заночевали между Римом и Аниеном[645] и разослали лазутчиков вокруг стен и ворот, чтобы разузнать, что намерены делать враги в своем бедственном положении.
(4) Поскольку большая часть войска бежала в Вейи и лишь немногие в Рим, горожане решили, что почти никому не удалось спастись. Весь Город наполнился причитаниями и по мертвым и по живым. (5) Но, когда стало известно о приближении неприятеля, личное горе каждого отступило перед лицом всеобщего ужаса. Вскоре стали слышны завывания и нестройные песни варваров, шайками рыщущих вокруг стен. (6) Время до утра тянулось в страхе, так как в любой момент ожидалось нападение на Город. Зачем они явились, как не для того, чтобы напасть? Не будь у них этого намерения, они остались бы на Аллии. (7) Потом, перед заходом солнца, когда светлого времени осталось уже немного, решили, что нападение произойдет вечером; позже стали думать, что оно для пущего страха отложено на ночь. К утру римляне окончательно обессилели. (8) И тут после долгих часов страха разразилась и сама беда: вражеские силы стали в воротах.
И тем не менее ни той ночью, ни на следующий день люди уже не напоминали тех трусов, что бежали при Аллии. (9) Не было никакой надежды защитить Город оставшимися столь малыми силами, и потому римляне решили, что способные сражаться юноши, а также самые крепкие из сенаторов должны вместе с женами и детьми удалиться в Крепость и на Капитолий, (10) свезти туда оружие, продовольствие и оттуда, с укрепленного места, защищать богов, граждан и имя римское. (11) Фламину[646] и жрицам-весталкам поручили унести как можно дальше от резни и пожара общественные святыни, чтобы о почитании богов было забыто не раньше, чем сгинет последний из почитателей. (12) Если грозящее Городу разрушение переживут Крепость и Капитолий, обитель богов, если уцелеет боеспособная молодежь и сенат, средоточие государственной мудрости, то можно будет легко пожертвовать толпой стариков, оставляемых в Городе на верную смерть. (13) А чтобы чернь снесла это спокойнее, старики – триумфаторы и бывшие консулы – открыто заявляли, что готовы умереть вместе с ними: лишние люди, не способные носить оружие и защищать отечество, не должны обременять собою воюющих, которые и так будут во всем терпеть нужду.
40. (1) Вот какие речи раздавались среди старцев, которые сами обрекали себя на смерть. Потом напутствия были обращены к колонне юношей, которую они провожали до Крепости и Капитолия. Они вверяли Город их молодой доблести. А ведь какая бы судьба ни была ему уготована, в прошлом он на протяжении трехсот шестидесяти лет[647] всегда выходил победителем из всех войн. (2) Для тех, кто уходил, была ужасна мысль, что они уносят с собой последнюю надежду и заступу остающихся, они не смели даже взглянуть на людей, решивших погибнуть вместе с захваченным городом. (3) Но вот когда поднялся женский плач, когда матроны стали в беспамятстве метаться, бросаясь то к одному, то к другому, вопрошая мужей и сыновей, на какую судьбу те их обрекают, тут уж человеческое горе дошло до последнего предела. (4) Все же большая часть женщин последовала за своими близкими в Крепость. Никто не звал их, но никто им и не препятствовал: если бы непригодных к войне было меньше, это давало бы выгоду осажденным, но было бы уж слишком бесчеловечно. (5) Остальная масса людей, в большинстве своем плебеи, которым не хватило бы ни места на столь маленьком холме, ни продовольствия, высыпала из Города и плотной толпой, наподобие колонны, устремилась на Яникул. (6) Оттуда часть рассеялась по деревням, а часть бросилась в соседние города. Не было у них ни предводителя, ни согласованности в действиях, но каждый искал спасения как мог и руководствовался собственными интересами, махнув уже рукой на общие.
(7) А в это время фламин Квирина и девы-весталки, забыв о собственном имуществе, совещались, какие из священных предметов следует унести с собой, а какие оставить, ибо не было сил унести все. (8) Раздумывая, где найти самое надежное укрытие, они сочли наилучшим заложить их в бочки[648] и закопать в часовне поблизости от жилища фламина Квирина, там, где теперь священный обычай запрещает плевать. Остальной груз они разделили между собой и понесли через Свайный мост по дороге, ведущей на Яникул. Из Города тянулась вереница людей, непригодных к военной службе. (9) В толпе других увозил на телеге жену с детьми и некий римский плебей Луций Альбин. На середине моста он заметил весталок. (10) Даже в таких обстоятельствах не было забыто различие божественного и земного: считая святотатством, чтобы государственные жрицы шли пешком и несли на руках святыни римского народа, в то время как его семья на глазах у всех едет в повозке, Альбин приказал жене и детям сойти, разместил на телеге весталок со святынями и доставил их в Цере, куда жрицы держали путь.
41. (1) Между тем в Риме были закончены все приготовления к обороне Крепости, какие могли быть предприняты в подобных обстоятельствах. После этого все старцы разошлись по домам и стали ждать прихода неприятеля, душою приготовившись к смерти. (2) Те из них, кто некогда занимал курульные должности, желали умереть, украшенные знаками отличия своей прежней счастливой судьбы, почестей и доблести. Они воссели в своих домах на креслах из слоновой кости[649], облачившись в те священные одежды, в коих вели колесницы[650] с изображениями богов или справляли триумфы. (3) Некоторые передают, будто они решили принести себя в жертву за отечество и римских квиритов и будто сам великий понтифик Марк Фабий произнес над ними посвятительное заклинание[651].
(4) За ночь воинственность галлов несколько приутихла. Кроме того, им не пришлось сражаться, не пришлось опасаться поражения в битве, не пришлось брать Город приступом или вообще силой – поэтому на следующий день они вступили в Рим без злобы и рвения. Через открытые Коллинские ворота они добрались до форума, обводя глазами храмы богов и Крепость, которая одна имела вид изготовившейся к отпору. (5) На тот случай, если из Крепости или Капитолия совершат вылазку против разбредшихся воинов, галлы оставили небольшую охрану, а сами кинулись за добычей по безлюдным улицам. Одни толпой вламывались в близлежащие дома, другие стремились в те, что подальше, как будто именно там и собрана в неприкосновенности вся добыча. (6) Но потом, испуганные странным безлюдьем, опасаясь, как бы враги не задумали какого подвоха против тех, кто блуждает поодиночке, галлы начали собираться группами и возвращаться на форум и в кварталы по соседству. (7) Дома плебеев там были заперты, а знатных – стояли открытыми, и тем не менее они входили в них чуть ли не с большей опаской, чем в закрытые. (8) С благоговением взирали галлы на тех мужей, что восседали на пороге своих домов[652]: кроме украшений и одежд, более торжественных, чем бывает у смертных, эти люди походили на богов еще и той величественной строгостью, которая отражалась на их лицах. (9) Варвары дивились на них, как на статуи. Рассказывают, что в этот момент один из стариков, Марк Папирий, ударил жезлом из слоновой кости того галла, который вздумал погладить его по бороде (а тогда все носили бороды). Тот пришел в бешенство, и Папирий был убит первым. Другие старики также погибли в своих креслах. (10) После их убийства не щадили уже никого из смертных, дома же грабили, а после поджигали.
42. (1) Впрочем, в первый день пожары распространились менее, чем это обычно бывает в захваченном городе. Быть может, не все галлы так уж стремились уничтожить город. А может быть, их вожди преследовали сразу две цели: (2) с одной стороны, принудить засевших на Капитолии сдаться, используя их привязанность к родным домам и устроив для острастки два-три пожара, а с другой стороны, сохранить нетронутыми часть кварталов, чтобы впоследствии, угрожая сжечь и их, сделать противника более покладистым. (3) Римляне из Крепости видели, что город полон врагов, видели, как они рыщут по улицам, как бедствие пожирает квартал за кварталом, но не могли не только воспринимать происходящее разумом, но даже и вполне владеть своим зрением и слухом. (4) Откуда бы ни доносились крики врагов, вопли женщин и детей, рев пламени и грохот обрушивающихся зданий, на все они растрачивали в страхе свое внимание, оборачивались во все стороны, везде блуждали взором. Судьба словно поставила их зрителями при гибели отечества, (5) бессильными спасти что-либо, кроме собственных тел. Находясь в осаде, будучи оторваны от родных очагов, видя все свое имущество во власти врага, они были куда несчастнее всех, кто когда-либо переживал осаду. (6) Этот ужасный день сменила тревожная бессонная ночь; наконец наступил рассвет. Всякий миг приносил с собой новую беду. (7) И все же римляне не падали духом под гнетом и тяжестью стольких несчастий. Пусть пожары и разрушения на их глазах сровняли город с землей, пусть холм, который они занимали, был беден и мал – они все равно готовились храбро защищать этот последний клочок свободы. (8) И, поскольку каждый день нес лишь несчастья, люди как будто уже привыкли к ним; они сделались безразличны ко всему, к чему когда-то были привязаны, – отныне они не обращали внимания ни на что, кроме своего оружия, того железа, которое они сжимали в руках как единственную и последнюю надежду.
43. (1) Галлы тоже решили прибегнуть к силе. Война, которую они несколько дней вели против одних только домов захваченного города, не принесла результатов: хотя после пожаров и разрушений там не уцелело уже ничего, кроме вооруженных защитников, тех не удалось ни запугать угрозами, ни склонить к сдаче. И вот галлы отважились на крайнюю меру – штурм Крепости. (2) На рассвете все их полчища по команде выстроились на форуме; оттуда они, образовав «черепаху»[653], с криком двинулись к подножью холма. Римляне действовали против врага без робости, но и не безрассудно: все подъемы к Крепости, на которых наблюдалось продвижение галлов, были укреплены, и там поставлены самые отборные воины. Однако неприятелю не мешали взбираться наверх, полагая, что, чем выше он вскарабкается, тем легче будет сбросить его с кручи. (3) Римляне удерживались примерно на середине склона, где крутизна как бы сама толкает воина на врага. Оттуда они вдруг обрушились на галлов, избивая их и сталкивая вниз. Разгром был столь сокрушителен, что противник ни разу более не осмелился на подобные предприятия, ни отдельным отрядом, ни всем войском. (4) Итак, потеряв надежду победить силой оружия, галлы начали готовиться к осаде, о которой до этого момента не помышляли. Но продовольствия уже не было ни в Городе, где его уничтожил пожар, ни в окрестностях, откуда его как раз в это время вывезли в Вейи. (5) Тогда было решено разделить войско, чтобы часть его грабила окрестные народы, а часть осаждала Крепость. Таким образом опустошители полей снабжали бы провизией осаждавших.
(6) Видно, сама судьба пожелала испытать римскую доблесть, когда она повела вышедших из Города галлов на Ардею, где находился в изгнании Камилл. (7) Горюя над общественным злосчастьем гораздо больше, чем над своим собственным, он старился там в укоризнах богам и людям. Его возмущало и изумляло, куда подевались те храбрецы, что брали с ним Вейи, Фалерии, что всегда выигрывали войны благодаря мужеству, а не везению. (8) И вдруг он узнал о приближении галльского войска и о том, что перепуганные этим ардеяне собираются на совет. Раньше Камилл всегда воздерживался от участия в их собраниях, но тут он решительно отправился на сходку, ведомый божественным вдохновением.
44. (1) «Ардеяне, – начал он, – старые друзья мои и нынешние мои сограждане! Я помню, что в Ардею меня привело ваше великодушие и моя несчастная доля. Пусть никто не попрекает меня, будто сейчас я пришел сюда, забыв о своем положении. Но сами обстоятельства, общая для всех опасность требуют, чтобы в сей грозный час каждый пожертвовал на общее дело все, чем он может быть полезен. (2) Когда же мне и отблагодарить вас за ваши великие по отношению ко мне услуги, если сейчас я останусь в стороне? Какая же вам от меня будет польза, если не на войне? Этим искусством я славился на родине. В войнах был я непобедим, но во дни мира неблагодарные сограждане изгнали меня.
(3) Вам, ардеяне, представляется удобный случай отблагодарить римский народ за его многочисленные услуги. Вы о них и сами помните, а потому мое напоминание не является попреком. А вашему городу достанется великая слава за победу над общим врагом. (4) Галлы, приближающиеся сюда нестройной толпой, – это такое племя, коему природой даны высокий рост и великая пылкость, но и тому и другому недостает устойчивости. Посему они выигрывают битвы скорее устрашением, чем силой. (5) Доказательством пусть послужит хотя бы та же гибель Рима: они захватили Город потому, что тот не охранялся, с Крепости же и Капитолия им и посейчас успешно сопротивляется крохотный отряд. Но осада им прискучила, и вот они уже уходят и начинают врассыпную шататься по полям. (6) Жадно набив брюхо едой и вином, они разваливаются, лишь только их застигнет ночь. Подобно диким зверям, они спят вблизи речных потоков, не сооружая укреплений, не разбивая палаток, не выставляя караулов. Поскольку теперь удача на их стороне, они еще беспечнее обыкновенного. (7) Если вы собираетесь защищать родные стены, если не хотите мириться с тем, что все это станет галльским, то в первую стражу[654] вооружитесь и все поголовно следуйте за мной. Не на битву – на избиение. Если я не предам в ваши руки сморенных сном врагов, если вы не перережете их, как скот, то пусть со мной в Ардее поступят так же, как поступили в Риме».
45. (1) Как друзья Камилла, так и его недруги были убеждены, что другого такого военачальника не существовало в то время нигде. Поэтому все они по закрытии собрания стали собираться с силами и только напряженно ожидали сигнала. Когда он прозвучал, ардеяне в полной боевой готовности сошлись у городских ворот и Камилл возглавил их. Вокруг стояла такая тишина, какая бывает в начале ночи. (2) Вскоре после выхода из города. как и было предсказано, наткнулись на галльский лагерь, не защищенный и не охраняемый ни с одной из сторон. С громким криком они напали на него. (3) Никакого сражения не было – повсюду шла резня: рубили объятых сном безоружных воинов. Впрочем, тех, что были дальше всего, ужас поднял ото сна и обратил в бегство, но поскольку они не знали, откуда и что это за напасть, то многие по растерянности бросились как раз в сторону врага. Значительная часть галлов врассыпную бежала в землю Антия, где они были окружены предпринявшими вылазку горожанами.
(4) А в вейской земле произошло подобное же избиение тусков. Дело в том, что они были столь безжалостны к Городу, который почти четыреста лет был их соседом, а теперь стал жертвой невиданного и неслыханного врага, что совершали набеги на римскую землю. Будучи и без того обременены добычей, они собрались напасть даже на Вейи – последнее прибежище и надежду римского народа. (5) Римские воины сначала увидели их, бродивших по полям, а потом снова, когда они, собравшись толпой, гнали перед собой добычу. Заприметили и лагерь, разбитый неподалеку от Вей. (6) Сперва всеми овладела жалость к себе, но потом ее сменило возмущение и гнев: этрускам ли, от коих они отвратили на себя галльскую войну, глумиться над их несчастиями? (7) Еле сдержались они, чтобы не напасть немедленно, но их остановил центурион Квинт Цедиций, которого они сами выбрали себе в предводители. Решено было дождаться ночи, когда повторилось все, как в Ардее, и столь же счастливо закончилось – (8) недоставало лишь военачальника, равного Камиллу. Мало того, по указаниям пленных, уцелевших от ночной резни, римляне отправились к Салинам[655], против другого отряда тусков и, неожиданно напав на них следующей ночью, учинили избиение еще большее. Торжествуя двойную победу, они вернулись в Вейи.
46. (1) Между тем в Риме с обеих сторон все было тихо. Осада шла вяло, и галлы заботились только о том, чтобы никто из врагов не смог проскользнуть между их караулами. И вот неожиданно один римский юноша вызвал изумление и у сограждан, и у неприятеля. (2) Род Фабиев издавна совершал жертвоприношения на Квиринальском холме. А тогда Гай Фабий Дорсуон, препоясавшись по-габински[656], со священной утварью в руках спустился с Капитолия, дабы выполнить установленный обряд. Он прошел прямо среди вражеских часовых, не обращая внимания ни на окрик, ни на смятение. (3) Дойдя до Квиринальского холма, он совершил все положенные действа и отправился обратно тою же дорогой. И лицо, и поступь его на возвратном пути были столь же тверды: он уповал на помощь богов, чьим культом не пренебрег даже под страхом смерти. То ли галлы были потрясены его невероятной доблестью, то ли тронуты благочестием, к которому сие племя отнюдь не равнодушно, но только юноша невредимым вернулся к своим на Капитолий[657].
(4) А тем временем в Вейях у римлян прибывало не только мужества, но и сил. Туда собирались люди, рассеявшиеся по окрестностям после злосчастной битвы и бедственного падения Города, стекались добровольцы из Лация, желавшие принять участие в разделе добычи. (5) Ясно было, что зреет час освобождения родины, что пора вырвать ее из рук врага. Но пока имелось лишь крепкое туловище, которому не хватало головы… (6) Вейи и сами по себе напоминали о Камилле; большинство воинов успешно воевало под его водительством и командованием. И вот Цедиций заявил, что он никому, ни богу, ни человеку, не позволит положить конец его власти, но что он сам, по собственной воле, памятуя о своем чине, требует назначения настоящего полководца. (7) Со всеобщего согласия было решено вызвать из Ардеи Камилла, но сперва запросить сенат, находящийся в Риме. До такой степени властвовала надо всем смиренность, что даже на краю гибели соблюдалось чинопочитание!
(8) Проникнуть через вражеские посты было делом рискованным – для этого свершения предложил свои услуги отважный юноша Понтий Коминий. Завернувшись в древесную кору, он вверил себя течению Тибра и был принесен в Город, (9) а там вскарабкался по ближайшей к берегу скале, такой отвесной, что врагам и в голову не приходило ее сторожить. Ему удалось подняться на Капитолий и передать просьбу войска на рассмотрение должностных лиц. (10) В ответ на нее было получено распоряжение сената, согласно которому Камилл, возвращенный из ссылки куриатными комициями, немедленно провозглашался от имени народа диктатором; воины же получали право выбрать полководца, какого пожелают. И с этим вестник, спустившись той же дорогой, поспешил обратно. (11) Отряженные в Ардею послы доставили Камилла в Вейи. Впрочем, я больше склонен верить тому, что он не раньше покинул Ардею, чем убедился в принятии соответствующего закона: ведь у него не было права ни пересечь римские границы без разрешения народа, ни принять командование над войском, пока он не был провозглашен диктатором. Итак, был принят куриатский закон и Камилл заочно назначен диктатором[658].
47. (1) Вот что происходило в Вейях, а в Риме тем временем Крепость и Капитолий подверглись ужасной опасности. (2) Дело в том, что галлы или заметили человеческие следы там, где прошел гонец из Вей, или сами обратили внимание, что у храма Карменты[659] начинается пологий подъем на скалу. Под покровом ночи они сперва выслали вперед безоружного лазутчика, чтобы разведать дорогу, а потом полезли наверх уже все. Там, где было круто, они передавали оружие из рук в руки; одни подставляли плечи, другие взбирались на них, с тем чтобы потом вытащить первых; (3) если было нужно, все подтягивали друг друга и пробрались на вершину так тихо, что не только обманули бдительность стражи, но даже не разбудили собак, животных столь чутких к ночным шорохам. (4) Но их приближение не укрылось от гусей, которых, несмотря на острейшую нехватку продовольствия, до сих пор не съели, поскольку они были посвящены Юноне. Это обстоятельство и оказалось спасительным. От их гогота и хлопанья крыльев проснулся Марк Манлий, знаменитый воин, бывший консулом три года назад[660]. Схватившись за оружие и одновременно призывая к оружию остальных, он среди всеобщего смятения кинулся вперед и ударом щита сбил вниз галла, уже стоявшего на вершине. (5) Покатившись вниз, галл в падении увлек за собой тех, кто поднимался вслед за ним, а Манлий принялся разить остальных – они же, в страхе побросав оружие, цеплялись руками за скалы. Но вот уже сбежались и другие римляне: они начали метать стрелы и камни, скидывая врагов со скал. Среди всеобщего обвала галльский отряд покатился к пропасти и рухнул вниз. (6) По окончании тревоги все попытались на остаток ночи уснуть, хотя при царившем в умах возбуждении это было нелегко – сказывалась минувшая опасность.
(7) На рассвете труба созвала воинов на совет к трибунам: ведь нужно было по заслугам воздать и за подвиг и за преступление. Прежде всего благодарность за свое мужество получил Манлий, ему были сделаны подарки от военных трибунов, и по единодушному решению всех воинов (8) каждый приносил к нему в дом, находившийся в Крепости, по полуфунту полбы и по кварте вина. И то сказать, сущая безделица! Но в условиях голода она становилась величайшим доказательством любви, ведь для чествования одного-единственного человека каждый должен был урвать от собственных насущных потребностей, отказывая себе в пище. (9) Затем были приведены воины, стоявшие на часах в том месте, где незамеченным сумел взобраться враг. Когда военный трибун Квинт Сульпиций объявил, что казнит их всех по военному обычаю, в ответ раздался такой единодушный крик воинов, что он испугался; (10) поскольку все в один голос винили только одного часового, остальных решено было пощадить, а несомненного виновника преступления сбросить со скалы, что вызвало всеобщее одобрение. (11) С тех пор обе стороны усилили охрану: галлы потому, что им стало известно о хождении посыльных между Вейями и Римом, а римляне – из-за воспоминаний о ночной тревоге.
48. (1) Но кроме всех ужасов войны и осады обе стороны мучил голод, (2) а галлов еще и мор – ведь их лагерь лежал между холмов, в местности, сожженной пожаром и наполненной испарениями. При любом дуновении ветра вместе с пылью поднимался пепел. (3) Всего этого галлы совершенно не могли переносить, поскольку их племя привычно было к климату влажному и холодному. Их мучила удушливая жара, косила болезнь, и они мерли, как скот. Уже не было сил хоронить умерших по отдельности – их тела нагромождали в кучи и сжигали без разбора. Оттого это место вошло в историю под названием Галльское пожарище[661].
(4) Затем с римлянами было заключено перемирие, и с разрешения полководцев начались переговоры. Галлы призывали сдаться, твердя, что это все равно неизбежно из-за голода. Передают, будто римляне, желая опровергнуть их, начали во многих местах кидать с Капитолия хлеб во вражеские караулы[662]. (5) Однако голода нельзя было долее ни скрывать, ни переносить, (6) Сколь ни были изнурены несением службы и стражи воины на Капитолии, они превозмогали все человеческие страдания – одного только голода природа не попустила превозмочь. (7) День за днем воины вглядывались вдаль, не появится ли помощь от диктатора, и в конце концов лишились не только еды, но и надежды. Поскольку все оставалось по-прежнему, а обессилевшие воины уже чуть не падали под тяжестью собственного оружия, они потребовали или сдаться, или заплатить выкуп на любых условиях, тем более что галлы ясно давали понять, что за небольшую сумму их легко будет склонить к прекращению осады. Между тем как раз в это время диктатор подготавливал все к тому, чтобы сравняться силами с неприятелем: он лично провел набор в Ардее и приказал начальнику конницы Луцию Валерию вести войско из Вей. (8) Однако к этому моменту сенат уже собрался на заседание и поручил военным трибунам заключить мир. Военный трибун Квинт Сульпиций и галльский вождь Бренн согласовали сумму выкупа, и народ, которому предстояло править всем миром, был оценен в тысячу фунтов золота[663]. (9) Эта сделка, омерзительная и сама по себе, была усугублена другой гнусностью: принесенные галлами гири оказались фальшивыми, и, когда трибун отказался мерить ими, заносчивый галл положил еще на весы меч. Тогда-то и прозвучали невыносимые для римлян слова: горе побежденным!
49. (1) Но ни боги, ни люди не допустили, чтобы жизнь римлян была выкуплена за деньги. Еще до того, как заплачено было чудовищное вознаграждение, когда из-за пререканий отвешивание золота прекратилось, неожиданно появился диктатор. Он приказал, чтобы золото убрали прочь, а галлов удалили. (2) Когда те стали упираться, ссылаясь на то, что действуют по договору, он заявил, что последний не имеет законной силы, поскольку был заключен уже после того, как он был избран диктатором, без его разрешения, должностным лицом низшего ранга. Камилл велел галлам выстраиваться для битвы, (3) а своим – сложить походное снаряжение в кучу и готовить оружие к бою. Освобождать отечество надо железом, а не золотом, имея перед глазами храмы богов, с мыслью о женах, детях, о родной земле, обезображенной ужасами войны, обо всем том, что священный долг велит защищать, отвоевывать, отмщать! (4) Затем диктатор выстроил войско, насколько это допускал неровный характер местности и развалины полуразрушенного города. Он предусмотрел все, чем военное искусство могло помочь ему в этих условиях. (5) Испуганные новым оборотом дела, взялись за оружие и галлы, но напали они на римлян скорее под действием гнева, чем по здравом размышлении. Счастье уже переменилось, уже и помощь богов, и человеческий разум были на стороне римского дела. И вот при первом же столкновении галлы были опрокинуты так же быстро, как победили при Аллии.
(6) Под водительством и командованием того же Камилла варвары были разбиты и в следующем сражении, которое, не в пример первому, разворачивалось по всем правилам военного искусства. Битва произошла на восьмой миле по Габийской дороге, где враги собрались после своего бегства. Там были перерезаны все галлы, а их лагерь захвачен. Из врагов не осталось никого, кто мог бы сообщить о поражении[664]. (7) Отвоевав отечество у неприятеля, диктатор с триумфом вернулся в Рим, сопровождаемый шутками воинов; такие шутки обычно бывают грубы, но теперь Камилла в них уподобляли Ромулу, заслуженно величали отцом отечества и вторым основателем Города[665].
(8) Спасши родину на войне, Камилл, несомненно, спас ее вторично уже позднее, во дни мира: он воспрепятствовал переселению в Вейи, хотя после сожжения Рима за это весьма решительно выступали трибуны, да и сами плебеи сильнее, чем прежде, склонялись к этому замыслу. (9) Все сказанное сделалось причиной того, что после триумфа Камилл не стал складывать с себя диктаторских полномочий, уступая просьбам сената, умолявшего не оставлять государство в угрожающем положении.
50. (1) Прежде всего Камилл, усерднейший чтитель святынь, доложил сенату обо всем, что касалось бессмертных богов, и постановлено было следующее: (2) все храмы в той мере, в какой они были осквернены врагом, должны были быть восстановлены и подвергнуты очищению, о порядке которого дуумвирам следовало справиться в Сивиллиных книгах[666]; (3) с церийцами надлежало заключить государственный договор о гостеприимстве за то, что они приняли у себя святыни римского народа и жрецов, и благодаря им не прервалось почитание бессмертных богов; (4) предлагалось также провести Капитолийские игры в честь того, что Юпитер Всеблагой Величайший в грозный час охранил свое жилище и крепость народа римского; диктатору Марку Фурию предписывалось учредить для их проведения коллегию, состоящую из обитателей Капитолия и Крепости[667]. (5) Упомянуто было и об искуплении за то, что пренебрежен был тот ночной голос, который накануне галльской войны возвестил о несчастье: постановили возвести на Новой улице храм Айю Локутию[668]. (6) Золото, как отнятое у галлов, так и снесенное в святилище Юпитера из других храмов во время паники, было все сочтено священным – его велели сложить под трон Юпитера, поскольку невозможно было вспомнить, куда какое следует отнести. (7) Это золото еще раньше дало проявиться благочестию граждан, ибо, когда его не хватило в казне, чтобы уплатить галлам установленный выкуп, матроны собрали и отдали свое золото, лишь бы не трогали священное. За это им принесли благодарность, а к прежним почестям прибавилась новая: отныне разрешалось над матронами, как и над мужами, произносить торжественную надгробную речь[669].
(8) Только окончив дела, связанные с богами и находившиеся в ведении сената, Камилл занялся другим: дело в том, что трибуны на сходках неустанно подстрекали плебеев к оставлению руин и переселению в готовый для жительства город Вейи. Диктатор, сопровождаемый всем сенатом, явился в собрание и произнес следующую речь:
51. (1) «Настолько мне, о квириты, опостылели пререкания с народными трибунами, что главным утешением в горьком изгнании служила мне такая мысль: пока я живу в Ардее, все эти распри от меня далеко. И потому я бы никогда не вернулся, хотя бы вы тысячу раз звали меня назад в сенатских постановлениях и народных наказах. (2) Да и теперь меня побудила вернуться отнюдь не перемена в настроениях, но ваше злосчастье: ведь речь уже шла не о том, оставаться ли в отечестве лично мне, а о том, останется ли оно само тем, чем было. Сегодня я с удовольствием промолчал бы, не привлекая к себе внимания, если бы и то, что происходит теперь, не было битвой за отечество, а не прийти ему на помощь, пока есть силы, и для других-то постыдно, а для Камилла и вовсе нечестиво. (3) Зачем же мы за него воевали, зачем вызволили отечество из осады, вырвали из рук врага, если теперь сами бросим то, что освободили? Когда победителями были галлы, когда весь город принадлежал им, Капитолий с Крепостью все-таки оставались у римских богов и граждан, они продолжали там жить. Так что же, теперь, когда победили римляне, когда Город отвоеван, покинуть уже и Крепость с Капитолием? Неужто удача наша принесет Городу большее запустение, чем наша неудача? (4) Если бы даже не было у нас святынь, что появились одновременно с Городом и передаются из поколения в поколение, все равно я считал бы происшедшее ныне с римским государством достаточно знаменательным, чтобы отучить людей от пренебрежения к почитанию богов. (5) И в самом деле, взгляните на те удачи и неудачи, что приключились за многие годы: вы обнаружите, что все хорошее проистекало от смирения перед богами, все плохое – от неуважения к ним. (6) Возьмем прежде всего вейскую войну: с какими мучениями мы ее вели, сколько лет – а закончилась она не прежде, чем по наущению богов была спущена вода из Альбанского озера. (7) Ну а это неслыханное несчастье нашего города? Разве оно разразилось раньше, чем был оставлен в небрежении небесный глас, возвещавший, что грядут галлы? Разве не осквернили наши послы право народов? Разве не оставили мы этого без внимания, тогда как должны были их выдать? И все из-за безразличия к богам. (8) Мы заплатили столь ужасную цену богам и людям, дабы в своем порабощении, поражении и выкупе явить назидание всему миру. (9) Наконец, и самое несчастье наставляло нас в благочестии: мы бежали на Капитолий, к богам, к престолу Юпитера Всеблагого Величайшего; мы частично укрыли в земле, а частично увезли от вражьих глаз в соседние города наши святыни, и это в то время, как гибло наше собственное имущество; оставленные богами и людьми, мы все же не допустили прерваться нашему священному культу. (10) И потому боги вернули нам отечество, победу, военную славу предков, уже было потерянную. И по их же воле настал для врагов час ужаса, бегства и поражения, поскольку те ослепли от алчности и при взвешивании золота бесчестно нарушили договор».
52. (1) «Вот насколько человеческие дела зависят от почитания или небрежения волей богов. Мы еще только всплываем со дна после того чудовищного крушения, которое наш корабль претерпел по нашей вине. Видя все это, неужто вы не чувствуете, квириты, какое готовите новое кощунство? (2) Наш город заложен в добрый час, при свершении ауспиций. В нем нет ни одного места, которое не было бы исполнено святынь и богов. Для наших торжественных жертвоприношений места установлены с не меньшим тщанием, чем время их проведения. (3) Неужели же, квириты, вы готовы покинуть всех этих богов, как наших общих, так и семейных? Насколько же ваши поступки не похожи на поведение превосходного юноши Гая Фабия, который недавно, во время осады, вызвал восхищение не только у вас, но – не меньшее – и у врагов! Ведь он спустился с Крепости и прошел среди галльских копий, чтобы сотворить на Квиринальском холме жертвоприношения по обычаю рода Фабиев. (4) Так неужели же прилично, не изменив семейным святыням даже и на войне, в мирное время забросить святыни государственные, самих римских богов? Может ли быть, чтобы понтифики и фламины меньше заботились о государственных священнодействах, нежели частное лицо – о родовом установлении? (5) Кто-то может сказать, что, мол, то же самое мы будем исполнять и в Вейях или станем присылать оттуда сюда жрецов – пусть они исполняют. (6) Но ни то ни другое невозможно без нарушения обрядов. Не буду говорить обо всех святынях и обо всех богах вообще – но вот на пиру в честь Юпитера дозволено ли приготовить подушки где бы то ни было, кроме Капитолия[670]? (7) А что сказать о вечном огне Весты, о статуе, что хранится в ее святилище как залог владычества[671]? Что сказать о ваших священных щитах[672], о Марс Градив и ты, о Квирин-отец? Ужель оставить на поругание все эти святыни, из коих одни суть ровесники города, а иные и старше его? Смотрите, какая огромная разница между нами и нашими предками; (8) они завещали нам совершать священнодействия на Альбанской горе и в Лавинии[673], они считали кощунством переносить к нам в Рим обряды вражеских городов, мы же не видим скверны и в том, чтобы свои собственные перенести во вражеский город Вейи.
(9) Вспомним, сколько раз священнодейства возобновлялись из-за того, что была пропущена какая-нибудь часть дедовских обрядов, будь то по неуважению или случайно. А между тем что же послужило к исцелению государства, изнуренного вейской войной, как не возобновление таинств и ауспиций после альбанского чуда? (10) Будто в память о древних заповедях, мы перенесли в Рим и чужеземных богов и учредили новые культы: недавно привезенная из Вей царица Юнона была освящена на Авентине – что за торжественный это был день, как достойно он прошел благодаря великим стараниям матрон! (11) В честь голоса, провещавшего на Новой улице, мы постановили возвести храм Айю Локутию. Мы добавили к числу других празднеств Капитолийские игры и по предложению сената учредили для них новую коллегию. (12) Зачем же все это было нужно, если мы собрались оставить город Рим одновременно с галлами, если окажется, что в течение стольких месяцев мы выдерживали осаду на Капитолии не по своей воле, но из-за страха перед неприятелем?
(13) До сих пор мы говорили о святынях и о храмах. А что же сказать о жрецах? Неужто вам даже в голову не приходит, какой грех здесь совершается? Ведь весталки могут жить лишь в одном месте, откуда их ничто не стронет, кроме падения Города; для фламина Юпитера кощунственным считается провести вне Города даже одну ночь. (14) Что же, вы собираетесь сделать римских жрецов вейскими? Неужели, о Веста, покинут тебя твои весталки, а фламин своим житьем на чужбине навлечет великий грех на себя и государство?
(15) Далее. Какому забвению, какому небрежению мы предаем те государственные церемонии, что принято производить по свершении ауспиций, – ведь почти все они проводятся внутри померия[674]? (16) Где можно с ауспициями собирать куриатные комиции, которые решают вопросы войны, где устраивать центуриатные комиции, на которых вы избираете консулов и военных трибунов, как не в обычайных местах? Уж не перевести ли и это в Вейи? (17) Или пусть народ с великими неудобствами собирается ради комиции сюда, в город, оставленный богами и людьми?»
53. (1) «Но, с другой стороны, нам возражают, что хоть такое деяние и несет с собой скверну, хоть оно и не может быть ничем искуплено, но сами обстоятельства заставляют покинуть опустошенный пожарами и разрушениями Город и переместиться в совершенно невредимые Вейи. (2) Ведь тогда неимущим плебеям не придется терпеть неудобств, заново отстраиваясь здесь. Вот такой выдвигают предлог, но я думаю, квириты, что степень его искренности понятна и без моих объяснений. Вы же помните, что этот самый вопрос о нашем переселении в Вейи поднимался еще до прихода галлов, а ведь тогда-то Город был цел, еще не было разрушено ни одно здание, ни частное, ни общественное. (3) Смотрите, трибуны, сколь различны мое и ваше предложения: вы считаете, что если раньше это было не обязательно, то теперь, во всяком случае, это нужно сделать; я же, наоборот, – не удивляйтесь, пока не услышите, что я имею в виду, – если тогда, при полной невредимости Города, я готов был бы согласиться на переселение, то теперь уж, во всяком случае, нахожу невозможным покинуть эти руины. (4) Ведь тогда причиной нашего перемещения в завоеванный город стала бы победа, что вовеки служило бы источником славы для нас и наших потомков. Теперь же подобное переселение способно принести славу лишь галлам, нам же – жалость и презрение. (5) В нас будут видеть не победителей, оставивших отечество, но побежденных, которые не смогли его сохранить: все это заставило нас бросить родные пенаты и бежать в добровольное изгнание из того города, который мы не сумели уберечь. Значит, пусть все видят, что галлам под силу разрушить Рим, а римлянам его восстановить не под силу? (6) Не хватает только, чтобы новые орды галлов явились сюда – известно ведь, сколь огромно их число, – и сами поселились в городе, который они некогда захватили, а вы покинули! Может, вы и это готовы попустить? (7) А если переселиться в Рим возжелают не галлы, а ваши давнишние враги – эквы, вольски? Может, пусть они будут римляне, а вы вейяне? Или вы предпочитаете, чтобы это место оставалось хоть пустыней, да вашей, чем снова стало городом, но вражьим? Мне и то и другое кажется равно кощунственным. Неужели вы допустите до такого бесчестья, до такого поношенья только оттого, что вам лень строиться? Пусть в целом городе не осталось никакого жилья, (8) которое было бы лучше и удобнее, чем знаменитая лачуга зиждителя нашего[675]; не лучше ли ютиться в хижинах, подобно пастухам и селянам, но средь отческих святынь и родных пенатов, нежели всем народом отправиться в изгнание? (9) Наши пращуры, пришельцы и пастухи, за короткий срок выстроили сей город, а ведь тогда на этом месте не было ничего, кроме лесов и болот, – теперь же целы Капитолий и Крепость, невредимы стоят храмы богов, а нам лень отстроиться на погорелом. Если бы у кого-нибудь одного из нас сгорел дом, он бы возвел новый, так почему же мы всем миром не хотим справиться с последствиями общего пожара?»
54. (1) «Ну а допустим, что в Вейях – по злому ли умыслу или случайно – займется пожар; ветер, как это случается, раздует пламя, и оно пожрет большую часть города. Мы сызнова начнем приискивать, куда бы переселиться, в Фидены ли, в Габии ли или в какой другой город, так что ли? (2) Вот до какой степени отсутствует привязанность к земле отчизны, к той земле, что мы зовем матерью. Любовь к родине для нас зависит от построек и бревен. (3) Сделаю вам одно признание, хоть и не следовало бы опять возвращаться к вашей несправедливости и моему несчастью. Когда я был на чужбине, то всякий раз, что мне вспоминалась родина, пред мысленным взором вставали вот эти холмы, поля, Тибр, весь этот привычный для глаза вид и это небо, под коим я родился и взращен. Квириты, если все это дорого и вам, пусть лучше ваша любовь теперь понудит вас остаться здесь, чем потом, когда вы уйдете, иссушит тоской. (4) Не без веских причин боги и люди выбрали именно это место для основания города: тут есть и благодатные холмы, и удобная река, по которой можно из внутренних областей подвозить различное продовольствие, а можно принимать морские грузы. Есть тут и море, оно достаточно близко, чтобы пользоваться его выгодами, но все же и достаточно далеко, чтобы не подвергать нас опасности со стороны чужеземных кораблей. Наша область лежит в середине Италии – это место исключительно благоприятствует городам. И доказательством тут являются самые размеры столь молодого города, как Рим: (5) ведь он вступил всего лишь в свой триста шестьдесят пятый год. А между тем, квириты, вы уже способны вести затяжные войны против стольких исконных племен и никто не сравнится с вами на войне – ни вольски, союзные с эквами и имеющие столько сильных укреплений, ни вся Этрурия, обладающая такой сухопутной и морской мощью и занимающая всю Италию от моря до моря, ни отдельные города, о которых я и не говорю.
(6) А коль скоро это так, то что за напасть, зачем от добра искать добра? Ведь доблесть ваша еще может вместе с вами перейти в другое место, но удача отсюда не стронется. (7) Здесь находится Капитолий, где некогда нашли человечью голову, и знамение это было истолковано так, что сие место будет главным во всем мире, что станет оно средоточием власти. Здесь находятся богиня Ювента[676] и бог Термин, которые, к вящей радости ваших отцов, не допустили, чтобы их сдвинули с места, даже когда другие святыни, согласно птицегаданию, были удалены с Капитолия. Здесь огонь Весты, здесь щит, упавший с неба. Здесь все боги, которые благосклонны к вам, доколе вы сами здесь».
55. (1) Передают, что вся речь Камилла произвела большое впечатление, но особенно та ее часть, в которой говорилось о богобоязненности. Однако последние сомнения разрешила одна к месту прозвучавшая фраза. Дело было так. Через некоторое время сенат собрался в Гостилиевой курии для обсуждения этого вопроса. Случилось, что тогда же через форум строем прошли когорты, возвращавшиеся из караула. На комиции центурион воскликнул: (2) «Знаменосец, ставь знамя! Мы остаемся здесь». Услыхав эту команду, сенаторы поспешили из курии, восклицая, что они признают ее счастливым предзнаменованием. Столпившиеся тут же плебеи одобрили их решение. После этого законопроект о переселении был отклонен, и все сообща приступили к отстраиванию Города. (3) Черепицу предоставляло государство; каждому было дано право добывать камень и древесину, кто откуда хочет, но при ручательстве за то, что дом будет построен в течение года. (4) Спешка не позволяла заботиться о планировании кварталов, и все возводили дома на любом свободном месте, не различая своего и чужого. (5) Тут и кроется причина того, почему старые стоки, сперва проведенные по улицам, теперь сплошь и рядом оказываются под частными домами и вообще город производит такое впечатление, будто его расхватали по кускам, а не поделили.
Книга VI
1. (1) О деяниях римлян от основания Города и до его пленения[677] – сперва при царях, затем при консулах и диктаторах, при децемвирах и трибунах с консульской властью, о внешних войнах и междоусобных смутах – обо всем этом я рассказал в первых пяти книгах; (2) дела эти за крайнею своею давностью неотчетливы и словно едва различимы в отдалении: ведь мало и редко в ту пору случалось прибегать к письменам, хотя только они надежно сберегают память о свершившемся; а если даже и содержалось что в записях понтификов и в других государственных или частных памятных книгах, то большею частью погибло в пожаре Рима. (3) Далее же речь пойдет о предметах, более известных и достоверных: о деяниях мирного и военного времени от второго устроения возрожденного Города, как бы пустившего от старых корней побеги, и пышнее, и плодоноснее прежних.
(4) Так вот, в первое время, кем Город воздвигся[678], тем и держался; и оплотом этим был первый человек в сенате Марк Фурий, которому лишь по миновании года[679] позволено было сложить диктатуру[680]. (5) Созывать комиции для избрания должностных лиц на следующий год не было доверено военным трибунам, при которых Город был захвачен врагами; власть перешла к интеррексам. [389 г.] (6) Граждане тогда неотступно заняты были работами и трудами по восстановлению Города, а меж тем народный трибун Гней Марций назначил суд над Квинтом Фабием, едва только тот ушел с должности, – за то, что, отправленный к галлам для переговоров, Фабий принял участие в сражении вопреки принятому между народами праву. (7) От суда его освободила смерть, столь своевременная, что многие считали ее добровольной. (8) Междуцарствие началось: интеррексом сделался Публий Корнелий Сципион, а за ним – Марк Фурий Камилл; он назначил военными трибунами с консульской властью Луция Валерия Публиколу повторно, Луция Вергиния, Публия Корнелия, Авла Манлия, Луция Эмилия, Луция Постумия.
(9) Вступив в должность после междуцарствия, они прежде всего позаботились вместе с сенатом о делах божественных. (10) Во-первых, они приказали собрать уцелевшие договоры и законы, то есть законы двенадцати таблиц[681] и кое-какие царские законы[682]: иные из них были даже обнародованы, но уставы о священнодействиях ревниво утаивались понтификами[683], чтобы страхом богов держать толпу в подчинении. (11) Тогда-то и были обсуждены и определены заповедные дн[684]: пятнадцатый день до секстильских календ[685], отмеченный двумя поражениями (в этот день у Кремеры[686] пали Фабии, а потом и при Аллии была позорная и гибельная для Города битва), назвали по последнему поражению «аллийским днем» и отметили запретом на все общественные и частные предприятия. (12) Некоторые полагают, что тогда же было постановлено воздерживаться от священнодействий в следующий за идами день, ибо именно в день, следующий за квинтильскими идами, военный трибун Сульпиций не угодил богам своим жертвоприношением и через три дня римское войско, не снискавшее благоволения богов, стало жертвой врага. Говорят, отсюда этот запрет был перенесен и на дни, следующие за календами и нонами[687].
2. (1) Но не долго пришлось совещаться о том, как восстановить государство после столь тяжелого несчастья. (2) Там вольски, старые недруги, взялись за оружие, чтобы истребить самое имя римлян, а там, в Этрурии, по словам торговых людей, старшины всех племен заключили военный сговор у алтаря Волтумны[688], (3) и наконец, подоспела новая страшная весть: отпали латины и герники, вот уже почти сто лет после битвы у Регилльского озера[689] никогда не нарушавшие верной дружбы с римским народом[690]. (4) И вот, когда отовсюду встало столько ужасов и обнаружилось, что римское имя страдает не только от ненависти врагов, но и от презрения союзников, (5) решено было защитить государство под тем же водительством, под которым его отвоевали, и назначить диктатором Марка Фурия Камилла. (6) Сделавшись диктатором, он назначил начальником конницы Гая Сервилия Агалу и, закрыв суды[691], произвел набор младших возрастов; даже стариков, у которых еще доставало силы, он распределил после присяги по центуриям. (7) Набранное и вооруженное войско разделил он на три части. Одну выставил против Этрурии подле Вей, другой приказал стать лагерем перед Римом (8) и во главе ее поставил военного трибуна Авла Манлия, а во главе выступавших на этрусков – Луция Эмилия. Третью часть он сам повел на вольсков и недалеко от Ланувия (это место зовется «У Меция») осадил их лагерь. (9) Вольски начали войну из презрения к противнику, полагая, что почти все боеспособные римляне перебиты галлами, но, едва начав поход, от одного слуха о Камилле пришли в такой страх, что огородили себя валом, а вал – свезенными отовсюду деревьями, чтобы враг нигде не мог подойти к укреплениям. (10) Камилл, приметив это, приказал зажечь внешнюю ограду, а тут как раз поднялся сильный ветер в сторону врагов (11), и он не только раздул пожар, но и ворвался в лагерь языками пламени, помутил врага чадом, дымом, треском горящей древесины, так что захватить вал, обороняемый воинами Вольского стана, римлянам было проще, чем преодолеть пылавшую наружную ограду. (12) Когда враг был рассеян и истреблен, а лагерь взят приступом, диктатор отдал воинам добычу, тем более приятную, чем менее ожидавшуюся, ибо вождь не был склонен к щедрости. (13) Затем, в погоне за бегущими опустошив все Вольские земли, он вынудил вольсков к сдаче на семидесятом году войны[692]. (14) Победителем перешел он из края вольсков в область эквов, которые сами замышляли войну, разбил их войско при Болах, сразу захватив единым ударом и лагерь и город.
3. (1) Вот так обстояли дела в тех краях, где обретался Камилл, водитель римского народа; но с другого края подступала грозная напасть: (2) Этрурия, вооружившись едва ли не вся, осаждала Сутрий, город союзников римского народа. Когда их послы явились в сенат с просьбою помочь в беде, то добились сенатского наказа диктатору в скорейшее время идти на помощь сутрийцам. (3) Однако отсрочка уповательной подмоги оказалась непосильна осажденным в их злосчастии, и вот из-за малочисленности граждан, изможденных трудом, бдением, ранами, вновь и вновь поражавшими одних и тех же, они сговорились с врагом о сдаче и без оружия, кто в чем был, скорбною гурьбою оставляли свои пенаты. Тут-то как раз появился Камилл с римским войском. (4) Когда причитающая толпа бросилась к его ногам и речи старейшин о постигшем город погибельном бедствии стали заглушаться плачем женщин и детей, которые брели вослед изгнанникам, Камилл приказал сутрийцам поберечь слезы; ибо это этрускам несет он горе и плач. (5) Оставив жителей Сутрия с небольшою охраною, приказывает он воинам оставить там же поклажу и иметь при себе только оружие. Итак, с войском, готовым к бою, подходит он к Сутрию, как и думал заранее, в самую удачную пору: все в беспорядке, у стен никакой стражи, ворота настежь и разбредшиеся по городу победители тащат добычу из чужих домов. (6) Так Сутрий был взят второй раз в тот же день: победители-этруски повсюду гибли от нового врага, не имея времени собраться, сомкнуть ряды и взяться за оружие. (7) Когда они – каждый сам по себе – устремились к воротам, чтобы как-нибудь вырваться в поле, ворота оказались закрытыми – об этом заранее распорядился диктатор. (8) Тут иные хватились оружия, иные, кого переполох застал вооруженными, стали созывать своих, чтобы вступить в бой, который и впрямь разгорелся бы из-за отчаяния врагов, если бы глашатаи, разосланные по городу, не выкликнули приказ сложить оружие, щадить безоружных и применять силу только к вооруженным. (9) Тогда даже те, кто изверился в последней надежде и готов был к отчаянному сопротивлению, обрели надежду сохранить жизнь, все сплошь побросали оружие и, безоружные (что было безопаснее), сдались врагу. (10) Столь великое множество пленных ради охраны пришлось разделить, а город еще до ночи был передан сутрийским жителям целым и невредимым, без малейшего военного ущерба, так как его не брали силой, а сдавали по уговору.
4. (1) Камилл триумфатором воротился в Город, победивши разом в трех войнах[693]. (2) Перед колесницей он гнал великое множество пленных этрусков, и при продаже с торгов[694] за них дали столько денег, что их, после того как с матронами расплатились за золото[695], еще хватило на изготовление трех золотых чаш, (3) о которых известно, что до пожара на Капитолии[696] они с посвятительной надписью Камилла стояли в храме Юпитера у ног Юноны.
(4) В тот же год [388 г.] были приняты в гражданство те из вейян, капенцев и фалисков[697], которые во время этих последних войн перешли к римлянам; этим новым гражданам были нарезаны поля. (5) Сенат постановил также отозвать из Вей тех, кто, ленясь строиться в Риме, перебрался в Вейи, заняв там пустующие дома[698]. Сперва поднялся ропот недовольных приказом; днем позже для тех, кто не возвратится в Рим, была назначена смертная казнь, сразу превратившая ожесточенную толпу в разобщенных людей, послушных каждый своему страху. (6) А как только в Риме стало многолюднее, там сразу стали строиться – и с помощью государства, которое помогало в расходах, и заботой эдилов[699], которые следили за этими работами как за общественными, да и сами частные лица ради своей же пользы торопились закончить стройку. Новый город поднялся в течение года.
(7) В конце года состоялись выборы военных трибунов с консульской властью. Избраны были Тит Квинкций Цинциннат, Квинт Сервилий Фидена (в пятый раз), Луций Юлий Юл, Луций Аквилий Корв, Луций Лукреций Триципитин, Сервий Сульпиций Руф. (8) Они повели одно войско в страну эквов (не для войны – те признавали себя побежденными, – но из ненависти, чтобы опустошить их страну и не оставить сил для новых замыслов) и другое – в область Тарквиний. (9) Там были взяты силою этрусские города Кортуоза и Контенебра. При Кортуозе сражения не было: внезапно появившись, римляне захватили ее при первом же кличе и натиске – город был разграблен и сожжен. (10) Контенебра выдержала несколько дней осады, но непрерывный бой, не прекращавшийся ни днем ни ночью, сломил жителей. Ведь римское войско разделилось на шесть частей, которые бились поочередно по шесть часов каждая, а малолюдство осажденных заставляло их выставлять всегда тех же изнуренных непрерывным сражением граждан; они наконец уступили, и римляне смогли войти в город. (11) Трибунам хотелось забрать добычу в казну, но они запоздали с приказанием, а тем временем добыча уже досталась воинам и отнять ее можно было только ценою ненависти.
(12) В тот же год, чтобы город возрастал не частными только строениями, и Капитолий вымостили каменными плитами – дело приметное и среди нынешнего великолепия города.
5. (1) Уже и народные трибуны, пока граждане заняты были строительством, пытались обсуждением земельных законов собрать побольше людей на свои сходки. (2) Говорили о надеждах на Помптинскую область, которая только тогда, после поражения, нанесенного вольскам Камиллом, стала прочным владением римлян. (3) Жаловались, что области этой знать угрожает гораздо больше, чем прежде вольски: те только делали набеги на нее, пока были силы и оружие; (4) а знатные люди стремятся незаконно завладеть общественными землями, и если эта область не будет разделена прежде, чем они все захватят, то там не найдется места для простого народа. (5) Это не слишком возбудило плебеев, малочисленных на форуме из-за строительных работ и по той же причине лишенных средств и потому не думавших о земле, для освоения которой не было сил.
(6) Государство полнилось благочестием, а после недавнего поражения и вожди стали очень богобоязненны – итак, чтобы возобновить птицегадание, объявили междуцарствие. Интеррексами были один за другим Марк Манлий Капитолийский, Сервий Сульпиций Камерин, Луций Валерий Потит. (7) Последний сразу провел выборы военных трибунов с консульской властью. Избраны были Луций Папирий, Гай Корнелий, Гай Сергий, Луций Эмилий (повторно), Луций Менений и Луций Валерий Публикола (в третий раз). После междуцарствия они вступили в должность.
(8) В тот же год [387 г.] по обету за галльскую войну Тит Квинкций, жрец-дуумвир, освятил храм Марсу[700]. К трибам добавлено еще четыре, составленных из новых граждан: Стеллатинская, Троментинская, Сабатинская, Арниенская – число триб достигло двадцати пяти.
6. (1) Луций Сициний, народный трибун, завел речь о Помптинской области уже при большем стечении народа, притом больше, чем ранее, желавшего получить землю. (2) В сенате было подано предложение начать войну с герниками и латинами, но это отложили из-за заботы о более важной войне, так как Этрурия взялась за оружие. (3) Управление перешло к Камиллу, военному трибуну с консульской властью, и пяти его сотоварищам: Сервию Корнелию Малугинскому, Квинту Сервилию Фидене (избранному в шестой раз), Луцию Квинкцию Цинциннату, Луцию Горацию Пульвиллу и Публию Валерию. (4) В начале года [386 г.] граждане отвлеклись от забот об этрусской войне, так как внезапно явилась толпа беженцев из Помптинской области с известием, что жители Антия взялись за оружие и что латинские города послали свою молодежь на эту войну. (5) Латины утверждали, что это вовсе не общее их решение и что они только позволили охотникам невозбранно воевать, где те захотят. (6) Но уже никакой войной не пренебрегали. Итак, сенат возблагодарил богов, что Камилл в должности, ибо, будь он частным лицом, его пришлось бы назначить диктатором. Сотоварищи же его говорили, что, если явится угроза войны, править всеми делами должен один человек, (7) что они намерены свою власть подчинить власти Камилла и что никто из них не думает, будто понижен в старшинстве, ибо все они признали старшинство этого мужа. Сенат похвалил трибунов, а сам Камилл в смущении поблагодарил. (8) Он сказал, что отныне тяжкое бремя возложено на него римским народом, который избрал[701] его в четвертый раз, великое бремя – сенатом, столь высоко его оценившим, и величайшее – столь для него почетным подчинением товарищей по должности, (9) а потому, если может быть что-нибудь еще добавлено к его трудам и стараниям, он превзойдет себя и приложит все силы, чтобы с таким единодушием высказанное о нем высокое мнение сограждан никогда не изменилось. (10) Что же до войны с Антием, то здесь, сказал он, больше угроз, чем действительной опасности; однако же, по его мнению, следует не только ничего не бояться, но и ничем не пренебрегать, ибо (11) Рим окружен завистью и ненавистью соседних народов и соответственно у государства должно быть больше вождей и больше войска. (12) «Тебя, Луций Валерий, – сказал он, – я решил взять с собою на антийцев как соучастника власти моей и решений. (13) Ты, Квинт Сервилий, выжидай со вторым войском, снаряженным и обученным, и стой лагерем у Города, следя, не взволнуется ли, как это недавно было, Этрурия, или на случай бовых беспокойств, если вдруг подступят латины и герники; я уверен, что ты поведешь дело так, чтобы быть достойным отца, деда, себя самого и твоих шести трибунатов. (14) Третье войско пусть Луций Квинкций наберет из слабосильных[702] и стариков для охраны Города и укреплений. Луций Гораций пусть позаботится о доспехах, дротиках, о припасах и прочем, чего требует военное время. (15) Тебя, Сервий Корнелий, мы, твои сотоварищи, назначаем блюстителем этого государственного совета, стражем благочестия, собраний, законов и всех вообще городских дел». (16) Все поблагодарили его – каждый за свою часть в порученном деле; Валерий, назначенный быть соучастником власти, добавил, что будет чтить Марка Фурия как диктатора, а сам будет при нем как начальник конницы; (17) поэтому, каково общее упование на единовластного полководца, такою же пусть будет надежда и на исход войны. Обрадованные сенаторы радостно восклицали, что обрели добрые надежды на ход войны, на будущий мир и на все течение государственных дел, (18) ибо не будет у государства нужды в диктаторе, если оно имеет должностными лицами мужей, столь единых в душевном согласии, равно готовых повиноваться и повелевать и несущих свою долю в общую славу, а не урывающих каждый только хвалу для себя.
7. (1) Закрыв суды и проведя набор, Фурий и Валерий двинулись к Сатрику, где жители Антия сосредоточили не только вольскских бойцов из вновь подросшего поколения[703], но и огромные силы латинов и герников, не имевших потерь в людях благодаря долгому миру, и эти новые враги, присоединившиеся к старым, смутили дух римского войска. (2) Когда центурионы доложили Камиллу, как раз в это время ровнявшему строй, что воины в смущении, за оружие берутся вяло, лагерь покидают медленно и неохотно, а кое-где даже слышится: «Каждому придется сражаться с сотней врагов! Этакую толпу и безоружную трудно сдержать, не то что вооруженную!» – (3) то полководец вскочил на коня и, познаменно объезжая боевые порядки, обратился к ним с такой речью: «Что приуныли, воины? Что это за необычная медлительность? Или не знаете вы противника, не знаете меня или себя? Разве неприятель не есть лишь оселок для доблести вашей и славы? (4) Под моим водительством справили вы тройной триумф после тройной победы над этими самыми вольсками, и над эквами, и над Этрурией[704], не говоря уж о том, что Фалерии и Вейи взяты вами и вами же разбиты в полоненном отечестве галльские полчища[705]. (5) Потому ли ныне не признаете вы меня вождем, что уже не от диктатора, но от военного трибуна[706] услыхали призыв к бою? Но я не домогаюсь этой величайшей над вами власти, и вы должны видеть во мне только меня самого и ничего кроме. Диктаторская власть никогда не придавала мне духа, так же как изгнание его не отняло. (6) Итак, все мы – все те же; и если мы отдадим этой войне то же, что и прежним войнам, давайте и теперь ждать того же исхода. Через миг начнется схватка и каждый сделает, чему научен, к чему привык: вы победите, они побегут».
8. (1) Тут был подан знак к бою, Камилл спешился и, схватив за руку ближайшего знаменосца, потащил его с собой на врага, прикрикивая: «Вперед воин! Вперед со знаменем!». (2) При виде самого Камилла, уже слабого по старости лет для телесных трудов и все же идущего навстречу врагу, все разом с боевым кличем ринулись вперед, возглашая «За полководцем!». (3) Передают даже, что по приказу Камилла знамя было брошено в гущу вражеской рати, чтобы знаменный ряд поспешил его отбить. (4) Тут-то антийцы дрогнули и не только голова их строя, но даже обозники оказались охвачены ужасом. (5) Не столь смущала вольсков сила неприятеля, сколько устрашал их вид самого Камилла, едва являлся он перед ними: (6) ведь, куда бы он ни двинулся, нес он с собою верную победу. Это стало особенно очевидно, когда, поспешно вскочив на коня и схвативши щит пехотинца, он устремился к левому крылу, уже почти разбитому, и одним своим присутствием исправил ход сражения, указав бойцам на победу других частей. (7) Конец дела был уже предрешен, но врагов была такая толпа, что и сами они не могли пуститься в бегство, и убивать их оставалось воинам, уже без того утомленным долгою сечей; однако тут нежданно хлынул ливень и прекратил не столько сражение, сколько верное обретение победы. (8) Тут был дан отбой, и наступившая бестревожная ночь завершила для римлян войну, ибо латины и герники, бросив вольсков, разбежались по домам, стяжав от дурных своих намерений столь же дурную участь. (9) Вольски же, увидав, что брошены они теми, кто уговорил их возобновить войну, оставив лагерь, закрылись в стенах Сатрика. Камилл сперва начал окружать город валом и осаждать по всем правилам военного искусства, (10) но, видя, что те не пытаются вылазками препятствовать работам, понял, что боевого духа у противника меньше, чем думал он, ожидая нескорой победы, и посоветовал воинам не изнуряться долгими трудами, как при осаде Вей: победа уже в руках. Охваченные радостным задором, воины со всех сторон с лестницами кинулись на приступ, и город был взят. Вольски, бросив оружие, сдались.
9. (1) Меж тем мысль вождя устремлялась к большему – к Антию: этот город у вольсков главный, он же и затеял последнюю войну. (2) Но такую крепкую столицу никак нельзя было взять без больших приготовлений, без метательных и иных машин, – и вот Камилл, оставив при войске сотоварища по должности, отправился в Рим побудить сенат разрушить Антий. (3) Посреди его речи (богам, думаю, было угодно сохранить долее государство антийцев) вдруг входят послы Непета и Сутрия, прося помощи против этрусков и упомянув, что недолго ждать случая оказать эту помощь. Вот куда вместо Антия обратила судьба усилия Камилла. (4) Действительно, римляне всегда заботились отстоять и сохранить эту область, а этруски, стоило им замыслить что-нибудь новое, старались занять ее, ибо эти места расположены как раз при входе в Этрурию, словно ее врата. (5) Поэтому сенат постановил, чтобы Камилл, оставив Антий, вступил в войну с этрусками и дал ему для того городские легионы[707], во главе которых был Квинкций. (6) Хотя Камилл предпочел бы испытанное и привыкшее к его власти войско, он нисколько не возражал, только попросил в сотоварищи Валерия. В область эквов на смену Валерию были посланы Квинкций и Гораций. (7) Фурий[708] и Валерий, выступив из Рима в Сутрий, нашли часть города уже взятой этрусками; а в другой части жители, перегородив улицы, с трудом сдерживали вражеский натиск. (8) Приход римской подмоги и знаменитое как среди союзников, так и среди врагов имя Камилла поддержали колеблющихся защитников и дали время ввязаться в битву. (9) Итак, разделив войско, Камилл приказывает сотоварищу с отрядом подступить к крепости со стороны, занятой врагом, – не столько в надежде взять город приступом, сколько ради того, чтобы отвлечь врагов и облегчить ратный труд усталым горожанам, а самому улучить время и войти в город без боя. (10) Лишь только войска, насевшие сразу с двух сторон, осуществили этот замысел, внезапный страх обуял этрусков: они увидели, что и укрепления в осаде и внутри стен враги; тут они в страхе гурьбою бросились вон через те ворота, которые одни оказались неосажденными. (11) Бегущих избивали и в городе, и по полям. Большинство их перебили внутри укреплений воины Фурия. Воины Валерия, более скорые в преследовании, лишь с наступлением ночной темноты положили конец резне. (12) Отбив Сутрий и воротив его союзникам, войско двинулось к Непету, который этруски заняли по условиям сдачи и уже вполне им завладели.
10. (1) Казалось, что взятие этого города потребует большего труда не только потому, что он весь находился в руках врагов, но и потому, что сдан был предателями из самих горожан. (2) Тем не менее было решено отправить посольство к старейшинам Непета, чтобы те отложились от этрусков и предпочли соблюсти договор на верность римскому народу, о котором сами просили[709]. (3) Когда оттуда пришел ответ, что жители ни в чем не властны, что этруски держат стены и охраняют ворота, то сперва горожанам пригрозили разорением полей. (4) Затем, коль скоро клятва при сдаче города оказалась для непетян сильнее союзной клятвы, войско, собрав в окрестностях хворост, двинулось к укреплениям; заполнив вязанками ров, воины приставили к стенам лестницы и с первым же кличем натиском взяли город. (5) Тут же его жителям было приказано, чтобы сложили оружие, а воинам велено было безоружных щадить; этрусков же перебили и вооруженных и безоружных. Потом зачинщиков сдачи города обезглавили; невиновному большинству все возвратили; в городе оставили охрану. (6) Так, отбив у врага два союзных города, трибуны с великою славой воротились с победоносным войском в Рим.
В тот же год от латинов и герников потребовали объяснения и спросили, почему в течение этих лет они, вопреки установленному порядку, не поставляли воинов. (7) От многолюдного собрания обоих народов был получен ответ, что нет в этом общей вины и нет общего замысла в том, что кое-кто из молодежи сражался на стороне вольсков, (8) но они все претерпели наказание за дурной выбор, ибо ни один из них не вернулся; воинов же они не поставляли из-за постоянного страха, внушаемого вольсками: не могут они, сколько ни воюют, справиться с этой напастью, соседствующей с ними бок о бок, с еще новыми войнами сверх тех, какие уже были. (9) Доложенный ответ сенаторы признали достаточною причиной для войны, но время для войны сочли неподходящим.
11. (1) В следующем году [385 г.] при трибунах с консульской властью Авле Манлии, Публии Корнелии, Тите и Луции Квинкциях Капитолийских, а также Луции Папирии Курсоре и Гае Сергии, избранных во второй раз, завязалась тягостная внешняя война и еще более тягостная внутренняя распря: (2) война, к которой добавилось отпадение латинов и герников, была начата вольсками, а распрю против всех ожиданий затеял муж патрицианского рода и доброй славы Марк Манлий Капитолийский. (3) Всех лучших мужей в государстве он высокомерно презирал и одному лишь завидовал – Марку Фурию, столь выдающемуся и почестями, и доблестями. (4) Не мог он спокойно снести, что Фурию нет равных среди должностных лиц, нет подобных в глазах войска, что он превосходит всех и даже товарищи по избранию кажутся при нем не товарищами, а служителями, а между тем (если бы кто-нибудь захотел это правильно оценить!) Марк Фурий не мог бы освободить отечество от осадивших его врагов, если бы прежде он, Манлий, не сохранил Капитолия и Крепости, (5) ведь Фурий напал на галлов во время дележа золота, когда те душою уже чаяли мира, тогда как он, Манлий, отразил их вооруженных и ломящихся в Крепость. И Марку Фурию приходится уделять от славы своей равную долю каждому из воинов, которые вместе с ним победили, его же, Манлия, победе никто из смертных не сопричастен. (6) Распалив душу подобными размышлениями, будучи по некоторому душевному изъяну горяч и необуздан, да притом, заметив, что влияние его среди сенаторов не так велико, как требовала бы, по его мнению, справедливость, (7) он первый изо всех отцов стал угождать народу[710], стал совещаться о государственных делах с плебейскими должностными лицами, стал обвинять сенаторов в преступлениях, завлекать простой народ внешним своим обаянием, а не советом и так предпочел широкую славу доброй. (8) Не довольствуясь земельными законами, кои всегда были у народных трибунов поводом к смутам, он стал подрывать доверие в ссудном деле[711], ведь и впрямь, говорил он, стрекало долгов тем острее, что грозит не только нищетой и бесчестьем, – оно страшит свободного человека темницею и оковами. (9) Действительно, задолженность была очень велика из-за строительства – дела, разорительного даже для богачей. В таких-то условиях война с вольсками, сама не легкая и отягченная отпадением латинов и герников, была использована как предлог, чтобы домогаться верховной власти. (10) Однако помыслы Манлия о перевороте лишь побудили сенат назначить диктатора. Итак, избранный диктатором Авл Корнелий Косс назначил начальником конницы Тита Квинкция Капитолийского.
12. (1) Диктатор видел, что более упорная борьба предстоит внутри, а не вне государства; однако то ли из-за спешки с войной, то ли из-за надежды, что победа и триумф придадут силы его диктатуре, но только он набрал войско и двинулся в Помптинскую область, куда, как он слышал, вторглось вольское войско. (2) Не сомневаюсь, что читателям, уже пресыщенным столькими книгами о непрестанных войнах с вольсками, уже приходило в голову то же, что казалось чудом и мне, пересказывающему писателей, более близких к времени событий: откуда после стольких поражений брались воины у вольсков и эквов? (3) Но так как об этом древние молчат, могу ли я сам высказать что-нибудь, кроме собственного моего мнения, которое у каждого в его догадках может быть особым? (4) Правдоподобным кажется, что для возобновления войны использовались все новые и новые поколения молодежи, подраставшие в промежутках, как и ныне, при воинских наборах у римлян; а может быть, войско не всегда набиралось из одних и тех же племен, хотя войну начинало всегда то же самое племя; (5) а может быть, неисчислимое множество свободных людей населяло тогда эти места, где сейчас источник пополнения войск невелик, а римские рабы – единственное спасение от обезлюдения. (6) Во всяком случае, все писатели согласны в том, что, несмотря на недавнее поражение от Камиллова войска, воинство у вольсков было огромное; а еще к ним примкнули латины, герники, кое-кто из жителей Цирцеи и даже римские переселенцы из Велитр.
(7) В тот же день диктатор построил лагерь, а назавтра, совершив птицегадание и заклав жертву, испросил благоволения богов и, радостный, вышел к воинам, которые с первым светом стали, согласно приказу, вооружаться при виде уже выставленного знака к битве[712]. (8) «Воины! – сказал он. – Победа за нами, если боги и их прорицатели что-нибудь видят в будущем[713]. Сложим копья у ног и обнажим мечи, как подобает мужам, твердо уверенным в победе и идущим в рукопашный бой с противником, их недостойным. Итак, я велю: неукоснительно блюсти строй, ни на шаг не сходить с места и твердо встретить натиск врага. (9) А когда, тщетно метнув дротики и копья, они кинутся на вас, неподвижно стоящих, тут пустите в дело мечи; пусть каждый помнит, что боги помогают римлянам и посылают их в бой при счастливых предзнаменованиях. (10) Ты, Тит Квинкций, выжидай и сдерживай конницу до начала схватки, а как увидишь, что рукопашная задержала врагов и строй их дрогнул, тогда добавляй страху конницей и с налету рассеивай боевые порядки противника». И всадники и пехота сражались, как велено: вождь не обманул легионы, а счастье – вождя.
13. (1) Полчища врагов, на глаз сравнив оба строя и полагаясь только на свою численность, безрасчетно вступили в бой и безрасчетно же отступили. (2) Лихие только в метании копий, в кличе и первом натиске битвы, они не сумели устоять перед мечами, рукопашною схваткой, перед видом одушевленного яростью неприятеля. (3) Первые ряды нападавших были отражены, и ужас достиг даже обозных отрядов, а тут добавила страху конница. Боевые порядки нарушились во многих местах, все пришло в движение, и строй уподобился мятущимся волнам. А когда передовые бойцы пали и тут уже каждый начал думать о надвигающейся смерти, враги обратились в бегство. (4) Римляне наседают: пока те отступали сомкнутым строем, преследование было делом пехоты, но когда преследователи заметили, что повсюду вражеские воины бросают оружие и рассеиваются по полям, сразу по данному знаку посланы были конные отряды, чтобы не дать всему множеству разбежаться, покуда пехота медлит, добивая врагов поодиночке: (5) достаточно было дротиками и запугиванием препятствовать бегству, конными объездами держать на месте толпу, пока не подоспеет пехота и не покончит с противником, как положено. (6) Бегство и преследование завершились не раньше ночи; в тот же день был взят и разграблен лагерь вольсков; всю добычу, кроме свободных людей, уступили воинам. (7) Больше всего пленных было из латинов и герников, причем отнюдь не все из простого народа, чтобы счесть их сражавшимися за плату, обнаружились тут и знатные молодые люди – это было явное доказательство помощи от их властей враждебным вольскам. (8) Узнаны были и некоторые из жителей Цирцеи, и поселенцы из Велитр. Все они были отосланы в Рим и, допрошенные старейшинами сената, недвусмысленно изъяснили им, как прежде диктатору, каждый измену своего народа.
14. (1) Диктатор держал войско в лагере, меньше всего сомневаясь, что сенат прикажет начать войну[714] с этими народами, когда страшная внутренняя угроза заставила его поспешить в Рим. Со дня на день разгоралась смута, которую неизменный ее зачинщик делал все более опасной. (2) Уже не только речи, но и дела Марка Манлия, направленные по видимости к пользе народной, однако мятежные, обнаруживали со всей очевидностью, что он замыслил. (3) Однажды увидев, как ведут осужденного за долги центуриона, знаменитого своими подвигами, он посреди форума налетел с толпою своих людей, наложил на него руку и стал кричать о высокомерии сенаторов, жестокости ростовщиков и бедствиях народа, о доблестях и участи этого мужа: (4) «Затем ли я спас этой рукою Капитолийскую крепость, чтобы видеть, как гражданина и моего соратника, словно победили галлы, хватают и уводят в рабство и оковы?» (5) Тут же при всем народе он заплатил заимодавцу и, освободив должника от долга, отпустил на волю[715], а тот призывал в свидетели богов и людей, чтобы отблагодарили они Марка Манлия, его освободителя и отца римских плебеев. (6) Центурион, сразу же попав в волнующуюся толпу, еще больше увеличил волнение, показывая рубцы ран, полученных им в вейской, галльской и других позднейших войнах. (7) Он говорил, что, пока воевал, пока восстанавливал разоренный дом[716], он не раз уже выплатил самый долг; но лихва поглотила все, ею он раздавлен; (8) и если он видит белый свет, этот форум и сограждан – это благодаря Марку Манлию; все отеческие благодеяния лишь от него; Марку Манлию он посвятит все оставшиеся свои силы, жизнь и кровь; все, что связано для него с отечеством, с государственными и семейными пенатами, – все это теперь связывает его с одним человеком.
(9) Хотя подстрекаемый этими словами простой люд и так принадлежал одному человеку, Марк Манлий добавил к этому и другое дело, еще более способное возмутить умы. (10) Он назначил к продаже главную часть своего наследственного имущества – поместье под Вейями, объявив: «Квириты, покуда хоть что-то у меня остается, я не потерплю, чтобы кого-либо из вас уводили по приговору суда в кабалу»[717]. Это так воспламенило сердца людей, что, казалось, во всем – в праведном и неправедном – они последуют за этим защитником свободы.
(11) Вдобавок у себя дома, совсем как на сходках, он произносил речи, полные обвинений патрициям; не различая, бросает ли он обвинение истинное или ложное, он заявил, что отцами припрятано галльское золото: мало им владеть общественной землею, они еще и не возвращают общественных денег! Если бы эти деньги были налицо, простой народ мог бы освободиться от долгов. (12) Надежда была заронена, и тотчас стало казаться, что совершено постыдное преступление; ведь золото собирали, чтобы всей общиной откупиться от галлов, для того вносили этот налог – и то же самое золото, отобранное у врагов, перешло в добычу немногих. (13) И вот к Манлию подступают, спрашивая, где сокрыта такая огромная кража, а он откладывает ответ, говоря, что скажет, когда придет время. Все думали только об этом золоте, забыв все остальное, так что стало ясно, что если объявленное правдиво, то велика будет благодарность, а если лживо – то велик будет гнев.
15. (1) При таком-то неопределенном положении дел отозванный от войска диктатор прибыл в Город. На другой день, собрав сенат и достаточно узнав настроения, он запретил сенаторам отходить от него и, окруженный этой толпой, поставил кресло в комиции[718] и послал вестника к Марку Манлию. (2) Вызванный приказом диктатора, Манлий явился на суд с огромной толпою, так как заранее дал знать своим, что предстоит борьба. (3) Как в строю стояли: по одну сторону сенат, по другую – простой народ, обратив взгляды каждый на своего вождя. В наступившей тишине диктатор произнес:
(4) «О если бы во всех других делах я и отцы-сенаторы были так согласны с простым народом, как предстоит, я уверен, согласиться нам в том, что касается тебя и твоего дела, о котором я должен вести розыск! (5) Вижу, ты возбудил в обществе надежду, не нарушая обязательств, погасить долги из галльских сокровищ, якобы сокрытых виднейшими сенаторами. Я не только не стану чинить тебе в этом препятствия, но, прямо напротив, Манлий, прошу тебя: освободи римских плебеев от задолженности и открой нам тех, кто сидит на общинных сокровищах из утаенной добычи[719]. (6) Но, если ты этого не сделаешь, потому ли, что сам ты имеешь долю в этой добыче, или же потому, что навет твой ложен, я прикажу ввергнуть тебя в оковы, я не потерплю, чтобы ты и дальше подстрекал толпу ложной надеждой».
(7) На это Манлий сказал, что теперь ему ясно: диктатор избран не против вольсков, которые лишь тогда враги, когда это выгодно сенаторам, не против латинов и герников, которых ложными обвинениями побуждают взяться за оружие, но против него самого и против римского простого народа. (8) Уже оставив притворную войну, они теперь направляют удар на него, Манлия, уже объявляет диктатор, что даст защиту ростовщикам от плебеев; уже ищет ему вину и гибель за людское благоволение; (9) «Тебя, Авл Корнелий, и вас, отцы-сенаторы, – сказал он, – оскорбляет эта толпа, сопутствующая мне? Что же не уведете ее от меня поодиночке вашими благодеяниями, вступаясь за них, избавляя ваших сограждан от оков, не позволяя уводить их по приговору суда в кабалу. Отчего не поможете чужой нужде из прибытка ваших богатств? (10) Но зачем я вас побуждаю к расходам? Получите оставшиеся долги, только вычтите то, что выплачено в лихву, и толпа вокруг меня уже не будет заметнее толпы вокруг любого другого. (11) Но, спрашивается, почему это я один проявляю заботу о гражданах? Мне нечего ответить, все равно как если бы ты спросил, почему это я один защитил Капитолий и Крепость! Тогда я, как мог, помог всем, теперь буду помогать отдельным людям. (12) Что же касается галльских сокровищ, то это простое в сущности дело непростым делает только ваше дознание. Почему вы спрашиваете о том, что знаете? Почему, если тут нет никакого подвоха, вы приказываете вытряхнуть то, что у вас за пазухой, а не выкладываете этого сами? (13) Чем настойчивее вы приказываете мне обличить ваши обманы, тем больше я опасаюсь, чтобы вы не отняли и зрение у наблюдающих. Итак, не я должен указать вам на вашу добычу, но вы должны быть принуждены ее выложить».
16. (1) Диктатор приказал ему оставить окольные речи и настаивал, чтобы он или доказал справедливость своего обличения, или признал бы себя виновным в облыжном обвинении против сената, в разжигании ненависти разговором о мнимой краже. Когда Манлий сказал, что не будет говорить по настоянию своих врагов, диктатор приказал бросить его в оковы. (2) Схваченный посыльным[720], он воскликнул: «Юпитер Всеблагой Величайший, царица Юнона и Минерва и другие боги и богини, насельники Капитолия и Крепости, вы ли позволяете врагам утеснять вашего воина и защитника? Эта десница, коею галлы рассеяны от ваших святилищ, ужели ныне будет в цепях и оковах?» (3) Ничей глаз, ничей слух не мог вынести ужас происходящего. Но государство, полностью повинующееся законной власти, установило для себя нерушимое правило: перед лицом диктаторской силы ни народные трибуны, ни сам простой народ не осмелились ни глаз поднять, ни рта раскрыть. (4) Зато известно, что когда Манлий был ввергнут в темницу, то большая часть простого народа облачилась в скорбную одежду, многие отпустили волосы и бороду и угрюмые толпы бродили у входа в тюрьму.
(5) Диктатор справил триумф над вольсками, но триумф больше способствовал ненависти, чем славе; роптали, что добыт он дома, а не на войне, в честь победы над согражданином, а не над врагом; для полноты торжества не хватало только, чтобы перед колесницей вели Марка Манлия. (6) Мятеж был уже совсем недалек. Ради успокоения умов сенат вдруг добровольно, без чьего-либо требования стал щедрым – приказал вывести в Сатрик поселение в две тысячи граждан, назначив каждому по два с половиной югера земли[721]. (7) Толковали, что дано мало и немногим и что это – плата за преданного ими Марка Манлия, так что мера, принятая сенатом, лишь подстрекнула мятеж. (8) Все заметней делалась толпа Манлиевых сторонников в грязных одеждах, со скорбными лицами подсудимых, а когда диктатор справил триумф и сложил с себя должность, то и языки и мысли людей освободились от страха.
17. (1) И вот уже открыто слышались голоса укорявших толпу: «Всегда вы вашей благосклонностью возносите своих защитников на головокружительную высоту, а затем в решающий момент от них отступаетесь. (2) Так погиб Спурий Кассий[722], звавший народ делить поля, так погиб Спурий Мелий[723], на свои средства отведший голод от уст сограждан, так выдан врагам и Марк Манлий, который возвращал свободу и свет погрязшим в долгах и задавленным ими гражданам. (3) Простой народ откармливает своих вожаков для заклания![724] Такое ли наказание должен был претерпеть консуляр, если он не ответил по кивку диктатора? Положим, прежде солгал он и потому тогда не имел, что сказать; но когда и какому рабу наказаньем за ложь были оковы? (4) Неужели на память не пришла та ночь, которая едва не стала последней и вечной для римского имени?[725] Ни зрелище вереницы галлов, взбирающихся по Тарпейской скале? Ни сам Марк Манлий, каким его видели: во всеоружии, в поту и крови, когда он чуть не самого Юпитера вырвал из вражьих рук? (5) И этого спасителя отечества отблагодарили полуфунтом муки?[726] И он, кого вы сделали почти небожителем и, во всяком случае, соименником[727] Юпитера Капитолийского, терпит оковы в темнице, во тьме влачит дни, подвластные произволу палача? В нем одном достало помощи на всех, а у столь многих не нашлось, чем помочь ему одному!» (6) Уже и по ночам не расходилась толпа и грозила взломать тюрьму, когда вдруг получила то, что собиралась вырвать: сенатским постановлением Марк Манлий был освобожден. Но это не покончило с мятежом, а только дало ему вождя.
(7) В те же дни дан был ответ латинам и герникам, равно как и переселенцам из Цирцей и Велитр; они хотели очистить себя от вины в вольскской войне и просили выдать им пленных, чтобы наказать их по своим законам. Ответ был суровый, особенно переселенцам, так как они, римские граждане, нечестиво злоумыслили против отечества. (8) Не только в выдаче пленных им было отказано, но и в другом (в чем к союзникам все-таки были терпимее): сенат объявил, чтобы они спешили убраться из Города, от лица и с глаз римского народа: их не оградит и посольское право, установленное для чужеземцев, а не для граждан.
18. (1) Мятеж Манлия ширился; к концу года состоялись выборы. Военными трибунами с консульской властью избраны Сервий Корнелий Малугинский (повторно), Публий Валерий Потит (повторно), Марк Фурий Камилл (в пятый раз), Сервий Сульпиций Руф (повторно), Гай Папирий Красс, Тит Квинкций Цинциннат (повторно). (2) В начале года [384 г.] очень удачно и для простого народа и для отцов достигнут внешний мир: для простого народа, так как его не отвлекали набором и он получил надежду одолеть долги, пока имеет такого мощного вождя; (3) для отцов – оттого, что никакие внешние страхи не отвлекали их от целения домашних зол. И вот противостояние обеих сторон стало еще ожесточеннее: до боя было уже недалеко, и Манлий, более решительный и раздраженный, чем прежде, созвав простой народ в своем доме, дни и ночи обсуждает с главарями будущий переворот. (4) В душе, не привыкшей к обидам, гнев разжигало недавнее бесчестье; решимости добавило и то, что диктатор не посмел поступить с ним так, как когда-то Квинкций Цинциннат со Спурием Мелием[728], а также и то, что ненависти за его заточение не только не избежал диктатор, сложивший власть, но даже сенат не смог ее вынести. (5) Всем этим и возгордясь и озлобившись, он подстрекал и так уже распаленные души плебеев: «Доколе[729] вы еще будете пребывать в неведении своей силы? Ведь по воле природы сознают свою силу даже животные. Сочтите по крайней мере, сколько вас и сколько у вас врагов. (6) Сколько было вас, клиентов[730], вокруг одного патрона, столько же будет теперь против одного врага. Даже если бы вы сходились один на один, все равно я думал бы, что вы будете ожесточеннее биться за свободу, чем те – за господство. (7) Только начните войну – получите мир. Пусть увидят, что вы готовы применить силу, – они сами уступят вам право. Нужно или дерзнуть на что-то сообща, или все терпеть одиночками. Доколе вы будете присматриваться ко мне? (8) Я-то никого из вас не покину; но и вы смотрите, как бы не покинуло меня мое счастье. Сам я, ваш защитник, как только врагам заблагорассудилось, стал вдруг ничем, и все вы видели, как уводили в оковы меня, который многих из вас спасал от оков. (9) На что надеяться мне, если враги дерзнут против меня на большее? Ждать ли мне судьбы Кассия и Мелия? Вы правильно делаете, что отвращаете это: «Боги того не допустят!» – но ради меня они никогда не сойдут с небес. Пусть лучше они дадут вам отвагу сопротивляться, как давали ее мне, облаченному и в доспех, и в тогу, чтобы я защищал вас от диких врагов и надменных сограждан. (10) Неужели у столь великого народа так мало присутствия духа, что вы всегда довольствуетесь помощью[731] против ваших недругов и спорите с сенаторами только о том, до какого предела им вами повелевать? Не природою так установлено, но давностью узаконена власть над вами[732]. (11) Почему против внешних врагов вы находите в себе столько духа, что полагаете справедливым повелевать ими? Потому что вы привыкли сражаться с ними за господство, а в борьбе против этих людей вы больше испытываете свою свободу, чем отстаиваете ее. (12) Какие бы ни были у вас вожди, какими бы ни были вы сами, до сих пор вы все-таки добивались всего, что требовали, где силою, где вашей удачей. Пора замахнуться на большее. (13) Испытайте только свое счастье и меня, достаточно, я надеюсь, счастливо испытанного. Легче поставите вы повелителя над сенаторами, чем приставили противоборствующих к повелителям[733]. (14) Нужно растоптать диктатуры и консульства, чтобы римский простой народ смог поднять голову. Так будьте же здесь и препятствуйте судам о долгах. Я объявляю себя патроном простого народа; этим именем облекла меня моя забота о вас и верность вам[734]. (15) Чем более почетным и говорящим о власти будет имя, которым вы назовете вашего вождя, тем сильней будет его помощь вам в достижении желаемого». (16) С этого, говорят, начался разговор о царской власти; но далеко ли пошел он и с кем велся, о том внятных известий нет.
19. (1) Но и сенат со своей стороны совещался об уходе плебеев[735], на сей раз – в частный дом, расположенный к тому же – случайно – внутри Крепости, и об опасности, угрожающей свободе. (2) Большинство кричало, что нужен новый Сервилий Агала[736], который не стал бы раздражать общественного врага приказом бросить его в оковы, а сразу прекратил бы междоусобие, поразив одного гражданина. (3) Прибегают к решению, более мягкому на словах, но смысл имевшему тот же: да блюдут должностные лица, чтобы от пагубных умыслов Марка Манлия государство не потерпело какого ущерба[737]. (4) Тогда трибуны с консульской властью и народные трибуны (ибо и они, понимая, что один конец будет для их власти и для общей свободы, передались на сторону сената), – тогда все они совещаются, что делать. (5) Никто не представлял себе никакого выхода, кроме насилия и убийства, а это повело бы, конечно, к отчаянной борьбе; но тут вмешались народные трибуны Марк Менений и Квинт Публилий: (6) «Зачем же мы превращаем в борьбу отцов и простого народа то, что должно быть борьбой государства против одного зловредного гражданина? Зачем нападаем мы на плебеев и на него, когда безопаснее, чтобы сами плебеи напали на него так, чтобы он рухнул под бременем собственных сил. (7) Мы намерены призвать его к суду. Что менее любо народу, чем царская власть? Как только эта толпа увидит, что борются не с нею, защитники превратятся в судей; и разглядев, что обвинители – из плебеев, обвиняемый – патриций, а на рассмотрении дело о царской власти[738], они ни о ком не станут радеть больше, чем о своей свободе».
20. (1) При всеобщем одобрении Марку Манлию назначают день суда. Когда это свершилось, простой народ сперва взволновался, особенно как увидел обвиняемого в скорбной одежде, (2) а с ним – не только никого из патрициев, но даже из родных и близких, даже братьев его Авла и Тита Манлиев. А ведь до того дня не случалось, чтобы в такой беде близкие не сменили бы одежд: (3) когда бросили в оковы Аппия Клавдия[739], то и Гай Клавдий – его противник, и весь род Клавдиев был в трауре. А тут явный сговор, чтобы сгубить мужа, который первым из отцов перешел к народу.
(4) Что же, когда наступил день суда, было поставлено в вину подсудимому (кроме многолюдных сходок, мятежных речей, щедрот и ложного обличения), что относилось бы собственно к делу о стремлении к царской власти? Этого я не нахожу ни у одного писателя. (5) Не сомневаюсь, что обвинения были немалыми, коль скоро заминка плебеев, отсрочившая приговор, произошла не из-за сути дела, а из-за места[740], где вершился суд. Это надобно отметить, чтобы знали люди, сколькие и какие подвиги мерзкая страсть царствовать сводит не только к неприятному, но даже к ненавистному. (6) Говорят, он вывел около четырехсот человек, за которых он внес отсчитанные без роста деньги, чье имущество сохранил, кого не дал увести в кабалу по приговору. (7) К тому же он не только перечислил свои военные награды, но и вынес их для обозрения: до тридцати доспехов с убитых врагов, до сорока даров от полководцев, среди которых бросались в глаза два венка за взятие стен и восемь за спасение граждан[741]. (8) И самих этих граждан, спасенных от врагов, привел, а отсутствовавшего среди них Гая Сервилия, начальника конницы, назвал по имени. А когда в своей речи, блистательной по возвышенности предмета, он стал вспоминать в словах, под стать самим подвигам, о том, что совершил на войне, то обнажил грудь, исполосованную рубцами от ран, полученных на войне, (9), и поминутно оглядываясь на Капитолий, призывал Юпитера и других богов в помощь своей судьбе и молил, чтобы тот дух, какой они вдохнули в него на благо римскому народу при защите Капитолийской крепости, – чтобы тот же дух даровали они римскому народу в решительный для него, Манлия, час; и он взывал ко всем и каждому, чтобы судили его, оборотясь к Капитолию и Крепости, чтобы быть лицом к бессмертным богам.
(10) Народ созван был по центуриям на Марсовом поле, и, как только обвиняемый, простирая руки к Капитолию, обратил мольбы от людей к богам, трибунам стало ясно, что, если они не освободят взоры людей, осыпанных его благодеяниями, от этого памятника его славы, справедливые обвинения не найдут места в их душах. (11) Итак, отсрочив день суда, назначили народное собрание в Петелинской роще за Флументанскими воротами[742], откуда Капитолий не виден. Там наконец обвинение победило, и суд скрепя сердце вынес суровый приговор, нежеланный даже для судей. (12) (Впрочем, некоторые говорят, будто он был осужден дуумвирами[743], избранными для расследования о преступлении против отечества.) Трибуны сбросили его с Тарпейской скалы: так одно и то же место стало памятником и величайшей славы одного человека[744] и последней его кары. (13) Вдобавок мертвого обрекли на бесчестие: во-первых, общественное: так как дом его стоял там, где теперь храм и двор Монеты[745], то предложено было народу, чтобы ни один патриций не жил в Крепости и на Капитолии[746]; (14) во-вторых, родовое: решением рода Манлиев определено никого более не называть Марк Манлий.
Такой конец обрел муж, чье имя, родись он не в свободном государстве, было бы прославлено[747]. (15) Вскорости, когда опасности от него уже не было, в народе пожалели о нем, вспоминая только его доблести. Даже явившаяся вскоре чума, за отсутствием других причин для такого несчастья, казалась многим карой за казнь Марка Манлия: (16) Капитолий осквернен кровью своего спасителя, и богам не по сердцу, что почти у них на глазах свершена казнь того, кто их храмы исторг из вражьих рук.
21. (1) За чумой последовал неурожай, молва о том и другом разошлась повсюду, и в следующем году [383 г.] пришла многосторонняя война – при военных трибунах с консульской властью Луции Валерии (в четвертый раз), Авле Манлии (в третий раз), Сервии Сульпиции (в третий раз), Луции Лукреции (в третий раз), Луции Эмилии (в третий раз), Марке Требонии. (2) Кроме вольсков, словно судьбою данных римскому воину для постоянного упражнения в военном деле, кроме жителей Цирцей и Велитр, издавна замышлявших отпадение, и кроме латинов, бывших на подозрении, внезапно возникли еще новые враги – жители Ланувия, самого до той поры верного города. (3) Отцы сочли, что причина тому презрение, порожденное тем, что слишком уж долго оставалось безнаказанным отпадение их сограждан – жителей Велитр, и сенат постановил в скорейшем времени предложить народу объявить им войну. (4) А чтобы простой народ охотнее шел воевать, назначили коллегию пяти для разделения Помптинского поля и коллегию трех для выведения поселения в Непет. (5) Затем уж было предложено народу принять решение о войне[748]; и, вопреки сопротивлению народных трибунов, все трибы приказали быть войне. (6) Войну подготовили в том же году, но из-за чумы не выступили в поход. Это промедление давало поселенцам время упросить сенат, и большинство уже склонялось к отправке в Рим умоляющего посольства; (7) но, как это бывает, угроза обществу сплелась с угрозой отдельным лицам – и зачинщики отпадения от римского народа, испугавшись, что их как единственных виновников выдадут во искупление гнева римлян, отвратили поселенцев от мирных намерений. (8) Стараниями этих зачинщиков не только местный сенат[749] отменил посольство, но они же подбили немалую часть простого народа к грабительским набегам на Римскую область. Эта новая обида перечеркнула все надежды на мир. (9) В этом году впервые возник слух и об отпадении пренестинцев; но сенат столь спокойно ответил обличавшим их жителям Тускула, Габиний и Лабик, чьи поля подвергались набегам, что стало ясно: сенат недостаточно верит этим обличениям, просто не желая, чтобы они оказались правдою.
22. (1) В следующем году [382 г.] Спурий Папирий и Луций Папирий – новые военные трибуны с консульской властью – повели наконец легионы против Велитр, оставив четырех коллег-трибунов – Сервия Корнелия Малугинского (в третий раз), Квинта Сервилия, Гая Сульпиция и Луция Эмилия (в четвертый раз) – для защиты города или на случай какого-нибудь нового движения со стороны Этрурии: там все внушало подозрения. (2) У Велитр произошло сражение с пренестинскими вспомогательными силами, которых было едва ли не больше, чем самих поселенцев. Оно оказалось удачным; близость города и побудила врага поспешить с бегством, и предоставила ему единственное прибежище. (3) От осады города трибуны воздержались: как потому, что дело было сомнительным, так и оттого, что не собирались этой войной уничтожать поселение. С вестями о победе в Рим к сенату посланы донесения, где более резко говорилось о врагах-пренестинцах, нежели о врагах из Велитр. (4) И вот постановлением сената и по приказу народа объявлена была война пренестинцам; а те, соединившись с вольсками, на следующий год взяли приступом упорно оборонявшееся римское поселение Сатрик и гнусно выместили победу на пленных. (5) Римляне тяжело перенесли это и избрали Марка Фурия Камилла военным трибуном в шестой раз, дав ему в товарищи Авла Постумия и Луция Постумия Регилльских и Луция Фурия с Луцием Лукрецием и Марком Фабием Амбустом.
(6) Вольскская война поручена была Марку Фурию Камиллу вне порядка[750]; в помощь ему по жребию достался из трибунов Луций Фурий, не столько во благо государству, сколько ради вящей хвалы сотоварищу, и общественной, так как Камилл восстановил положение, пошатнувшееся от безрассудства Луция Фурия, и личной, ведь Камилл и хотел не столько славы, сколько благодарности товарища за исправленный промах. (7) Камилл уже был в преклонных летах, и на комициях только единогласие народа удержало его от клятвенного отказа с обычной ссылкою на нездоровье; однако в крепкой груди его еще жил бодрый дух, ум его был вполне здрав и, хотя от гражданских дел он почти отошел, войны занимали его. (8) Набрав четыре легиона по четыре тысячи человек и назначив войску на другой же день быть у Эсквилинских ворот, он выступил к Сатрику. Там его ожидали не слишком обеспокоенные завоеватели города, полагаясь на некоторое численное превосходство. (9) Заметив приближение римлян, они тотчас выступили навстречу боевым строем, чтобы ни малой отсрочкой не подвергать свое дело опасности: казалось, что в таких обстоятельствах римлянам ввиду их малочисленности бесполезно будет искусство их замечательного вождя, на которое они только и полагаются.
23. (1) Столь же воодушевлены были и римское войско, и второй вождь: готовность вступить наудачу в сражение сдерживали только разум и власть одного мужа, который, затягивая войну, искал случая разумом помочь недостатку сил. (2) Тем усерднее наступали враги и уже не только развернули строй перед своим лагерем, но вышли на середину поля и, поднося свои знамена почти к самому вражескому валу, выставляли напоказ надменную самоуверенность силы. (3) Римские воины с трудом переносили это, а особенно второй военный трибун Луций Фурий, несдержанный по молодости и нраву, а вдобавок еще заразившийся неосновательной самонадеянностью толпы. (4) Он даже подстрекал без того возбужденных воинов и пытался уменьшить силу влияния своего сотоварища, попрекая его чем единственно мог – старостью, твердя, что войны существуют для молодых[751], что вместе с телом крепнет или увядает дух, что даже тот, кто привык с ходу, первым натиском брать города и укрепления, (5) из ретивого бойца стал сиднем и вот сидит за валом, теряя время. Надеется ли он на подход своих или на отход вражеских сил? (6) Что это за случай, что за время, что за место, на которые он рассчитывает, чтобы изобретать ловушки? Замыслы старика явно остыли и оцепенели! (7) Довольно он пожил, довольно ему и славы; но как терпеть, что с одним смертным телом дряхлеют силы государства, которому подобает бессмертие?
(8) Такими речами привлек он к себе весь лагерь, а когда повсеместно потребовали битву, сказал: «Марк Фурий, мы не можем сдержать порыв воинов, а враг, ободряемый нашим промедлением, налетает с несносной уже надменностью. Уступи один всем и разреши убедить тебя советом, чтобы ты скорее победил в войне». (9) На это Камилл ответил: все войны до сего дня велись по его единоличному замыслу, и ни сам он, ни римский народ не раскаивался ни в приказах его, ни в удаче. Теперь он знает, что имеет товарища, равного ему по власти и правам и превосходящего его цветом лет. (10) Итак, хотя во всем, что относится к войску, он привык не подчиняться, а повелевать, но ограничивать власть товарища он не может; пусть тот с помощью богов делает то, что считает благом для государства! (11) А для своего возраста он просит снисхождения – не быть в первых рядах; но от обязанностей, какие на войне найдутся для старика, он не уклонится и только молит у бессмертных богов, чтобы случай не дал повод хвалить его благоразумие.
(12) Но не вняли ни люди – спасительному совету, ни боги – благочестивым мольбам. Распорядитель битвы выстроил передовой строй, Камилл разместил подкрепления и поставил мощный заслон перед лагерем, а сам расположился на возвышенности, как зритель, поглощенный исходом чужого замысла[752].
24. (1) В первой стычке, лишь раздался звон оружия, враг отступил, заманивая, но не устрашась. (2) В тылу врага между строем и лагерем был пологий склон, и, имея народу в достатке, враг оставил в лагере несколько мощных отрядов, выстроенных в полном вооружении, чтобы они ринулись в гущу уже завязавшегося боя, когда противник подойдет к валу. (3) Римлян, слишком увлекшихся преследованием отступающего врага, заманили на опасное место, очень удобное для задуманного нападения. И вот уже страх овладел только что побеждавшими, и под натиском нового врага на покатости склона римский строй дрогнул. (4) Наседают свежие силы вольсков, высыпавшие из лагеря; другие, прекратив мнимое бегство, тоже вступают в бой. Римские воины уже не отступали, а, позабыв о недавнем рвении и давней славе, обращали тыл и в беспорядочном бегстве устремлялись к лагерю, (5) как вдруг Камилл, подсаженный окружающими на коня[753], быстро двинул навстречу им подкрепления, закричав: «Так вот она, битва, которую вы вытребовали! Кого – человека, божество – кого можете вы винить? Это только ваше безрассудство и ваша трусость! (6) Вы шли за другим вождем, ступайте теперь за Камиллом и победите, как привыкли под моим водительством. Что уставились на вал и лагерь? Ни одного из вас они не примут, кроме как с победой!»
(7) Стыд сначала остановил бегущих; затем когда увидели, что знаменосцы идут на врага в боевом строю, а вождь, не только славный столькими триумфами, но и почтенный летами, появляется среди первых знамен, где наибольший труд и опасность, то каждый бранит себя и других и по рядам проносится в громком крике взаимное ободрение. (8) Другой трибун тоже не стоял сложа руки; Камилл, восстанавливая пеший строй, послал товарища к всадникам, и он, не бранясь (не ему было это делать, ведь сам он был виноват), но перейдя от приказа к просьбам, молил всех и каждого, чтобы отпустили вину ему, виновному в неудаче этого дня: (9) «Хотя товарищ мой не соглашался и противился, я вверился общему безрассудству, а не его благоразумию. При любом повороте вашего счастья увидит Камилл свою славу, но если битва не восстановится, – то я, в довершение беды, судьбу разделю со всеми, а позор будет на мне одном». (10) При нетвердой линии войск признано было за лучшее оставить коней и в пешем строю ударить на врага. И они идут, сверкая оружием, исполнены мужеством, туда, где, как было видно, пешим войскам приходилось особенно худо. Ни вожди, ни воины не дают себе никакой передышки в сражении. (11) Исход был предопределен силой доблести; и вольски, только что отступавшие в притворном страхе, теперь обращаются в настоящее бегство. Немалая часть их была перебита в самой битве и после – при бегстве, а прочие – в лагере, который был взят одним натиском; но пленных все-таки было больше, чем убитых.
25. (1) Когда при переписи пленных опознали нескольких тускуланцев[754], их отделили от прочих и привели к трибунам, а на допросе они сознались, что сражались по решению общины. (2) Камилл, обеспокоенный опасностью войны со столь близкими соседями, сказал, что тотчас поведет пленных в Рим, чтобы сенаторы не остались в неведении об отпадении тускуланцев от союза; а над лагерем и войском это время пусть начальствует товарищ, если он согласится. (3) Один день послужил тому уроком не предпочитать своих решений лучшим; однако в войске никто, и даже он сам, не думал, что его вину, ввергнувшую общее дело в такую опасность, Камилл снесет столь спокойно. (4) И как в войске, так и в Риме было твердым общее мнение, что война против вольсков велась с переменным успехом, что вина несчастного сражения и бегства – на Луции Фурии, а заслуга счастливого сражения – целиком за Марком Фурием.
(5) После того как пленных ввели в сенат, а отцы-сенаторы постановили преследовать тускуланцев войной и поручили эту войну Камиллу, тот попросил для себя одного помощника; когда же ему разрешили выбрать из товарищей, кого захочет, он, вопреки всеобщим ожиданиям, выбрал Луция Фурия. (6) Такая снисходительность и с товарища его сняла бесчестие, и ему доставила огромную славу. Но войны с тускуланцами не произошло; упорным миролюбием они отвратили римскую силу, которую не могли сдержать оружием. (7) Когда римляне вошли в их пределы, тускуланцы на пути их не снялись с мест, не забросили обработку полей; открыв городские ворота, навстречу полководцам вышли многочисленные граждане в тогах[755]; продовольствие для войска предупредительно подвозилось в лагерь из города и с полей. (8) Камилл, став лагерем у ворот и желая знать, господствует ли внутри стен тот же мирный порядок, какой он видел на полях, (9) вошел в город и увидел, что двери открыты и в отпертых лавках все выложено на виду, а усердные ремесленники заняты каждый своим делом, и школы оглашаются голосами учеников, и улочки полны людей, и среди прочей толпы дети и женщины спешат кто туда, кто сюда, кому куда надобно. (10) Ничто и нигде не походило не только на страх, но даже на удивление. Он осматривал все вокруг, ища взглядом, где же война. (11) Но нигде не заметно было никакого следа припрятанной вещи или, наоборот, вытащенной по обстоятельствам времени; все находилось в таком нерушимо мирном спокойствии, что едва ли, казалось, сюда мог дойти даже слух о войне.
26. (1) И вот, побежденный выдержкой врагов, Камилл приказал им созвать свой сенат. «До сих пор, – сказал он, – только вы одни, тускуланцы, нашли настоящее оружие и настоящую силу, чтобы тем защитить все свое от гнева римлян. (2) Идите в Рим к сенату; отцы-сенаторы рассудят, чего вы более заслужили: наказания за прежнее или снисхождения за нынешнее. Я не стану предвосхищать милость государственного благодеяния, но вы получите от меня возможность молить о милости, а на ваши мольбы сенат даст ответ по своему усмотрению».
(3) Когда тускуланцы явились в Рим и скорбный сенат еще недавно верных союзников появился в преддверии курии, отцы-сенаторы были взволнованы и тотчас же приказали ввести их, уже тут скорее гостеприимно, чем враждебно[756]. (4) Тускуланский диктатор так держал речь: «Когда вы, отцы-сенаторы, объявили нам войну и пришли с войной, то, какими вы видите нас сейчас стоящими в преддверии вашей курии, настолько же вооруженные и подготовленные мы вышли навстречу вашим полководцам и легионам. (5) Таков обычай наш и народа нашего; таким он был и пребудет вечно, разве что когда-нибудь мы примем оружие от вас и за вас. Мы благодарны вашим вождям и войскам за то, что они больше верили глазам, чем ушам[757], и там, где не было ничего враждебного, ничего такого и сами не сделали. (6) Мира, который мы сохранили, мы домогаемся от вас; молим, да обратите войну туда, где она есть; а мы безоружными испытаем, что может ваше оружие против нас, если должно такое испытание претерпеть. Таков наш дух – да сотворят его боги счастливым и благочестным. (7) Что же касается обвинений, под впечатлением которых вы объявили войну, то (хотя и бесполезно опровергать на словах изобличенное на деле), будь даже они справедливы и признай мы их, мы чувствуем себя в безопасности, когда повинились столь явно. Пусть погрешают против вас, лишь бы вам подобало всегда так наказывать!»
(8) Вот что примерно сказали тускуланцы. Мир они получили тотчас же, а немного позднее и право гражданства. Легионы от Тускула были отведены.
27. (1) Отличившийся рассудительностью и доблестью в волькской войне, удачей в тускуланском походе, тут и там – редким терпением и снисхождением к сотоварищу, (2) Камилл оставил должность по избрании военных трибунов следующего года [380 г.]: Луция и Публия Валериев (Луция в пятый раз, Публия в третий), Гая Сергия (в третий раз), Луция Менения (повторно), Публия Папирия и Сервия Корнелия Малугинского.
(3) Нужны были в этом году и цензоры, особенно из-за неопределенных слухов по поводу долгов; народные трибуны злонамеренно преувеличивали общий итог, а преуменьшали его те, кому выгодно было представлять дело так, будто выплаты страдают более от недобросовестности, чем от несчастья должников. (4) Избраны были цензорами Гай Сульпиций Камерин и Спурий Постумий Регилльский, но уже начатое дело было прервано за смертью Постумия, так как дать цензору другого товарища было противно благочестию[758]. (5) Поэтому Сульпиций отказался от должности; избраны были другие цензоры, но, как оказалось, огрешно и они не исправляли должность; избирать же цензоров в третий раз было бы противно благочестию, коль скоро в этом году боги как будто бы не принимали цензуры. (6) Но народные трибуны твердили, что это – непереносимое глумление над плебеями: просто сенат избегает обнародовать записи, свидетельствующие об имуществе каждого, так как не хочет, чтобы обнаружилась сумма долгов, которая показала бы, что одна часть граждан задавлена другою, а между тем обремененный долгами простой народ толкают навстречу все новым и новым врагам. (7) Повсюду, уже без разбора, ищут войн: гоняют легионы от Антия к Сатрику, от Сатрика к Велитрам, оттуда в Тускул. Уже латинам, герникам, пренестинцам грозят войной из ненависти скорей к гражданам, чем к врагам; лишь бы держать плебеев в войске, не дать им передохнуть в Городе, не дать им на досуге вспомнить о свободе, побывать на сходках, где они могли бы иногда слышать голос трибунов, стремящихся облегчить долги и покончить с прочими несправедливостями. (8) Если в душе простого народа еще сохранилась память об отеческой свободе, он не потерпит, чтобы кто-то из римских граждан был закабален за долги или чтобы назначили набор, покуда обследование долгов и рассмотрение мер по их уменьшению не позволят каждому знать, что его, что чужое, останется ли у него свободным хотя бы тело, или же и оно обречено оковам.
(9) Награда, обещанная за мятеж, тотчас и вызвала мятеж, ибо и к кабале присуждали многих, и сенат из-за слухов о пренестинской войне постановил набрать новые легионы, а тут и тому и другому стали препятствием и помощь трибунов, и единодушие народа: (10) трибуны не позволяли уводить приговоренных должников, а молодежь не записывалась в войско. Сенаторов в это время заботило даже не столько взыскание с задолжавших, сколько набор войска: в самом деле, уже приходили вести о том, что враги вышли из Пренесты и остановились в габийских полях. (11) Но и этот слух еще подстрекнул трибунов к борьбе, а не отвратил от нее; и только война, вплотную придвинувшаяся к самым стенам, смогла погасить мятеж в Городе.
28. (1) Ибо когда пренестинцам сообщили, что в Риме совсем не набрали войска, не назначили никакого вождя, что отцы и простой народ обратились друг против друга, (2) то пренестинские полководцы, усмотрев в этом верный случай, быстрыми переходами, попутно опустошая поля, придвинули знамена к самым Коллинским воротам. (3) Полное смятение настало в Городе. По зову к оружию люди сбегаются на стены и к воротам и, обратясь наконец от мятежа к войне, избирают диктатора – Тита Квинкция Цинцинната, (4) а он назначает начальником конницы Авла Семпрония Атратина. Лишь только прошел слух об этом, враги сразу отступили от стен, а римская молодежь беспрекословно подчинилась приказу: столь велик был страх перед диктатурой.
(5) Пока в Риме шел набор войска, враги раскинули стан неподалеку от реки Аллии; опустошая оттуда всю окрестность, они похвалялись между собой, что заняли роковое для римлян место; (6) быть здесь такому же ужасу и бегству, какое было в галльскую войну. Ведь если римляне боятся даже дня, освященного запретом и отмеченного именем этого места[759], насколько же больше Аллийского дня устрашатся они вновь самой Аллии, памятника такого для них разгрома! Перед глазами у них будут свирепые лица галлов, а в ушах – звуки галльской речи. (7) Так, предаваясь пустым размышлениям о пустых вещах, они вверили свои надежды счастью места[760]. Римляне же, напротив, достаточно знали, что, где бы ни находились враги-латины, это те, кого они продержали сто лет в ненарушаемом мире, победив у Регилльского озера; (8) а место, запомнившееся поражением, скорее побуждало их смыть память об этом позоре, чем внушало страх, будто есть какая-то земля, роковая для их побед; (9) больше того, если бы сами галлы нагрянули на то же место, римляне бились бы так, как некогда в Риме, вызволяя отечество, как на следующий день они бились у Габий[761], где кончилось тем, что уже ни один враг, который побывал в римских стенах, не вернулся домой с вестью о победе или поражении.
29. (1) С такими чувствами оба войска достигли Аллии. Римский диктатор, увидев перед собою врагов, выстроившихся и изготовившихся к бою, сказал: «Смотри, Авл Семпроний: недаром, полагаясь на счастье места, стали они у Аллии! Да не дадут им бессмертные боги ни более верной надежды, ни более существенной помощи! (2) А ты лучше положись на оружие и на боевой дух и, пустивши коней во весь опор, ударь в середину вражеского строя, а когда они придут в замешательство, я нападу на них с легионами. Будьте с нами боги, свидетели договора, и отметите, как должно и за вас, оскорбленных вероломством, и за нас, обманутых вашим именем!»
(3) Пренестинцы не выдержали ни конного боя, ни пешего. С первым натиском и первым кличем ряды их расстроились, а затем, когда их строй нигде уже не мог устоять, они обратили тыл и, объятые страхом, пронеслись даже мимо собственного лагеря, остановив беспорядочное бегство только в виду Пренесты. (4) Там, собрав разбежавшихся, они заняли место, которое можно было поспешно укрепить, ведь если бы они укрылись в городских стенах, то римляне немедленно выжгли бы поля и, опустошив все вокруг, приступили к осаде. (5) Но когда, разграбив лагерь у Аллии, пришли победоносные римляне, то враги оставили и это укрепление: и вот, не чувствуя себя в безопасности даже тут, заперлись они в стенах Пренесты. (6) Под началом пренестинцев было еще восемь городов – по ним и прошлась война; взяв их один за другим без большого боя, римляне повели войско на Велитры – взяли и их. (7) Тогда подступились к Пренесте, зачинщику войны, – взят был и этот город – не силой, а по условиям сдачи.
(8) Тит Квинкций, победив единожды в битве, взяв силой два вражеских лагеря и девять городов, приняв сдачу Пренесты, возвратился в Рим и, справляя триумф, поместил на Капитолии вывезенную из Пренесты статую Юпитера Императора. (9) Он поставил это приношение между храмами Юпитера и Минервы, в память о своих подвигах укрепив под ним доску; на ней были вырезаны примерно такие письмена: «Юпитер и все боги даровали, чтобы диктатор Квинкций занял девять городов»[762]. (10) На двадцатый день после избрания он сложил с себя диктатуру.
30. (1) Затем прошли выборы военных трибунов с консульской властью, причем выбраны были поровну патриции и плебеи [379 г.]. (2) Из отцов – Публий и Гай Манлии с Луцием Юлием; из плебеев – Гай Секстилий, Марк Альбиний и Луций Антистий.
(3) Манлии, которые родовитостью превосходили плебеев, а влиянием Луция Юлия, вне порядка – без жеребьевки, без соглашения с сотоварищами – получили командование в войне с вольсками, о чем сами впоследствии сожалели, как и поручившие им это дело сенаторы. (4) Манлии послали когорты за продовольствием, не произведя разведки; когда же обманом им было сообщено, будто эти когорты окружены, они, даже не задержав мнимого свидетеля, который их одурачил (это был враг-латин, прикинувшийся римским воином), поспешно кинулись на помощь и сами угодили в западню. (5) И пока там, на невыгодной позиции, сопротивляясь только благодаря своей доблести, воины убивали и умирали[763], враги напали с тыла на римский лагерь, раскинутый на равнине. (6) Вожди по своему безрассудству и неумению загубили дело и там и тут – только доблестью воинов, неизменной и в отсутствие полководца, спасено было то, что осталось от счастья римского народа. (7) Когда донесение об этом пришло в Рим, сперва хотели было назначить диктатора; лишь затем, когда из Вольских земель начали приходить успокоительные вести (выяснилось, что враги не умели использовать победу и выгодный случай), то даже отозвали оттуда войско и вождей, и настал покой, по крайней мере от вольсков. (8) Только под конец года он нарушился, ибо пренестинцы восстали, подбив к этому и племена латинов. (9) В тот же год новые поселенцы были назначены в Сетию по жалобе жителей на нехватку в людях.
Утешением в неудавшейся войне было домашнее спокойствие, которое обеспечили военные трибуны из плебеев, пользовавшиеся среди своих любовью и уважением.
31. (1) Но в самом начале следующего года [378 г.] при военных трибунах с консульской властью Спурии Фурии, Квинте Сервилии (повторно), Луции Менении (в третий раз), Публии Клелии, Марке Горации и Луции Гегании сразу же вспыхнул сильный мятеж. (2) И причиной, и поводом была общая задолженность. Для ее расследования избраны были цензоры Спурий Сервилий Приск и Квинт Клелий Сикул. Но война помешала им заняться делом. (3) Сперва испуганные вестники, а затем и сельчане, бежавшие с полей, дали знать, что легионы вольсков вторглись в римские пределы и повсеместно опустошают поля. (4) Внешняя опасность при общей тревоге ничуть не помешала гражданской смуте; и, напротив того, трибунская власть еще упорнее противилась набору, пока не связала сенат условием, чтобы до конца войны никто не платил бы налогов и не устраивал бы суда о долгах. (5) После такой поблажки простому народу задержки с набором уже не случилось.
Набрав новые легионы, постановили раздельно направить два войска в Вольскую область. Спурий Фурий и Марк Гораций двинулись вправо по берегу моря и к Антию, а Квинт Сервилий и Луций Геганий – влево, в сторону гор и Эцетры. (6) Ни на том, ни на другом направлении враг не попался навстречу. И они опустошали поля – не беспорядочно, как делали это вольски по разбойничьему обычаю, пользуясь раздорами врагов и боясь их доблести, опасливо и суетливо, – это было опустошение правильным войском, в праведном гневе, более тяжкое и своей продолжительностью. (7) Ибо вольски, боясь, как бы тем временем войско не выступило из Рима, совершали набеги на приграничные поля; у римлян, напротив, была даже причина задержаться на вражеской земле, принуждая врага к сражению. (8) И вот, спалив повсюду строения в полях и даже деревни, не оставив ни плодоносного дерева, ни посева, дающего надежду на урожай, уведя добычу – все, что было вне стен, и людей и скот, оба войска возвратились в Рим.
32. (1) Должники получили короткую передышку; но, едва государство почувствовало себя в безопасности от врагов, возобновились многочисленные судебные разбирательства; не только не стало надежды облегчить старую задолженность, но уже появилась и новая из-за налога, учрежденного ради строительства стен из тесаного камня по цензорскому подряду[764]. (2) Простой народ вынужден был склониться под это бремя, ибо не было набора, которому могли бы препятствовать народные трибуны. (3) Уступая влиянию знати, даже пришлось избрать военными трибунами с консульской властью одних патрициев: Луция Эмилия, Публия Валерия (в четвертый раз). Гая Ветурия, Сервия Сульпиция, Луция и Гая Квинкциев Цинциннатов [377 г.]. (4) То же влияние позволило без помехи привести к присяге всю молодежь, чтобы против латинов и вольсков, которые, соединив свои силы, стояли лагерем подле Сатрика, набрать три войска: (5) одно – для защиты Города, другое – чтобы его можно было послать на нежданную войну, если где-нибудь возникнет волнение, а третье, намного более сильное, Публий Валерий и Луций Эмилий повели к Сатрику.
(6) Найдя там войско противника выстроившимся на подходящей местности, они сразу же начали сражение; но хлынувший ливень и сильная буря прервали битву если еще не вполне выигранную, то позволявшую надеяться на успех. На следующий день сражение возобновилось. (7) И довольно долго с мужеством, равным римскому, и таким же счастьем держались главным образом латинские легионы, приобщенные долгим союзничеством к римскому строю. (8) Но брошенная против них конница расстроила их ряды, на нарушенный строй напала пехота – теперь римляне наступали, а враги соответственно отходили: единожды склонив счастье в свою пользу, сила римлян стала необорима. (9) Обращенные в бегство, враги устремились к Сатрику, который был в двух милях, а не к лагерю, но были по большей части перебиты конницей; лагерь взят и разграблен. (10) Из Сатрика ближайшей же ночью после сражения они устремились к Антию походом, подобным бегству; и, хотя римское войско шло почти по пятам, страх оказался проворней, чем гнев, (11) и враги сокрылись за стены прежде, чем римляне сумели потрепать или задержать их замыкающий отряд. Затем несколько дней прошли в опустошении страны: ни у римлян не было достаточного снаряжения для взятия стен, ни у врагов – сил возобновить битву.
33. (1) Тут возник раздор между антийцами и латинами, ибо антийцы, сломленные бедами и укрощенные войною, во время которой они и родились, и состарились[765], хотели сдаться, (2) а латины, лишь недавно отложившиеся от Рима после долгого мира и оттого более рьяные, с нерастраченным пылом настаивали на продолжении войны. Раздор кончился, как только тем и другим стало ясно, что ничто не мешает каждому из них исполнить задуманное. (3) Латины, уйдя, избавились от соучастия в недостойном, как они полагали, мире; антийцы же сдали город и всю округу римлянам, лишь только удалились эти неудобные свидетели их спасительного решения.
(4) Гнев и ярость латинов, которые не могли ни донять римлян войной, ни удержать вольсков под оружием, нашли выход в том, что они выжгли огнем город Сатрик, свое первое прибежище после несчастной для них битвы; они бросали факелы и в жилые, и в священные строения, пока ни одного здания не осталось в городе, кроме храма Матери Матуты[766]. (5) И даже здесь, говорят, удержало их не собственное благочестие, не богобоязненность, но раздавшийся из храма устрашающий голос, грозивший ужасными бедами, коль приблизят богопротивный огонь к святилищу.
(6) В порыве ярости они понеслись к Тускулу, жители которого не только отложились от общего совета латинов, но даже вошли с римлянами в союз и, более того, приняли их гражданство. (7) Нападение было неожиданным – при незапертых воротах, – и с первым кличем взят был весь город, кроме крепости. Горожане с женами и детьми укрылись в крепости и отправили в Рим вестников – уведомить сенат о своем положении. (8) Без промедления, как и подобало римской верности, к Тускулу было послано войско; вели его военные трибуны Луций Квинкций и Сервий Сульпиций. (9) Они увидели, что ворота Тускула заперты, а латины, чувствуя себя сразу и осаждающими и осажденными, там – обороняют стены, тут – осаждают крепость, угрожают и вместе страшатся. (10) Приход римлян переменил настроения тех и других: тускуланцев обратил от великого страха к безмерному воодушевлению, латинов – от почти твердой уверенности, что крепость они вот-вот возьмут, коль скоро овладели уже городом, к слабой надежде как-нибудь спастись самим. (11) Из крепости возвышают крик тускуланцы; еще громче подхватывает его римское войско. Латинов теснят с двух сторон, и они не могут ни сдержать натиск тускуланцев, обрушивающихся на них с высоты крепости, ни остановить римлян, подступающих к стенам и ломающих запоры ворот. (12) Сперва с лестницами взяли стены, затем сбили засовы на воротах; и тогда латины, теснимые двумя противниками с двух сторон, не имея уже ни сил для боя, ни места для бегства, все до единого были перебиты. Отобрав у врагов Тускул, войско вернулось в Рим.
34. (1) Насколько удачнее были войны этого года и насколько спокойно все было на границах, настолько в Городе возрастали день ото дня насилия отцов и страдания простого народа. Сама принудительность платежей мешала должникам расплатиться. (2) Когда уже нечего было отдавать из имущества, должники, присужденные заимодавцам, расплачивались с ними потерей доброго имени и телесными муками: платеж замещался карой. (3) И от этого плебеи – не одна мелкота, но и виднейшие из них – настолько пали духом, что не только не добивались наравне с патрициями военного трибуната (а сколько сил положили, чтобы такое было разрешено!), (4) но даже плебейских должностей никто из людей решительных и опытных уже не искал и не получал. Казалось, что должности, какими считаные годы владели плебеи, снова и уже навсегда захватили патриции. (5) Но тут, как бывает, незначительная причина привела к важным последствиям, словно для того, чтобы не слишком торжествовали противники.
У Марка Фабия Амбуста[767], мужа влиятельного как в своем кругу, так и в простом народе, ценившем его за то, что не презирал он плебеев, были две дочери, старшая замужем за Сервием Сульпицием, младшая – за Гаем Лицинием Столоном, человеком хотя и знаменитым, но из плебеев; уже то, что Фабий не гнушался такого родства, снискало ему расположение простого народа. (6) Случилось как-то, что сестры Фабии сидели в доме Сервия Сульпиция, в то время военного трибуна, и, как обычно, проводили время в разговорах, когда Сульпиций возвратился с форума домой и его ликтор, согласно обычаю, постучал фасками в дверь. Непривычная к этому, младшая Фабия испугалась, насмешив старшую, которая удивилась, что сестра не знает такого обычая. (7) Этот-то смех и уколол женскую душу, податливую для мелочей. Толпа поспешающих следом и спрашивающих, «не угодно ли», показала ей счастье сестрина брака и заставила стыдиться собственной доли, ибо ложному нашему тщеславию претит малейшее превосходство даже в ближних. (8) Когда она, только что уязвленная в самое сердце, расстроенная, попалась на глаза отцу и тот стал расспрашивать: «Здорова ли?» – она хотела скрыть причину печали, не слишком согласную с сестринским долгом и почтением к мужу. (9) Но отец ласковыми расспросами добился, чтобы она призналась: причина ее печали в том, что соединена она с неровней и отдана замуж в дом, куда не войдут ни почет, ни угождение. (10) Утешая дочь, Амбуст приказал ей быть веселее: скоро и она в своем доме увидит такие же почести, какие видит у сестры. (11) Тут он начал совещаться с зятем при участии Луция Секстия, юноши решительного, которому для исполнения надежд недоставало одного – быть патрицианского рода.
35. (1) Повод для задуманных новшеств был очевиден – огромное бремя долгов: только поставив своих людей у кормила власти, плебеи могли бы надеяться облегчить это зло. (2) К осуществлению этой мысли и надо готовиться; ведь плебеи, дерзая и действуя, уже стали на ту ступень, откуда – стоит только приналечь – они могут достичь самых вершин и сравняться с патрициями как в почестях, так и в доблестях. (3) В настоящее время решили они стать народными трибунами, а с этой должности они сами откроют себе путь ко всем другим. (4) И вот, избранные трибунами, Гай Лициний и Луций Секстий [375 г.] предложили законы – все против могущества патрициев и на благо плебеям. Первый закон – о долгах: чтобы, вычтя из суммы долга то, что начислялось как проценты, остаток погашать равными долями три года. (5) Второй – о земельном ограничении: чтобы никто не имел во владении сверх пятисот югеров поля; третий – чтобы не быть выборам военных трибунов и чтобы по крайней мере второй консул избирался из плебеев. Все вместе было огромно, и без ожесточеннейшей борьбы добиться этого было немыслимо.
(6) И вот, когда разом были предложены для обсуждения все блага, непомерная жадность к которым свойственна смертным: земля, деньги и власть, и когда испуганные патриции в страхе суетились на общественных и частных собраниях, то, не умея найти иного средства, кроме права запрета, уже испытанного во многих столкновениях, они против домогательств народных трибунов восстановили их же товарищей. (7) И те когда увидели, что Лициний и Секстий побуждают трибы к голосованию, то, явившись в сопровождении отряда патрициев, не допустили ни чтения предложений, ни всего остального[768], что предшествует народному голосованию. (8) Такие тщетные собрания созывались не раз, и предложения уже считались отвергнутыми, но Секстий сказал: «Это ничего; коль скоро кому-то нравится, что запрещение имеет такую силу, то этим самым оружием мы и защитим плебеев. (9) Действуйте, отцы-сенаторы, назначайте выборы военных трибунов; уж я сделаю так, что не обрадует вас этот возглас „запрещаю!”, который вы ныне, спевшись с нашими товарищами, слушаете с такой радостью». (10) Не напрасно была брошена такая угроза. Состоялись лишь выборы эдилов и народных трибунов – и никакие другие; Лициний и Секстий, став снова народными трибунами, не допустили, чтобы кто-нибудь избран был на курульные должности[769]. Отсутствие должностных лиц длилось целое пятилетие[770]. Плебеи неизменно избирали тех же двух народных трибунов, а они запрещали выборы военных трибунов.
36. (1) По счастью, все войны затихли, и лишь поселенцы из Велитр, радуясь передышке и отсутствию римского войска, совершали набеги в Римскую область и принялись даже осаждать Тускул. (2) Когда тускуланцы, старые союзники и новые сограждане, очень робко запросили помощи, это устыдило не только отцов, но и простой народ. (3) С разрешения народных трибунов интеррекс устроил выборы; избраны были военные трибуны Луций Фурий, Авл Манлий, Сервий Сульпиций, Сервий Корнелий, Публий и Гай Валерии [370 г.]. Однако во время набора простой народ оказался гораздо менее послушен, чем на выборах. (4) С огромными усилиями набрав войско, военные трибуны выступили в поход и не только отбросили врага от Тускула, но, загнав его в собственные стены, (5) осадили Велитры силами, намного превосходящими те, какими был осажден Тускул. Однако, начав осаду, они не успели взять город: (6) прежде оказались избраны новые военные трибуны Квинт Сервилий, Гай Ветурий, Авл и Марк Корнелии, Квинт Квинкций, Марк Фабий [369 г.]. Но и они не совершили под Велитрами ничего достопамятного.
(7) Внутренние же дела клонились к еще большему разладу; ибо, кроме Секстия и Лициния, предложивших законы (их избрали народными трибунами уже в восьмой раз), открыто стал оказывать им поддержку и придумавший эти законы Фабий, военный трибун, тесть Столона. (8) Сперва из числа народных трибунов против законов возражали восемь человек, а теперь осталось только пятеро, да и те, что почти обычно для изменивших своим, закоснели, твердя с чужого голоса только те причины для запрещения, которые им втемяшили еще дома: (9) большая часть плебеев находится-де под Велитрами в войске; и выборы следует отложить до возвращения воинов, чтобы все плебеи проголосовали за полезное для себя. (10) А Секстий и Лициний с частью товарищей и одним военным трибуном Фабием, уже поднаторев за столько лет в умении влиять на настроения простого люда, на виду у всех донимали то одного, то другого из первейших сенаторов вопросами об отдельных предложенных народу законах: (11) решатся ли они требовать для себя разрешения иметь более пятисот югеров пашни, когда простому народу нарезают по два югера на душу, так что один человек владеет наделом почти трехсот граждан, а человеку из простого народа едва хватает места для крова над головой да для будущей могилы? (12) Что нравится им больше – чтобы опутанные долгами плебеи отдавали свое тело в оковы и на истязания или чтобы они выплачивали долг без роста? Нравится ли им, что осужденных ежедневно уводят толпами с форума, что знатные дома полны узников, что всюду, где живет патриций, – частная тюрьма?
37. (1) Выкрикивая все это, недостойное и прискорбное для слуха, перед людьми, боящимися за себя, народные трибуны при негодовании слушателей, превосходившем их собственное, (2) утверждали, что нет другого способа ограничить отцов в захвате земель и в разорении простого народа ростовщичеством, кроме как избрать второго консула из плебеев – стража их свободы. (3) Уже народные трибуны в пренебрежении, так как их власть подрывает запрещениями собственные же силы; (4) не может быть равноправия, когда у военных трибунов прямая власть, а у народных трибунов лишь право помощи; без доступа к высшей власти плебеи никогда не будут иметь равной доли в государственных делах. И недостаточно, как думают некоторые, если при выборах консулов будут брать в расчет и простой народ[771]: не бывать никому из плебеев вторым консулом, если только это не станет обязательным. (5) Разве уже забыли, что с тех пор, как решили избирать вместо консулов военных трибунов, дабы открыть и плебеям самую почетную должность, за сорок четыре года[772] никто из плебеев не был избран в военные трибуны? (6) Кто поверит, что ныне одно из двух имеющихся консульских мест по своей воле уступят народу те, кто привык занимать все восемь мест при выборах военных трибунов? Разве откроют плебеям путь к консульству те, кто так долго не допускал их к трибунату?[773] (7) Чего не добьешься на выборах своим влиянием, того следует добиваться по закону, надо изъять из состязания соперников второе консульское место и оставить его для плебеев: а пока вокруг него идет борьба, оно всегда будет наградой сильнейшему. (8) Теперь уже нельзя говорить, как обычно говорили раньше, будто среди плебеев нету мужей, подходящих для курульных должностей. Разве более нерадиво и безучастно правят нами после трибуната Публия Лициния Кальва, первого военного трибуна из плебеев, чем в годы, когда военными трибунами были только патриции? Напротив, после трибуната некоторые патриции бывали осуждены, а из плебеев – ни один. (9) Да и квесторов[774], как и военных трибунов, несколько лет назад начали избирать из плебеев, и ни одним римский народ не остался недоволен.
(10) Плебеям недостает теперь консульства – это оплот и столп свободы. Удастся его достичь, тогда римский народ может быть уверен: цари из города изгнаны и свобода его прочна. (11) В самом деле, с этого дня у плебеев будет все, чем возвеличены патриции: власть и почести, военная слава, родовитость, знатность[775] – многое для собственной пользы, еще больше – чтобы передать детям.
(12) Когда же увидели, что речи такого рода имеют успех, то стали выдвигать новые предложения: чтобы избирать не дуумвиров[776], а децемвиров по священным делам и чтобы часть их избиралась из плебеев, а часть – из патрициев. Но народное собрание по всем этим вопросам они откладывают до возвращения войск, осаждающих Велитры.
38. (1) Год прошел, прежде чем легионы возвратились от Велитр. Поэтому нерешенный вопрос о законах был отложен до новых военных трибунов; а простой народ избрал вновь тех же народных трибунов, по крайней мере двоих, предложивших законы. (2) Военными трибунами были избраны Тит Квинкций, Сервий Корнелий, Сервий Сульпиций, Спурий Сервилий, Луций Папирий, Луций Ветурий. (3) Тут же в самом начале года [368 г.] борьба вокруг законов обострилась до крайности; и, когда народные трибуны созвали трибы, а сотоварищи внесших законы не смогли помешать им запретом, встревоженные патриции прибегли к двум последним средствам – к величайшей власти и величайшему мужу.
(4) Решили назначить диктатора и назначили Марка Фурия Камилла, а он пригласил Луция Эмилия начальником конницы. Перед лицом этих грозных приготовлений своих противников защитники дела плебеев и сами вооружаются великим мужеством и, назначив народное собрание, зовут трибы к голосованию. (5) Когда диктатор, окруженный толпой патрициев, исполненный гнева и угроз, воссел на форуме, дело пошло обычным порядком – началась борьба среди народных трибунов: между теми, кто предлагал законы, и теми, кто налагал запрещение. Хотя по закону сильней был запрет, но его перекрывало сочувствие народа к самим законам и тем, кто их предлагал. И вот, когда первые трибы сказали «да будет так!», (6) Камилл объявил: «Поскольку, квириты, вами правит уже не власть трибунов, а их произвол и право запрещения, добытое некогда уходом простого народа, вы упраздняете, пользуясь той же силой, какою этого права добились, – я, диктатор, поддержу это запрещение: не столько всего государства ради, сколько ради вашей же пользы, своею властью защищу ваше право помощи, ныне поверженное. (7) Поэтому: если Гай Лициний и Луций Секстий уступят запрещению товарищей, я, как патриций, не вмешаюсь в ход плебейского собрания; но, если, вопреки запрещению, они, как завоеватели, будут навязывать гражданам свои законы, я не потерплю, чтобы трибунская власть губила себя самое».
(8) Когда народные трибуны, пренебрегши предупреждением, ничуть не умерили своего пыла, то Камилл в гневе послал ликторов разогнать плебеев, пригрозив, что, если так продолжится, он приведет всю молодежь к военной присяге и немедля выведет войско из города. (9) Немалый страх он вселил в плебеев, но дух их вождей он только распалил, а не укротил. Тогда, так как дело не двигалось, он отрекся от должности – то ли потому, что был избран огрешно, как пишут некоторые, то ли потому, что по предложению народных трибунов собрание плебеев постановило, что если Марк Фурий сделает что-нибудь диктаторской властью, то быть с него пене в пятьсот тысяч ассов. (10) Думаю, что напугали его скорее дурные знамения при выборах, чем небывалое постановление, – в это заставляет меня поверить как характер самого Камилла, так и то, что тотчас вместо него назначен был диктатором Публий Манлий (11) (а зачем было его назначать для такой борьбы, в которой сам Марк Фурий был побежден?), и то, что тот же самый Марк Фурий опять был диктатором в следующем году (а он бы не мог без стыда вновь принять эту власть, будь она в прошлом году вырвана у него из рук). (12) Кроме того, когда якобы обсуждалась пеня для Камилла, он мог бы или запретить и это предложение, призывавшее его к порядку, или же не мог бы препятствовать даже тем предыдущим предложениям, из-за которых будто бы принято было и это. (13) И наконец: почти что на нашей памяти между трибунами и консулами еще длилась борьба, но диктатура всегда оставалась для нее недосягаема.
39. (1) Когда Камилл уже отрекся от диктатуры, а Манлий ее еще не принял, на созванном трибунами как бы в междуцарствие[777] собрании плебеев выяснилось, какие из внесенных предложений дороже им, а какие – предлагающим законы. (2) Ибо постановления о процентах и земле утвердили, а о плебейском консуле – отвергли; на том оба первых дела и были бы завершены, если бы трибуны не объявили, что спрашивают плебеев обо всех трех сразу. (3) Затем Публий Манлий, диктатор[778], изменил положение дел к выгоде плебеев, назначив начальником конницы плебея Гая Лициния, уже побывавшего военным трибуном[779]. (4) Я читал, что сенат был этим очень недоволен, а диктатор привычно оправдывался перед сенаторами близким родством с Лицинием[780] и притом утверждал, что власть начальника конницы не больше, чем власть военного трибуна.
(5) Когда назначены были очередные выборы народных трибунов, то Лициний и Секстий притворными уверениями, будто больше не хотят оставаться в своей должности, еще сильней подстрекали народ к тому, чего и на самом деле домогались. (6) Девятый, мол, год стоят они против знатных[781], словно в строю, подвергая себя великой опасности и не получая ничего взамен от общества[782]; они уже состарились, а вместе с ними – и внесенные ими предложения, и вся сила трибунской власти. (7) Сперва против их законов сражались запретами их же сотоварищей; затем, услав молодежь на войну с Велитрами; наконец, молниями диктаторской власти. (8) Теперь уже не препятствуют ни товарищи, ни война, ни диктатор, ведь он даже дал добрый знак плебейскому консульству, назначив себе начальника конницы из плебеев. Теперь лишь сами плебеи помеха и себе, и своему благу: (9) если б они захотели, хоть сейчас могли бы иметь Город, свободный от ростовщиков на форуме, поля, свободные от незаконных владельцев. (10) Когда же они наконец будут оценивать верную службу подобающей благодарностью, если сейчас из предложений, принимаемых к их же благу, изымают все, что подаст надежду на высокую должность для тех, кто вносит эти предложения? Не совместно с благоразумием римского народа требовать, чтобы его избавляли от гнета долгов, чтобы ему предоставляли землю, которой неправо владеют сильные, а тех, кто для него добился всего этого, оставляют стареть в трибунах, не только без почестей, но даже без надежды на почести! (11) Итак, сперва пусть простой народ сам решит, чего хочет, а затем пусть объявит свою волю на трибунских выборах: если он хочет, чтобы трибуны внесли разом все предложенные требования, пусть народными трибунами изберут их же вновь и они проведут все, что предлагали. (12) Но, если он захочет принять только то, чего желает для себя каждый порознь, тогда незачем и продлевать полномочия, навлекающие лишь ненависть: не нужен, значит, ни им – трибунат, ни плебеям – их законопредложения.
40. (1) Ответом на столь жесткую речь народных трибунов было молчание сенаторов, оцепеневших от негодования, и тогда, (2) как рассказывают, Аппий Клавдий Красс, внук децемвира[783], движимый больше злобой и ненавистью, чем надеждой переубедить народ, выступил и говорил примерно такими словами:
(3) «Не ново и не неожиданно было бы для меня, квириты, если и теперь я услышу то единственное, чем мятежные трибуны всегда попрекали нашу семью: издавна роду Клавдиев дороже всего в государстве величие сената; вечно они против блага простого народа. (4) Первого не отрицаю и не отпираюсь; с тех пор, как нас приняли сразу и в граждане и в отцы[784], мы ревностно трудились, чтобы неложно о нас могли сказать: не умалили мы, а скорей возвысили величие тех родов, среди которых вам угодно было нас числить. (5) Да и насчет второго я решился бы, квириты, постоять за себя и своих предков: ни как частные лица, ни будучи в должностях, мы заведомо не совершили ничего худого для простого народа – разве что кто-нибудь сочтет, будто стоять за все государство – значит быть против простого народа (словно этот народ живет в другом городе!); можно неложно повторять: ни дело наше, ни слово не шло вразрез с вашей пользою, даже если шло вразрез с вашим желанием. (6) Но, даже не будь я из семьи Клавдиев, не родись с патрицианской кровью, а будь я просто одним из квиритов, знай я только, что рожден от двух свободных граждан и живу в свободном государстве, – разве мог бы я молчать, (7) когда Луций этот Секстий и Гай Лициний, вечные, милостью богов, трибуны, за девять лет царения забрали себе такую волю, что отказывают вам в свободном голосовании и на выборах, и в принятии законов?! (8) „Вы выберете нас в десятый раз трибунами, – говорит этот, – при одном условии”. Разве это не значит: „то, чего добиваются другие, так нам постыло, что без большой награды мы и брать этого не хотим”? (9) Но что же это за награда такая, за которую мы навек обретем в вас народных трибунов? „Чтобы вы приняли целиком требования наши, – говорит этот, – нравятся они вам или нет, полезны они или бесполезны”. (10) Заклинаю вас, тарквинствующие[785] трибуны, вообразите, что я – простой гражданин и кричу вам из середины собрания: „С вашего милостивого разрешения, можно ли из этих ваших требований выбрать те, какие нам кажутся здравыми, и остальные отбросить?” – „Нет, – говорит этот, – нельзя. (11) О процентах да о землях закон ты примешь (это вас тут всех касается), а насчет чудес в Городе Римском, чтобы Луций Секстий и этот Гай Лициний стали консулами, поостережешься, раз считал это недостойным, да говаривал «упасите боги». Нет уж, или принимай все, или ничего не предложу”. (12) Как если бы кто положил перед заморенным голодом яд и пищу и приказал бы или воздерживаться от жизненно нужного, или к жизненно нужному подмешивать смертоносное. Итак, будь это государство свободным, собрание бы тебе закричало: „Вон отсюда со своими трибунатами и предложениями!” Что же, если ты не предложишь народу что-нибудь приемлемое, так некому уже будет и предложить? (13) Да если бы какой патриций, да если бы какой – уж чего ненавистнее – Клавдий сказал: „Или примите все, или ничего не предложу”, – кто из вас, квириты, потерпел бы такое? (14) Будете ли вы когда-нибудь смотреть больше на суть дела, чем на лица, или же всегда будете внимать всему, что скажет этот трибун, с благосклонностью, а тому, что скажет любой из нас, – с отвращением? (15) „Эта речь, ей-же-ей, совсем не гражданственна”. Почему? А каково их требование, за которое они в такой обиде? Точь-в-точь такое же! „Требую, – говорит этот человек, – чтобы нельзя было вам выбрать в консулы, кого хотите”. (16) Разве не это значит его приказ: одному из консулов быть плебеем, и не сметь избрать двух патрициев? (17) А если бы сейчас разразилась война, такая, как этрусская, когда Порсенна стоял на Яникуле[786], или хоть как галльская, когда все, кроме Крепости и Капитолия, было под врагами[787], и консульства захотели бы Марк Фурий, какой-нибудь другой патриций и вот этот Луций Секстий, – вы стерпели бы, чтобы Секстий стал без спору консулом, а Камиллу пришлось бы бороться за избрание? (18) Это ли называется „почести сообща”, когда двум плебеям можно стать консулами, а двум патрициям нельзя? Одного нужно избрать из плебеев, а другого можно не из патрициев? Вот это общность! Вот это товарищество! Мало тебе просто получить долю там, где доли твоей и не бывало, – нет, тебе нужно потребовать долю, а загрести себе все? (19) „Боюсь, – говорит этот, – что если можно избирать двух патрициев, вы не изберете ни одного плебея”. Что же, иначе говоря: „Так как вы не хотите добровольно избрать недостойных, я таки вас заставлю избрать тех, кого не хотите!” (20) Разве это не значит, что плебей, буде он один, станет домогаться консульства наряду с двумя патрициями, не будет даже обязан народу благодарностью и скажет, что сделал его консулом закон, а не голосование?
41. (1) Они ищут почестей, но не домогаются их, а вымогают. Они намерены занять высочайшие должности, вовсе не благодаря за них, даже как за ничтожнейшие; не доблестью, а удобным случаем предпочитают они добиваться почестей. (2) Кое-кому не хочется, чтобы к нему присматривались, да его оценивали; кое-кто среди борющихся соискателей только для себя берет право на бесспорную победу; кое-кто изымает себя из-под вашего суда, кое-кто превращает ваше добровольное голосование в принудительное, голоса свободных – в голоса рабов. (3) Оставим Лициния и Секстия – вы считаете годы их непрерывной власти как годы царей на Капитолии[788]. Но есть ли нынче в государстве такое ничтожество, кому по случаю этого закона дорога к консульству не станет легче, чем нам и детям нашим? Ибо нас вы и при желании иной раз не сможете избрать, а уж этих придется вам избирать поневоле.
(4) Как все это недостойно, о том я сказал достаточно; но „достойно”, „недостойно” – это наши, людские дела; что же сказать о богобоязненности и птицегадании, небрежение которыми, оскорбление которых касаются самих бессмертных богов? По птицегаданию основан этот город, без птицегадания ничто не обходится в войне и при мире, дома и в походе – кто этого не знает? (5) Кто же по заветам предков вершит птицегадания? Конечно, патриции, ибо для плебейских должностей нет птицегадания при выборах. (6) Птицегадания настолько неотторжимы от нас, что не только выборы на любую патрицианскую должность никогда без них народом не вершатся, но и мы сами, без народного голосования, назначаем интеррекса только по птицегаданию; даже частными гражданами мы совершаем птицегадания, которых плебеи не совершают даже и на своих должностях! (7) Так чего же хочет тот, кто, учреждая плебейских консулов, отнимает у патрициев это право совершать птицегадания? Только полного их уничтожения! (8) Пускай они теперь насмехаются над священнодействиями: что, мол, с того, если куры не клюют, если позже вылетят из клетки, если птица дурно закричит – это пустяки! Но предки наши, не пренебрегая этими пустяками, сделали это государство великим. (9) А мы теперь, как будто нам нужды нет ладить с богами, оскверняем все обряды. Что ж, давайте из толпы избирать и понтификов, и авгуров, и царей-жрецов; возложим на первого попавшегося фламинскую шапку[789] лишь бы это был человек; передадим и священные щиты[790], и святилища[791] богов, и заботу о богах тем, для кого все это запретно. (10) Перестанут при птицегаданиях предлагать законы и избирать должностных лиц; сенат перестанет созывать собрания по куриям и центуриям; Секстий и Лициний, совсем как Ромул и Татий[792], воцарятся в Городе римлян, так как уже раздают они в подарок не принадлежащие им и деньги, и земли. (11) Как приятно пограбить чужие состояния! И в голову не приходит, что один закон создаст широкие пустоши на полях, изгоняя владельцев, а другой – подорвет доверие, на котором зиждется любое сообщество людей. (12) По всем этим причинам я полагаю, что вам следует отклонить эти предложения. Желаю вам благоволения богов в ваших свершениях»[793].
42. (1) Речь Анция возымела силу лишь настолько, что отсрочила утверждение этих предложений. (2) Избранные в десятый раз, те же трибуны Секстий и Лициний предложили закон о децемвирах по священным делам[794]; десять человек частью должны были избираться из плебеев. Избраны пятеро из патрициев и пятеро из плебеев. После этой ступени дорога к консулату казалась уже проложенной. (3) Довольствуясь этой победой, простой народ, оставив на время даже упоминание о плебейском консуле, уступил патрициям при избрании военных трибунов. Избраны Авл и Марк Корнелии (повторно), Марк Геганий, Публий Манлий, Луций Ветурий, Публий Валерий (в шестой раз).
(4) Когда во внешних делах у римлян длилось затишье (исключая осаду Велитр – дело затяжное, но с уже определившимся исходом), вдруг пронесся слух о галльской войне и побудил государство назначить в пятый раз диктатором Марка Фурия. Он поставил начальником конницы Тита Квинкция Пена. (5) Клавдий[795] пишет, что в тот год с галлами воевали около реки Аниена и что тогда и произошла битва на мосту, где на виду у обоих войск Тит Манлий убил галла, вызвавшего его на единоборство, и сорвал с него ожерелье (6) Но более многочисленные источники заставляют меня думать, что эта битва была позже лет на десять, не меньше. А в тот год, когда диктатором был Марк Фурий, битва с галлами была в Альбанской области. (7) Хотя памятью о прошлом поражении галлы и нагнали великого страху, победа римлян определилась сразу и без труда. Многие тысячи варваров погибли в строю, многие тысячи – по взятии лагеря; (8) прочие разбрелись и, устремившись по большей части в Апулию, обезопасили себя от врага и дальностью бегства, и тем, что страх и блуждания разметали их во все стороны. При единогласии сената и народа диктатору был назначен триумф.
(9) Только он справился с этой войной, как начался мятеж в Городе, еще грознее войны: ожесточеннейшая борьба вынудила диктатора и сенат принять требования народных трибунов. И вот, вопреки знати, проведены были консульские выборы, на которых Луций Секстий первым из плебеев был избран в консулы. (10) Но и этим борьба еще не закончилась, так как патриции заявили, что не утвердят избрания; и дело дошло почти до ухода плебеев из Города и прочих пугающих предвестий гражданской войны, (11) когда наконец удалось благодаря диктатору унять разногласия на таких условиях: знать уступила простому народу, согласившись на избрание плебейского консула, а простой народ – знати, согласившись на избрание одного патрицианского претора, чтобы тот вершил суд в городе[796].
(12) Так после долгого обоюдного гнева сословия вернулись к согласию. Сенат признал это дело достойным и принял решение о подобающем (как никогда более) воздаянии бессмертным богам: чтобы были устроены Великие игры[797] и к трем их дням был добавлен еще один. (13) А когда плебейские эдилы отказались взять на себя это дело, патрицианские юноши в один голос заявили, что они охотно возьмутся за это в честь бессмертных богов. (14) Все их благодарили, и сенат постановил, чтобы диктатор предложил народу избрать двух патрицианских эдилов[798], а сенаторы утвердили бы все выборы этого [367 г.] года[799].
Книга VII
1. (1) Год этот [366 г.] будет памятен появлением в консульской должности «нового человека»[800], а также учреждением двух новых должностей – преторства и курульного эдильства[801]. Эти почетные должности выговорили для себя патриции, уступив одно из консульских мест плебеям. (2) Они сделали консулом Луция Секстия, чей закон и дал им такую возможность; а отцы благодаря своему влиянию на Марсовом поле[802] получили преторскую должность для Спурия Камилла, сына Марка, а эдильские – для Гнея Квинкция Капитолина и Публия Корнелия Сципиона, людей своего сословия. Товарищем Луция Секстия из патрициев был избран Луций Эмилий Мамерк.
(3) В начале года все были встревожены вестями о том, что галлы, рассеявшиеся было по Апулии, вновь собираются толпами, а также о том, что отложились герники. (4) Но так как сенат намеренно медлил, дабы не дать действовать консулу из плебеев, то все замалчивалось и царила праздность, словно при закрытых судах[803]; (5) и только трибуны не желали молчать, затем что в обмен на одного плебейского консула знать получила на должностных местах трех патрициев, (6) восседающих в претекстах[804] на курульных креслах, будто консулы, причем претор еще и отправляет правосудие, будучи товарищем консулов, избранным при тех же обрядах. По этой причине сенат не решился прямо приказать, чтобы еще и курульных эдилов выбирали из патрициев; сначала уговорились через год выбирать эдилов из плебеев, потом, однако, не соблюдалось уже никакого порядка.
(7) В следующее консульство [365 г.] при Луции Генуции и Квинте Сервилии, когда ни раздоров, ни войн не было, то, словно чтобы не дать людям забыть о страхе и опасностях, открылось моровое поветрие.
(8) Как передают, умерли цензор, курульный эдил, три народных трибуна; тем более многочисленны были жертвы среди остальных жителей. Но более всего памятен этот мор кончиною Марка Фурия – не безвременной и все же печальной[805]. (9) Поистине то был муж великий во всякой доле: до изгнания первый на войне и в мире, а в изгнании – еще славней от тоски сограждан, из плена воззвавших к изгнаннику о помощи, и от собственного счастья: восстановленный в отечестве, он сам стал восстановителем отечества; (10) окруженный славой столь великого подвига и во всем достойный ее, прожил он после этого еще двадцать пять лет, заслужив прозвание второго после Ромула основателя Рима.