Столица для поводыря Дай Андрей
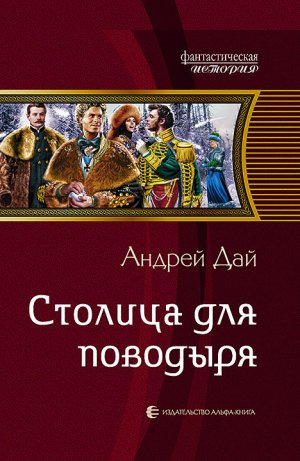
И тут, кстати, без слухов не обошлось. Зазвал меня в очередной раз к себе на ужин Иван Дмитриевич Асташев. Я думал, успехами нашего банка станет интересоваться, а он чуть ли не с порога пенять стал, что это я, дескать, староверов привечаю, а с епископом Томским и Семипалатинским Виталием до сих пор повстречаться не удосужился.
– Какие еще старообрядцы, Иван Дмитриевич! Побойтесь Бога! – взмолился я. – У меня к ночи пальцы от пера скрючивает. Дел столько, что разогнуть спину некогда, а вы о ерунде какой-то…
– А это вы, батенька, зря! – Ну как же он похож на Владимира Ильича! Чуточку подстричь, бородку добавить – и на броневик. – Знали бы вы, какие нынче слухи поползли. Болтают, что вы оттого на достройку собора еще томичей не подвигли, что к чалдонам переметнуться хотите. Мальца того помните ли? Сеньку Тыркова, что своими копейками нам плебисцит, прости господи, закончил?
– Ну конечно помню. С ним-то у меня что? Только не говорите, будто молва называет этого мальчишку моим внебрачным сыном…
– Да не удивлюсь, Герман Густавович, – засмеялся миллионер. – Ничуть, знаете ли, не удивлюсь.
– Полно вам! – Я тоже хихикнул. – Как я успел-то? Я в губернии-то едва полтора года как.
– А ведь и верно, сударь, – вдруг стал серьезным Асташев. – А я ведь вас давно уже в приходимцах не числю. Да и прочие сибиряки, верно, тоже.
– Как вы сказали? В ком, Иван Дмитриевич?
– Что ж вы, молодой человек, столько для края нашего сделали, а как мы присланных из столиц никчемных чиновников зовем, и не ведаете? Приходимцами их сибирцы кличут. Это вроде…
– Да я догадался уже, – засмеялся я. – А меня, значит, из их числа уже вычеркнули?
– Как есть, – охотно поддержал мое веселье золотопромышленник. – Оттого и забочусь о вас, что много вы полезного сделали и, даст Господь, еще сделаете. И только глупых домыслов да обвинений в потворстве беспоповцам нам с вами, Герман, не хватает.
– А Сенька-то тут при чем?
– Так и малец этот, и родитель его в Успенский молельный дом по воскресеньям ходят, а не в храм. А на чьи деньги этот самый вертеп выстроен был, вам сказать или сами знаете?
– И на чьи же? На средства прихожан, я полагаю?
– Как без этого. Только выходит, что самыми почтенными прихожанами там известный вам господин Цибульский с супругой числятся. Вот так-то, сударь! А ведь и с Захарием Михайловичем у вас доверительные отношения…
– Ух ты!
– Вот и я о том, Герман Густавович. Вы послушайте совета. Я в Сибири-то всю жизнь прожил. Здесь многое могут понять и простить. Лишь бы человек был хороший. Но если о храмах заботы не проявляете, значит – вы странный и опасный чужак. Вот пока доносы на вас в канцелярию Главного управления не пошли, съездите-ка вы к владыке Виталию да спросите, чем помочь матери-церкви сможете. А заодно справочку другану своему, Захарию Михайловичу, выправите. Вам-то, поди, отказать не посмеют.
– Что за справочку, Иван Дмитриевич? – Я уже признал, что дело серьезное, и достал блокнот с карандашом.
Асташев приосанился и принялся объяснять:
– Чтобы без лишних вопросов в «пробирку» песок золотой принимали, чтобы в ярмарках участвовать или в суде рядиться, бумажку нужно предоставить. И чтобы там прописано было, дескать, имярек в ересях не замечен, у Святого причастия и на покаянии исправно бывает. И детей, коли Бог дал, воспитывает в истинной православной вере. И чтобы не менее шести попов подписали сие. Ну или сам владыко…
Вот это да! Вот это рэкет и смычка с властными структурами! Полностью подконтрольная государству церковь и добровольно-обязательная религия. Как же мне повезло, что я попал в тело лютеранина!
В общем, в середине июля я изыскал время для посещения его преосвященства епископа Томского Виталия в его резиденции в Богородице-Алексеевском монастыре. Ничто, конечно, не мешало вызвать туземного церковного патриарха к себе. По большому счету как высший гражданский чиновник края имею право. Но не стал. И пренебрежение показывать не хотелось, и на огромный, голосящий на всю Юрточную часть города трехсотпудовый торжественный колокол взглянуть хотелось. Его ровно за год до моего появления в Томске на колокольню подняли.
Я понимаю, почему в России практически все старые монастыри окружены высоченными стенами. Слишком много бродило в стародавние времена всяких вражин, жаждавших добраться до хранящихся в церквях богатств. Иные обители и роль приграничных оборонительных крепостей исполняли, а братия умела не только хоругви в руках держать, но и меч с копьем, если понадобится. А вот для каких целей каменная стена с башнями и коваными воротами была возведена вокруг мужского монастыря в Томске, неизвестно. Как там в том старом анекдоте? Зачем этот тюнинг в совершенно безопасной столице моей губернии? Особенно учитывая, что с помощью пары не слишком больших пушек эта… гм… оградка сносится за десяток залпов. От воров обороняются или от излишне любопытных глаз?
– Ты проходи, милый, – отвлекла меня от созерцания причудливой кованой решетки распахнутых экономичных ворот монастыря какая-то старуха, укутанная, несмотря на жару, во множество слоев одежды. Грязная, дурно пахнущая бродяжка, совершенно по-хозяйски рассевшаяся в проходе, с легким пикардийским акцентом говорящая по-французски. – Тебя там ждут уже. Старичок станет тебе жаловаться, а ты не верь. Он злое замыслил, но ты все равно соглашайся. То зло в добро обернется.
– Что? – Словно в забытьи, донельзя ошарашенный контрастом, я тоже говорил не на русском. – Что вы сказали, мадам?
– Ты добрый. – У нищенки были идеально белые зубы. Мечта голливудских звезд. И классический берлинский выговор немецких слов. – На вот. Как старичок начнет плакаться, ты пальцем потри и смотри. И басурманам потом покажешь… Не забудь! Непременно покажи. А думать станешь, будто все совсем плохо, так снова три пальцами. Господь с тобой, Он худого не допустит. Иди.
Бабка вложила мне в ладонь небольшой, с фалангу пальца, серый камешек. Несколько спящих в тени ворот псов, таких же бродяг, как и их хозяйка, приподняли головы, но с места не тронулись.
– А волкодавам своим, – строго закончила, теперь на русском, юродивая и махнула черной от грязи рукой на казаков и Мишу Карбышева, – вели хлебушка мне дать. Ты Бога не гневишь, вот и они пусть…
Секретарь, не дожидаясь моего приказа, уже отправлял кого-то к ближайшей лавке.
– Иди-иди, – сварливо прокряхтела старуха. – Я сейчас петь стану, и околоточный меня в острог потащит. А при тебе не посмеет. Он не ведает, что ты добрый…
Карбышев взял меня под локоть и чуть ли не силой потащил в глубь огороженной территории, к видневшемуся сквозь кроны яблонь особняку епископа.
– Кто это, Миша? – шепотом, ловя себя на мысли, что не хочу, чтобы нищенка слышала, поинтересовался я. – Зачем она это мне…
– Это Домна Карповна, – тоже негромко, наклонив голову едва не к самому моему уху, объяснил Карбышев. – Наша юродивая. Вы, ваше превосходительство, точно запомнили, что она говорила? Это очень важно! И подарок ее, Герман Густавович, совсем непрост. Она редко кого такой милостью одаривает, и дары ее всегда…
– Полезны?
– И важны, ваше превосходительство. И полезны, и важны.
– Мистика какая-то…
– А вы, Герман Густавович, поверьте. Очень вас прошу. Просто поверьте… Не стоит расстраивать Домну Карповну. Она… в гневе… нехорошая. И эти, собаки ее… Сущие звери.
– Так что ж ее и псов этих давно полиция не…
– Что вы, что вы, ваше превосходительство! Даже и не думайте. Ее, говорят, и святой старец Федор Кузьмич опасался.
Мороз по коже. А я еще сожалел, что со святым старцем не успел встретиться. Тот умер ровно за сорок дней до моего въезда в Томск. Теперь вот эта… женщина с ее странным подарком. Обычный серенький, грязный окатыш, каких без счету на берегу Томи, данный мне этой странной теткой в утешение и во спасение от интриг какого-то старичка.
Зубами, опасаясь выпустить из кулака невзрачный камешек, стянул перчатку, сунул в карман, поплевал на пальцы и, чувствуя себя Аладдином, впервые вызывающим джинна из лампы, потер окатыш. Знала о том, что я так поступлю, Домна, томская юродивая, или Господь таким образом хотел подтвердить весомость слов своего гонца, только именно в тот момент солнце, прежде прятавшееся за облаком, избавилось от небесной вуали. И у меня на ладони вспыхнула маленькая, искрящаяся серебряными брызгами радуга.
– Ого! – не сдержался Карбышев, с нескрываемым любопытством наблюдавший за моими действиями. – Опал! Такие находят иногда в ручьях на Алтае.
– Интересно, – выговорил я, только чтобы не молчать. И скрыл маленькое чудо в кулаке. – Пойдем, Миша. Владыко, поди, давно уже в нетерпении…
Епископ Томский и Семипалатинский легко описывался одним словом – старичок. Ни убавить, ни прибавить. И даже золотая цепь с тяжелой, в золоте же панагией на груди этого сухонького сморчка казалась чем угодно, только не одним из символов власти. И голос у Виталия был тоненький да гнусавенький. Неподходящий для проповедей с кафедры голос. Вот плакаться да на здоровье жаловаться – самое то. О запустении храмов, об оскудении церковной казны, о лживых инородцах, тайно продолжавших почитать идолов. О недостроенном, но уже успевшем обрушиться Троицком кафедральном соборе.
Я вслушивался в этот лепет только до той поры, пока, совершенно предсказуемо, Виталий не начал исполнять любимую песню всех старичков – прежде, мол, трава была зеленее и люди честнее. И купола храмов сияли под солнцем пуще нынешних, и булки хрустели аппетитней. Тогда я разжал кулак, наказав прежде Герочке отвлечь меня от медитации, когда епископ перейдет в своей речи к чему-либо более конструктивному.
Камень завораживал. Даже в кабинете священника, судя по всему, не любившего солнечный свет, опал все равно умудрялся переливаться всеми оттенками синего и зеленого. Вглядываясь в это каменное чудо, мнилось, будто смотришь в самую глубину бездонного океана, где под сине-зеленой, бликующей толщей воды ходят причудливые рыбы…
Все-все, Герочка. Выхожу. И не смей меня больше обзывать каменным наркоманом и губернатором в опале. Типун тебе на язык… Что там наш старичок?
– …вот мы тут на последней консистории с архимандритами Моисеем и Виктором и подумали, что ежели губернская гражданская власть на юг, в дикие земли, людишек переселяет да закон империи тамошним инородцам привить желает, так неужто в тамошних дебрях для еретиков сих места не сыщется? Какая-нибудь удаленная долина вроде искомого этими… христопродавцами Беловодья. Вот и мы бы вам, Герман Густавович, помощь оказать смогли бы, закрыв глаза на то, что там ведь могут и храмы они свои бесовские строить…
– Это что же, ваше преосвященство? – решил сразу расставить точки над буквами я. – Вы предлагаете всех так называемых старообрядцев силами губернского правления сослать в отдаленные уголки края? То есть принудительно. А чтобы не бунтовали, пообещать не заметить воздвигаемых там церквей? Я верно вас понял?
– Как можно! – вскинулся, совершенно по-женски всплеснув руками, епископ. – Разве вместно мне, пастырю душ человеческих, указывать вам, цареву наместнику, как с сектами еретическими поступать! Чай, не латиняне мы, чтобы людишек в костры бросать. А вот помощь оказать… слово такое сказать, что оне сами… Кхе-кхе… Наделы же ихние, мнится мне, куда полезнее будет новым поселенцам передать. Государь наш законом своим премудрым путь для людей, истинно верующих, в наши края открыл. Так что ж нам с вами силами малыми не потворствовать…
Змей! Где тут блондинка по имени Ева прячется, еще не знающая, что хочет яблочка? Почему задерживается? И плод уже приготовлен, и искуситель присутствует! Одним движением и ускорить процесс заселения Южного Алтая, и освободить уже распаханные, обихоженные земли под православных переселенцев – истинно византийское коварство. Уберет с глаз долой неудобных староверов, а взамен получит несколько десятков тысяч прихожан. Причем все собирается проделать чужими руками! Моими то есть! Кто посмеет потом в чем-либо обвинить епископа?
И ведь не боится, что я вместо славян голштинцев туда поселить могу. Значит, и в отношении них уже планы разработаны. У православной церкви здесь инструменты давно настроены. Духовная миссия с полудикими теленгитами практически справилась, что для них наивные европейцы? В один миг перекрестят.
Зачем эта глобальная программа ссылки старообрядцев на край света местной церкви – понятно. А что это даст мне? У староверов десятки направлений. Часть из них совершенно не приемлют какой-либо гражданской власти. Соответственно они не стремятся платить подати и служить в армии. Но эти люди совершенно не употребляют ни табака, ни водки и невероятно трудолюбивы. Если кто-то и сможет быстро освоить целину в верхнем течении Катуни, так это они. Я имею в виду прекрасные, плодороднейшие долины, настоящие житницы Горного Алтая, в моем мире называвшиеся Усть-Коксинским районом. Однако, насколько мне известно, эти направления православия церкви и церковнослужителей не жалуют. Беспоповцы они.
Другая часть староверов более социализирована. Эти готовы сотрудничать с властью. С рекрутской повинностью у них тоже тяжело, но с тех пор, как стало можно за деньги выставлять вместо себя кого-то другого, и этот вопрос тайные общины научились решать. Они отлично организованы, предприимчивы и изобретательны. И действительно есть шанс сманить их на юг, если пообещать свободное строительство церквей.
Интересно… У кого бы спросить, насколько мирно могут ужиться ортодоксальные староверы с новостароверами? А как красиво бы вышло! Первых подальше отсюда, вторых поближе к цивилизации. Матерые купцы-старообрядцы скупали бы излишки зерна у беспоповцев, а взамен возили бы туда промышленные товары. Мощный сельскохозяйственный район мог бы кормить не менее мощный промышленный. Неподалеку от Кош-Агача и медь с железом, и серебро есть…
Только мерзко как-то на душе. Гаденькое такое чувство, будто планирую поманить ребенка конфеткой, чтобы потом заставить его красить забор. Юродивая говорила: станет старичок злое предлагать – соглашайся. Как бы покровитель твой, Господь, в курсе и полностью согласен с проектом. Но кивни я тогда этому отвратительному попу и кем бы стал? Кем-то похожим на фашистского карателя на суде в Нюрнберге, пытавшегося оправдаться тем, что он, дескать, солдат и привык исполнять приказы?! Сколько таких выло от безысходности в том Ничто, откуда я сумел сбежать…
– Я не стану принуждать людей к переселению, – выговорил я.
– И не опасаетесь? – Куда только плаксивые, страдальческие интонации из голоса делись! Теперь передо мной сидел совершенно иной поп. Да, все тот же сухонький замухрышка. Только теперь из той самой, советских времен «синей птицы» – истощенного голубоватого цыпленка, громко обозванного на ценнике курицей, превратился в готовящегося атаковать сокола-тетеревятника. – Ваше превосходительство, о ваших деяниях и так уже сообщений в Главном управлении довольно набралось. То вы нигилистам покровительствуете, то иудеям. Князем себя удельным возомнили. Торговые пути устраиваете и посольства принимаете. Солдат иностранным оружием снабдили. Зачем же еще вам и в небрежении к церкви обвинения?
– Гражданское правление готово поддержать добровольных переселенцев в отдаленные долины, – твердо заявил я, выделив слово «добровольных» и надеясь, что сидящий напротив подонок в рясе не заметит, как меня трясет от отвращения. – В силу своего происхождения и вероисповедания я не слишком разбираюсь в нюансах взаимоотношений православной церкви и некоторых ее ответвлений. И не могу определить, кому дозволяется строить храмы, а кому нет. Думаю, что это и не мое дело. Я достаточно ясно выразил свою мысль, ваше преосвященство?
– То есть вы, ваше превосходительство, признаете, что такая долина есть, и готовы позволить поселиться там… верным подданным государя императора? И как же сие место называется?
– Уймонская степь. Можете начинать свою агитацию, ваше преосвященство.
Уходя из Богородице-Алексеевского монастыря, поймал себя на мысли, что совершенно серьезно размышляю на тему, сколько суждено еще прожить старичку-епископу и можно ли как-то аккуратно и без последствий вмешаться в Божий промысел.
Миша, видимо, каким-то шестым чувством ощутивший мое кровожадное настроение, шел молча и только возле коляски решился напомнить, что у меня на сегодня назначена встреча с Магнусом Бурмейстером, кораблестроителем из Дании.
– Да-да, Миша, конечно. Я помню, – рассеянно ответил я и взглянул в обеспокоенные глаза своего секретаря. – Позволь полюбопытствовать… Исключительно в теоретическом плане… Вот если бы ты очень сильно желал кому-то смерти, но сам не мог бы… гм… это сделать. К кому бы ты обратился?
– Вы знаете, Герман Густавович, – задумавшись лишь на минуту, выдал Карбышев, – я не один год служил в жандармерии… Да, ваше превосходительство, уже служил. Полковник Киприянов днями подписал мой рапорт об отставке…
– Я надеюсь…
– Нет-нет, ваше превосходительство! Я счел необходимым оставить государственную службу, с тем чтобы иметь возможность всеми силами помогать вам. Если вы не…
– Я рад, – улыбнулся я. Еще бы мне не радоваться. Не прошло и года, как господин Карбышев соизволил-таки выбрать, с кем ему быть.
– Это я рад, Герман Густавович. Я… я немного волновался. Мне казалось, что вы только из-за того и взяли меня к себе, что я…
– И это тоже, Миша, – признал очевидное я. – Но ведь даже твое увольнение со службы в Третьем отделении, по сути, ничего не меняет. Мне ли не знать, что бывших жандармов не бывает. Не так ли? Что мешает тебе время от времени доносить на меня, если я тебя о том попрошу?
– Спасибо, ваше превосходительство, – пуще прежнего обрадовался секретарь. – Так вот. За время службы я много раз имел возможность убедиться, что смерть – не самое плохое, что может случиться с человеком. И если бы я кого-то до такой степени ненавидел, то сделал бы все от меня зависящее, чтобы моему врагу стало очень-очень плохо. Так плохо, чтобы он сам стал желать своей смерти.
– Не хотел бы я оказаться в числе твоих врагов, Миша, – с улыбкой на губах, но совершенно искренне сказал я. И поспешил сменить тему: – Как-то не везет нам с епископами. Этот, что месяц как представился… Порфирий? И образован отменно, и в научной среде известен был, а с семинарскими общежитиями так и неясно, что получилось. То ли сам владыко деньги, на их обустройство выделенные, прибрал, то ли другой кто, пока Порфирий в эмпиреях витал. А этот, Виталий, другим грехом обуян. Честолюбив без меры. И готов идти прямо по трупам. По мне так лучше уж философ, чем сатрап…
– Мне попробовать разузнать о владыке побольше?
– Непременно. И вот еще что… Он упоминал, что на заседании конклава они решение о раскольниках приняли. Наверняка ведь и протоколы велись. Хотелось бы мне этот документ посмотреть…
– Это нужно Иринея Михайловича дожидаться. С его-то талантами…
– Так и дождемся. Немного осталось. Вскорости вернуться должны наши странники. А архивы консистории подождут…
Миша понимающе кивнул, что-то отметил в своей записной книжице и стал рассказывать о том, как удалось устроить прибывших с первой баржей датчан. О том, как иностранцев осматривал врач, и об устроенном карантине для тех, кого доктор признал нездоровыми. О владыке Виталии я и думать забыл. А Карбышев, как выяснилось чуть ли не полгода спустя, – нет. Шестнадцатого марта 1866 года, в среду, в архиве Томского и Семипалатинского епископа, а также в соседнем помещении, где хранились текущие дела консистории, вспыхнул пожар. Прибывший с пожарища Стоцкий уверял, будто бы там сильно пахло земляным маслом. Это означало, что был совершен поджог, но проведенное расследование так злоумышленника и не выявило. А в пятницу вечером в мой дом доставили чуть ли не пуд тщательно упакованных официально сгоревших документов. И всю ночь мы с Мишей и Варежкой выбирали из множества «вкусностей» пару бумаг, совершенно убойных для карьеры туземного владыки. И, разумеется, нашли. На этом все разногласия между губернским правлением и томским архиереем были исчерпаны. Виталий не перенес сердечных мук и угроз разоблачения его делишек, стоявших прямо-таки на грани закона – и человеческого, и Божьего. И вскоре, осенью того же года, был похоронен неподалеку от святого старца. А в губернскую столицу прибыл преосвященный Платон – прекрасный администратор и организатор. Да и как человек неплохой. Так что совесть от содеянного меня не мучила.
Магнус Бурмейстер всерьез принял мои советы и, еще будучи на родине, нанял учителя русского языка. Учитывая то, что относился он к учебе с истинно немецкой дотошностью, а в пути ему пришлось провести чуть ли не полгода, в столицу Сибири датчанин прибыл уже не «немцем» – то есть немым, а просто забавно коверкающим слова инородцем. К сожалению, мастера, которых Магнус сумел сманить в Сибирь, такими успехами похвастаться не могли. Корабела не интересовали их возможные затруднения. По его мнению, довольно было и того, что платил им жалованье.
От сибирских просторов господин Будмейстер был в полном восторге. Захлебываясь словами, перескакивая с русского на датский, чуть ли не кричал о неисчислимых богатствах, буквально, по его мнению, валявшихся без всякого применения под ногами. Сотни речушек бездарно уносили в океан воду, нахально игнорируя потребности человека в дармовой энергии. Леса, слыханное ли дело, было так много, что деревья никто и не думал пересчитать. А пароходы! А баржи! Жители глухих приобских деревенек сбегались на берег смотреть на проплывающее мимо раз в полгода пыхающее дымом чудо. Разве так можно жить? По этим великим рекам должны ходить сотни… нет, тысячи могучих кораблей! И впятеро больше барж! Можно подумать, я хотел с ним спорить.
Корабел желал начать строить суда немедленно. Его просто корежило всего от осознания факта, что томские пароходовладельцы вынуждены заказывать новые корабли в Тюмени. Да еще и у англичан! Что они, эти недоучки, могут понимать в судостроении? Чему островитяне могли научить потомков викингов, чьи драккары в свое время наводили ужас на флегматичных бриттов? И тут я с Магнусом согласен. Было такое. Давно, правда. Опять же и моря у меня тут не наблюдалось. Обь, даже в разливе, все-таки поменьше будет.
Поинтересовался у брызгавшего слюной и энергией датчанина, успел ли он обсудить заказы кораблей с кем-нибудь из владельцев пароходов и подыскивал ли уже место под верфи. Оказалось, ни то ни другое он еще сделать не успел. А вот стоимостью леса и паровых машин уже поинтересовался. Проверял те подсчеты, что я ему из Санкт-Петербурга отправлял. Мне такой подход к делу показался странным, но вполне объяснимым.
Порекомендовал я Будмейстеру посетить притомское село Эушту и встретиться с князем Мавлюком. По моему дилетантскому мнению, Татарская протока – узкий рукав Томи между Эуштой и островом Инсков – для строительства пароходов должен был подойти как нельзя лучше. И от Черемошников совсем недалеко, и в северной части протока настолько глубока, что в мое время туда на зимовку баржи загоняли. Правда, сейчас в реке воды несколько больше, чем в двадцать первом веке. Весной остров и вовсе становится архипелагом едва торчащих над водой зарослей тальниковых кустов, но, как мне казалось, жителей Ютландии строительством защитных дамб не напугать.
С машинами все было гораздо сложнее. За прошедшие со дня моего появления в Сибири полтора года местные промышленники наконец-таки распробовали прелести паровиков. То один, то другой изъявляли желание воспользоваться «огненной» силой на своих предприятиях. И тут же выясняли, что и на уральских заводах, и на Гурьевском готовых машин нет. И не просто нет, а и заказы на три года вперед уже частично оплачены. То есть машин нет и три года не будет. А создатель этого нежданного дефицита – не кто иной, как томский первогильдейский купец Берко Лейбович Хотимский. Или Борис Леонтьевич, как он предпочитал представляться.
К слову сказать, вполне прогрессивный деятель оказался этот Хотимский. Киреевский винокуренный завод и прежде одним из крупнейших в Сибири считался, а после того, как пару лет назад его Берко выкупил, так и вообще – вне конкуренции. Новый хозяин его расширил чуть ли не вдвое, две паровые машины в прошлом году туда поставил, и осенью при оплате акцизов объявил о восьмистах тысячах ведер выработки. Это, даже в оптовых ценах, более полумиллиона рублей серебром. Что удивительно, официально Берко Лейбович считался ссыльным поляком, к шестидесятому году полностью искупившим свою вину перед империей.
Так вот. Этот «поляк» быстро понял, куда дует ветер, и решительно провернул операцию по монополизации торговли машинами в регионе. В специально выстроенном амбаре его приказчики могли предложить любой паровик. От трех сил до ста двадцати. А под заказ – даже и двухсотсильный. Несогласным с заявленными ценами нагловатые продавцы-консультанты рекомендовали обратиться в Англию. Особенно много жалоб поступало на некоего господина Флеровского, служившего у Хотимского одновременно адвокатом, бухгалтером и приказчиком. Целая делегация обиженных купчин к Стоцкому явилась с прошением как-то обуздать этого «дьявола». Тот, дескать, умный слишком. Что-то говорит по-нерусски, что и не поймешь – то ли обругал с ног до головы, то ли что. И все это с улыбочкой такой мерзкой, с какой в Расее барин на быдло смотрит.
Полицмейстер, конечно, не мог оставить «глас общества» без расследования, а по результатам пришел советоваться. Этим ненавистным «умником» оказался ссыльный поселенец и революционер Берви-Флеровский, недавно получивший дозволение провести оставшийся срок в Томске.
Впрочем, Хотимского в столице моей губернии считали честным евреем. Ростовщичеством занимался, так а кто безгрешен, если деньги есть лишние? По суду последнее у должников забирал? А зачем занимали? В общем, вызвал Фелициан Игнатьевич Бориса Леонтьевича к себе в кабинет да и передал мое пожелание: Флеровского унять и к беседам с покупателями в мотосалоне не допускать. Цены более чем на половину от себестоимости на паровики не поднимать. Иначе поругаемся.
Ругаться Хотимский не захотел. Цены несколько упали, а умник Берви-Флеровский передал в присутствие прошение об амнистировании и разрешении отбыть в европейскую Россию. Которое я с чувством полного удовлетворения понятливостью Берко Лейбовича и подписал.
Так вот, честный еврей и «поляк» Хотимский готов был поставлять машины для пароходов Магнуса Бурмейстера, но хотел получить десять процентов акций нового предприятия. А датчанин понять не мог, почему должен дважды платить. И за паровики, и долю прибыли.
Я не стал вмешиваться. И раньше не очень верилось, что у датчанина получится основать судостроительное производство без участия туземных предпринимателей. А кроме того, я всерьез опасался, что стоило хоть раз заняться чем-нибудь этаким, потом отбоя от желающих воспользоваться моим посредничеством не будет. И сразу найдутся обиженные. И полетят в Омск очередные кляузы на губернатора…
Была еще одна причина, так сказать, – сельскохозяйственная. Дело в том, что как каинские купцы Еремеевы к осени 1865 года оказались абсолютными лидерами в выращивании сахарной свеклы и соответственно в производстве сахара, так и Хотимский с братьями – в отношении картофеля. Понятно, что тех, что других интересовала в первую очередь возможность выварки из этих корнеплодов банальной водки, а все остальное было уже вторично. Но, глядя на эти две богатейшие династии, постепенно просыпался интерес и у других. Во всяком случае, даже в текущем году под посевы картошки земледельцы губернии отвели вдвое больше земли. А под свеклу – так и вообще втрое. И далеко не все посадки принадлежали Еремеевым или Хотимским.
Я рассуждал так: сахар – это не только сладкий чай. Это и варенья с компотами, и прочие булки с пирогами. Сдобу на зиму не запасешь, а вот под остальное требуется посуда, которую производит по большей части Егор Петрович Исаев. Выходит, одно производство вызывает потребность в другом, а это уже основа региональной экономики.
А картофель – в немалой степени основа сельскохозяйственной безопасности. Сибирь не зря зоной рискованного земледелия считается. Зерновые культуры тут, ну не считая благодатного во всех отношениях Алтая, часто капризничают. То дают небывалые урожаи, что амбаров не хватает, то вообще ничего не дают. И тогда в случае неурожая начинается рост цен, а в итоге – недоедание. Голода-то в Сибири, слава богу, никогда не бывало.
Теперь включаем в схему банальную картофелину. И получаем совсем другую картину. Выросла пшеница с рожью – отлично! Крестьянин сыт, одет и обут, и в кошельке монеты звенят. Не уродилась – тоже не беда. Крестьянин все равно сыт. А деньги в другой год появятся.
Только почему-то аборигены к американскому корнеплоду доверия не испытывали. На огородах из земли куда больше капусты да брюквы с репой торчит, чем развеселой картохи. О помидорах вообще молчу. Такой зверь здесь еще неведом. Слава богу, огурцы лет тридцать уже как выращивать начали.
И ведь, что самое интересное, совершенно бесполезно агитировать за картофель! Сибиряки, конечно, согласятся. Бородами потрясут, затылки почешут, но «второй хлеб» садить не побегут. Пока сосед не начнет и пока из этого что-то путное не получится. А властям туземцы никогда сразу не верят.
Вот и выходит, что пожурить за излишнюю наценку на паровые машины я Бориса Леонтьевича еще мог, а вот давить на него – уже нет. И хорошо, что не пришлось. Сначала осенняя суета отвлекла от кораблестроительных нюансов, а потому уже и не нужно стало. Герр Бурмейстер смирился. Да так, что в итоге принял в компаньоны не только Хотимского, но и Альфонса Фомича Поклевского-Козелла, Тецкова с Тюфиным и татарского князька Мавлюка в придачу. Хорошо хоть контрольный пакет за собой сохранить сумел, и то ладно.
В августе его преосвященство епископ Виталий какого-то ляду убыл в АГО. Не удивлюсь, если отправился настраивать тамошних священников на пропаганду переселения в Южно-Алтайский округ. А мы с Фризелем и Фрезе стали готовить назначенный на сентябрь аукцион концессий.
Ах да, я же не сказал! В самом начале июля ко мне в кабинет явился щуплый и головастый молодой человек и нерешительно протянул бумаги, из которых явствовало, что выпускник Петербургского горного института 1865 года поручик Петр Александрович Фрезе, второй сын начальника АГО, генерал-майора Фрезе, назначен горным приставом на Судженские угольные и Ампалыкские железорудные копи. Герочка мой задумался на минутку и припомнил, что действительно – есть такое положение в горном Уставе Российской империи. Положено, чтобы при разработке недр на государственных землях присутствовал представитель горного департамента Министерства финансов. Для надзора за соблюдением правил и норм, едрешкин корень. Ну и для подсчета выработки, конечно. А иначе как считать государственную пошлину? Если, как я уже говорил, туземцы властям не слишком доверяли, так и государство к местным аналогично относилось.
Петра Александровича, мнится мне, мамки да тетки воспитывали. Но уж никак не мать-маньячка или садист-отец. Ибо оказался сын Александра Ермолаевича, в отличие от папаши, человеком мягким, неконфликтным и, как ни странно, в горном деле вполне компетентным. И ярым сторонником внедрения в шахтах последних достижений современной науки.
Было, конечно, страшновато говорить при нем совсем уж откровенно. Может, и не со зла, а от простоты донесет что не надо до отца, а мне потом отплевывайся. Ведь письма же пишет… Но очень уж заразительным оказался его юношеский энтузиазм. Засиделись однажды втроем до полуночи над прожектами, я их с Павлушей и пригласил у меня в доме переночевать. А перед сном поздний ужин предложил. Так, ничего слишком уж плотного. Чтобы сон не портить. Обжаренные кровяные колбаски, свареный с зеленью картофель, сыр…
После уже, под чай с сахаром и сдобой, от хорошего настроения разговор зашел о разных интересных механизмах и изобретениях. И Петр Александрович, давно уже попросивший звать его просто Петей, возьми да и поведай нам с Павлушей о чудесном двигателе внутреннего сгорания немецкого господина Отто. И о том, как было бы здорово это волшебное изобретение к карете приспособить, чтобы, что характерно, самобеглая коляска получилась. Мол, все уже придумал – и куда поставить, и что крутить, и как на колеса крутящий момент передавать. Только с газовым баллоном беда. И как штурвал устроить, все никак не изобретается.
– Так это что же, Петя? Ваш этот оттовский движитель что, на каком-то газе работает? – не поверил я своим ушам. – Надеюсь, не на водороде?
– Нет, ну что вы, Герман Густавович, – разулыбался молодой человек. – Как можно. Господин Отто обычным светильным газом машины свои питает.
– Отчего же не керосином или еще каким-нибудь продуктом из нефти?
– Оттого, видно, что не смог заставить жидкости вспыхивать в том месте, где нужно, – пожал плечами Фрезе-младший. – Кабы нашелся такой инженер, что открыл бы методу жидкими видами топлива свои машины заставлять работать, так до самобеглых карет всего один шаг бы остался. Жидкости-то, Герман Густавович, куда проще с собой в экипаже возить и по мере потребности доливать.
– Не думаю, чтобы это было особенно сложно, – хмыкнул я, припоминая карбюратор. Пусть я совсем никакой инженер, но не раз разбирал это «потрясающее» изобретение. – Давайте я вам сейчас нарисую…
И нарисовал. Чертежник из меня еще более «умелый», чем конструктор. Так что получилось совершенно коряво и невнятно. Пришлось давать пояснения.
– Вот, Петя. Что-то в этом роде.
– Но ведь это… Ведь это, ваше превосходительство, просто невероятно! – Молодой геолог даже вскочил от волнения. И тут же сел. – Это устройство совсем несложно изготовить… Эх! Был бы у меня капитал, дабы довольно было на приобретение машины Отто, я непременно испытал бы сие устройство.
– А вы у Германа Густавовича попросите, – хихикнул Павлуша Фризель. – Наш начальник вон на целые технические лаборатории изыскивает средства, а машина эта, чай, не мильоны стоит.
– Напишите этому изобретателю, – кивнул я. – Узнайте о возможности купить один из его механизмов. Любопытно было бы взглянуть… В крайнем случае всегда можно будет применить его для чего-нибудь полезного. Вот хотя бы воду на пожарах качать.
Петр Александрович уже на следующий же день, истребив десяток листов бумаги на черновики, создал письмо своему заграничному кумиру. И принес мне на рецензию. Пришлось выбирать слова и объяснять, что не стоит сейчас, до натурных испытаний, хвастаться перед иностранцем нашими методами. Довольно для него будет и того, что кому-то вообще пригодится это чудо инженерной мысли. Зато потом появится повод утереть Отто нос. Фрезе проникся. Послание мы быстренько переделали, запечатали в конверт и положили в пачку моих готовых к отправке адресатам депеш.
С тех пор, смею надеяться, молодой человек стал моим соратником. Во всяком случае, когда речь зашла о пакете социальных гарантий работникам предприятий, которые должны были образоваться после распределения концессий, Петя всегда вставал на мою сторону в спорах с Фризелем. Тот вообще не видел надобности включать в требования к кандидатам в концессионеры какие-либо пункты о правах рабочих. Мол, не дело это губернского правления – указывать почтенным богатеям, как именно им стоит обращаться с нанятыми людишками. Сын начальника АГО тоже не понимал, зачем мне это надо, но все равно поддерживал. Видимо, просто из-за стремления к справедливости.
Нужно сказать, ничего такого сногсшибательного я и не хотел. Десятичасовой рабочий день, минимальная ставка оплаты труда и страхование людей от несчастного случая. Ни о бесплатной медицине, ни о пенсиях даже заикаться не стал – этого и у большинства чиновников пока еще нет, а тут рабочие. Идеи социальной справедливости в Европе нынче в моде, но мне их приверженцем быть нельзя. Невместно, едрешкин корень.
В конце августа вернулась экспедиция, отправленная мной на север губернии в поисках нефти. Кораблик, на котором они уходили в поиск, притащил на прицепе пароход, тянувший пару барж с датскими переселенцами и небольшой партией ссыльных. Приключения моих порученцев достойны отдельной книги. Так что ограничусь описанием буквально в двух словах – нефть нашли. Причем, что совсем удивительно, неглубоко. Уже во втором колодце, который выкопали на берегу озерца, всего на глубине сажени три на дне стали собираться нефтяные лужицы. Я, честно говоря, воспринял это не иначе как чудо. Ну или бонус, подброшенный мне Господом. Уж кому, как не мне, было знать, что в моем мире черное золото обнаружили только на глубине два километра, а тут всего-то шесть метров.
Привезли мне шесть десятиведерных бочек, так сказать, в подарок. Я их тут же передал химикам в лаборатории с наказом испытать на возможность получения керосина, но остатки не выливать, а показать мне. Обещали немедленно заняться, как только закончат опыты с коксованием привезенного из окрестностей Судженки угля. А пока крышки бочек залили воском и поставили на склад.
И снова закрутили дела, да так, что о подарке и вспомнить было некогда. Приехали из Бийска мои казачки. А с ними в роли экспедитора при большой коробке с ассигнациями и личным представителем в губернской столице – Мефодий Гилев, младший брат Васьки Гилева. Еще при нем были здоровенный куль темно-зеленой шерстяной ткани – по мнению Германа, неплохого качества, и толстая стопка исписанных самим Василием Алексеевичем листов. Большей частью в послании содержался подробный финансовый отчет по нашим совместным делам, и после прочтения я на глазах Мефодия эти бумаги сжег. Ну правда, не стану же я проверять, что где Гилев купил и куда продал?! Не забыл о наших договоренностях – и то ладно. И сто тридцать пять тысяч рублей ассигнациями – тому лучшее доказательство. Пусть эта гора разноцветной бумаги и не решит всех моих проблем, но вполне способна еще какое-то время хранить веру местных купцов в мою платежеспособность.
Оказалось, деньги Василий прислал не все. Это уже брат на словах передал. Говорил, что нынешним летом едва ли не по всей Монголии шкурки сурка скупали. Приказчики в таких местах побывали, где прежде белого человека вообще ни разу не видели. И столько набрали, что тюки через бомы две недели перетаскивали. На счастье, их всего два труднопроходимых осталось. Остальные подполковник Суходольский уже укротил.
Так вот Гилев опасается, что коли вывалить на Ирбитской ярмарке всю эту гору меха, так цены обязательно понизятся. Планирует большую часть для Нижнего Новгорода приберечь, но если у меня какое-то иное мнение есть, так Мефодий до брата мои советы и донесет. Тем более что из тех шкурок чуть ли не каждая четвертая – вроде как моя.
Конечно, у меня было особое мнение. И очень странно, что эта мысль не пришла в голову самому матерому торговцу Ваське Гилеву. Ни за что ведь не поверю, будто бы он не знает, в чем именно ценность этих монгольских сурковых шкурок!
Дело в выхухоли! Есть такой забавный зверек в русских лесах. На помесь крота с ежом похож, только колючек нет. Мех у него густой и плотный. И в Европе ценящийся выше бобрового. Одно только плохо – мало этих чудных носатиков осталось. К нынешним временам, может, и совсем бы уже выбили их, да монгольские сурки на подмогу подоспели. Очень уж их шкурки похожи оказались, да еще и дешевле чуть ли не в три раза. Шубку выхухоли на ярмарках дешевле чем за полтора рубля и не отдают, а сурковые – сорок пять копеек за белую, шестьдесят за черную. Вот и повадились основные поставщики редкого меха на торги в Лейпциг вместо выхухолевых сурочьи возить. И всем хорошо. И зверькам, которых ловить долго и хлопотно, и ну их. И монголам – у них этих сурков дети волосяной петлей арканят по десятку в день. И купцам – прибыль втройне и товара всегда много. А европейцев уже и не спрашивал никто.
Естественно, были в Сибири и такие купцы, что до самого Лейпцига добирались с мягким товаром. Но все-таки большинство торговцев дальше Ирбита и не ездили. Время – деньги. Пока до этих заграниц доберешься, трижды степнякам стеклянные бусы на шкурки поменять успеешь. А один из родственников уважаемого господина Куперштоха, достославного каинского купца, считал иначе. Вот к этому весьма расчетливому господину я Мефодия и отправил. Куперштох обещал мне врачей и инженеров в России искать и в Сибирь зазывать и слово свое не держал. Я ему за просто так, что ли, идею с консервами подарил? Значит, теперь он мне вроде как должен. Пусть с родней как хочет договаривается, но чтобы всю пушнину у Гилевых по высшей цене Ирбита забрали.
Еще младший Гилев передал просьбу старшего каким-нибудь образом исходатайствовать разрешение для них на использование на их суконной мануфактуре паровых машин. Рек в Бийске, которые можно было бы запрудить и водобойное колесо устроить, нету, а лошадьми крутить станки дорого и хлопотно. А как здорово бы было, если бы мертвая железяка им всю фабрику энергией снабжала! Я пообещал попробовать что-нибудь сделать, но сразу наказал, чтобы уже начинали договариваться о концессии на разработку угольной шахты. Возле Кузнецка много хороших месторождений есть. Машина топливо сотнями пудов поедает, а с дровами в АГО жуткий дефицит.
Не так уж трудно написать министру уделов Адлербергу. Он уже наверняка в курсе, что у нас с Асташевыми общий банковский бизнес, а сам министр долю в приисках Ивана Дмитриевича имеет. Все в этом маленьком, едрешкин корень, мире связано! Теперь вот, получается, и я в какой-то мере Адлербергу компаньон.
Конечно, и приличествующие случаю доводы у меня имеются. В конце концов почему бы не отменить глупый стародавний запрет на «огневое» производство, при условии что топки паровых машин и металлоплавильных печей не дровами, а углем станут топить? Государь уже разрешил разработку месторождений в своей вотчине, так нужно же теперь создать потребность в устройстве копей. В общем, сразу надиктовал Мише послание, и обрадованный Мефодий отправился в Каинск – передавать привет от меня Куперштоху.
Думал, наступит осень, дороги развезет и я смогу хоть немножко перевести дух. Не тут-то было. В сентябре я уже с нежностью вспоминал летнее затишье. Тогда у меня хотя бы находилось время на посещение мадемуазель Карины Бутковской.
И аукцион на сентябрь я тоже зря назначил. В Томске вдруг чуть ли не вдвое увеличилось число жителей. Стряпчие выли и падали в обморок прямо за своими столами – так много им пришлось оформлять свидетельств о регистрации всевозможных товариществ на вере или торговых домов. Купцов первой гильдии в крае было не так много, а к участию в торгах на право разработки недр допускались только промышленники или промышленные организации с капиталом свыше ста тысяч рублей на ассигнации. Народ кинулся объединяться, а приказчики Гинтара в банке – открывать новые счета.
Государственный банк в виде немаленького каравана под охраной пятидесяти конных жандармов въехал в город в первой декаде сентября. Кавалеристы проводили несколько тяжелых экипажей с деньгами до нового, только-только достроенного здания и убыли в распоряжение Кретковского. А через несколько дней, после Воздвиженских праздников, устроили торжественное открытие Томского отделения. Промышленный банк тихо, без помпы, переехал в новый особняк еще через неделю.
Где-то в промежутке в Ушайку втолкнули плоты с семьями моих мастеровых. Пересыльная тюрьма к тому времени уже стала карантинным поселением для датчан, и баб с ребятишками оказалось совершенно некуда пристроить. Кто же мог подумать, что и датчане, и томичи появятся в губернской столице в одно и то же время?!
Не знаю, куда девал бы транзитных пассажиров, да полковник Денисов – губернский воинский начальник, выручил. Батальон в теплое время года все равно в лагерях на берегу Томи обретался, так что казармы, хоть и ветхие, а с крышей, стояли пустые. Потом и Евграфка Кухтерин подоспел – за неполную неделю сумел организовать извозных мужичков в караван и начал вывозить людей в Троицкую и Тундальскую.
Ах да, я же не рассказал! С появлением Пятова в планах Чайковского произошли существенные изменения. Не скажу, какой кровью Пятову удалось переспорить упертого Илью Петровича, – не присутствовал. Меня поставили практически перед фактом – в Тундальской на все виды планирующегося производства не хватит воды, а потому часть цехов начали строить рядом с деревней Троицкой. Это примерно тридцать верст на север-северо-запад. Там и реки больше, и к углю ближе.
Второй причиной разделения послужила разность в подходе двух металлургов к проектированию будущего гиганта сибирской промышленности. Чайковский за долгие годы службы отлично освоил один способ, а Пятов настаивал на другом – более современном и намного более производительном. В итоге дело кончилось компромиссом. В Тундальской будут делать железо по старинке, но уже с конца осени. А в Троицкой – по-новому, но с будущего лета. По мне, так хоть сунь-вынь, хоть вынь-сунь – все одно. Лишь бы рельсы на участок от производства до угля, а в идеале и до Томска, были готовы к началу их укладки.
Колосова я с Кухтериным отправил. Назначил комендантом сразу двух новых поселков и инструкции по их обустройству, а также по организации быта рабочих выдал. Нечего было отставному поручику в Томске старым ретроградам глаза мозолить. Я чуть ли не все лето с Омском переписку вел в стиле «в ответ на ваше исходящее за номером…» как раз по поводу Колосова с компанией. Дошло даже до того, что как-то подозрительно оперативно вернувшийся из Петербурга Дюгамель прислал мне депешу, в которой уже с трудом сдерживал гнев: «Прошу прекратить ненужную полемику. Наставлять высшую власть, как нужно действовать, непозволительно и выходит за пределы приличия. Прискорбно напоминать об этом губернатору… Неисполнение предыдущих предписаний останется на вашей совести». Моя тренированная совесть коварно молчала, никаких мук не испытывая. Герочка глумился над системой, изобретая все новые и новые отговорки.
Вернулись Варежка с супругой. Ядринцов внял моим советам и в компании с Василиной решил продолжить путешествие по губернии. Теперь на юг, в Барнаул, на содовый завод Прангов, и в Бийск, к братьям Гилевым.
Нужно признать, мне попросту повезло, что Пестянов приехал до того, как генерал-губернатор изобрел новый способ давления на меня. Потому как именно Ириней Михайлович опознал в скромном мелочном купце, обосновавшемся в гостинице «Европейская», чиновника по особым поручениям Главного управления Западной Сибири, коллежского секретаря Лещева. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться, что скрывается этот господин от моего внимания совсем неспроста. Наверняка шпионить отправлен – народ баламутить и компромат на меня собирать.
Потом в один день вернулся Артемка и на другом берегу возле паромной переправы встал лагерем китайский купеческий караван. Впрочем, иностранцы меня мало волновали. Хватило и денщиковых рассказов.
Артем Яковлевич Корнилов возмужал. Всего-то за одно короткое лето из пугливого парнишки превратился в уверенного в себе молодого воина. Из Бийска мой порученец отправился на юг в сопровождении трех казаков, а вернулся с двумя. Один собственной жизнью заплатил за две горсти невзрачных зеленых камешков. В отрогах Уральских гор на лагерь моих разведчиков наскочили какие-то дикие киргизы, и, если бы не ужасающая для нынешних времен скорострельность винтовок мистера Спенсера, быть бы и остальным казачкам добычей.
Изумруды нашли быстро. Один крупный – сантиметра три длиной, шестнадцать поменьше – с сантиметр и три десятка маленьких – меньше ногтя мизинца. Всего-то за неделю наковыряли из крошащихся откосов. Потом нашли еще расщелину в скалах, а в ней целую друзу – каменный изумрудный цветок. Два дня возились, хотели целиком вырубить, чтобы меня удивить. Но все-таки сломали случайно. Зато, так же случайно, подобрали на берегу речушки серо-стальной тяжелый окатыш с два кулака размером. Тяжелый. Его тоже привезли – вдруг что-то нужное.
Спутникам молодого Корнилова я по сто рублей премии выдал, наказал помалкивать о своих приключениях да и отпустил восвояси. А Артему Яковлевичу только три дня и суждено было передохнуть после трудной дороги – и снова в путь. В Санкт-Петербург.
Таким был наш с ним уговор. Путешествие на малоизвестную речку у черта на рогах – в обмен на учебу в Академии художеств. Брякнул однажды, еще в Петербурге, когда Артемка помогал готовить мне плакаты к докладу, – мол, верная у тебя рука, учиться тебе надо. А казачок, оказывается, крепко задумался. Карандашей себе накупил и бумажных листов специальных. Пытался лошадей рисовать, лица людей, ружье на столе. Стеснялся сильно своего тайного увлечения. Ему казалось, что не пристало лихому сибирскому казаку малеваньем заниматься.
Но надо же такому случиться, что из-за его карандашных рисунков вышел скандал. Забрел, уж и не знаю по какой нужде, Апанас в каморку моего денщика и увидел на столе стопку картинок. Что это сам парнишка мог изобразить, моему мажордому и в голову прийти не могло. Так что, совершенно естественно, белорус решил, что шустрый казачок попросту где-то спер сии листы. Дождался возвращения Артемки в свою обитель и принялся молодца отчитывать. А тот – отпираться. И так они разошлись, что отголоски даже я услышал. Любопытно стало, пошел узнать, из-за чего сыр-бор. Тут-то все и открылось.
Послание для ректора столичной академии давно было готово. Как и еще два десятка писем разным начальникам различных учебных заведений империи. Артем Яковлевич Корнилов поехал в Академию художеств. Дорофей Палыч – в Подмосковье, в Петровское-Разумовское. Там нынешним летом открылась Петровская земледельческая и лесная академия. С собой у талантливого молодого селекционера кроме, естественно, моего письма-направления были рекомендации Степана Ивановича Гуляева и благодарственные письма от Венедикта Ерофеева. Он же, я имею в виду Венедикта, собирался все те годы, что Дорофеюшка станет учиться, выплачивать ему немаленькую стипендию. Только чтобы будущий агроном вернулся на экспериментальную ферму неподалеку от Каинска.
Остальные два десятка студентов отправились в разные вузы по рекомендации своих наставников из сотрудников моих лабораторий. Им денежную помощь будет оказывать недавно организованное Общество всеобщей грамотности. Во всяком случае, председатель… гм… руководитель общества Анастасия Павловна Фризель мне это клятвенно обещала. Но обучение своего Артемки я намерен оплачивать исключительно сам. И жить он станет в нашем столичном доме. Со старым генералом я уже договорился.
И то, что напоследок попросил Корнилова оказать мне еще одну услугу – отвезти Густаву Васильевичу Лерхе изумруды, – это никакое не коварство. Для транспортировки этого богатства ведь надежный человек нужен. А кому мне еще доверять, как не бывшему денщику?
Можно было, конечно, Пестянова отправить. Но Варежка мне в Томске нужен. Хотя бы чтобы присматривать за невесть что о себе возомнившем коллежском секретаре Александре Никитиче Лещеве. Я понимаю, прислали шпионить, но зачем же к купцам, да еще накануне аукциона, со всякими глупостями приставать? У слуг и конвойных казачков обо мне выведывать. Как ребенок, честное слово! Любая баба на рынке ему бы обо мне в десять раз больше информации выдала. Городок у нас маленький – все про все знают. А чего не ведают – о том сочинят и расскажут. За гривенник – так и вообще. Записывать устанешь.
В общем, всерьез я этого засланца не воспринимал. Считал, поиграется в детектива, помучается да и заявится. А у меня и без Лещева дел полно. Фризелю все-таки удалось загнать меня в угол и принудить сесть за сочинение очередного всеподданнейшего отчета. Я и так отговаривался чрезмерно долго. То завод у меня, то документы к аукциону, то китайцы…
У гостей из сопредельного государства были адресованные лично для меня два послания. От нового кобдинского амбаня Куйчама и от улясютайского цзянь-цзуня Цуань Жюня. Это вроде как от губернатора и наместника провинции. Оба письма были написаны кисточкой, на тоненькой – чуть ли не прозрачной – рисовой бумаге, на французском языке.
Куйчам делился со мной своей радостью по поводу открытия нового торгового маршрута между Поднебесной и Высоким государством. Намекал на возможность особого покровительства русским купцам, если кто-нибудь из них решится открыть свои склады и лавки в посаде крепости Кобдо. На взятку намекал – тут все ясно.
Не очень понятно, а потому подозрительно звучала та часть послания, в которой Куйчам выражал недоумение по поводу необходимости присутствия крупного, по тамошним меркам, русского воинского контингента в Чуйской степи. Мол, две великие империи давно живут в мире и согласии, так чего же опасается томский амбань? Зачем крепость с пушками и целая армия кавалеристов? Это он, как я понял, о казаках. Хотел уже было сесть писать ему ехидный ответ. Что-нибудь вроде того, что, мол, у вас в Синьцзяне такая каша варится, что брызги кипятка и до нас долетают… А потом Герочка коварно так поинтересовался, а не намерен ли я здесь, в Сибири, еще и МИД империи заменить? И если вдруг да, так где у меня тут двери, чтобы он мог сойти с этого сумасшедшего носителя…
Улясютайский наместник был более лаконичен. Просто и даже не слишком любезно, извещал меня, что царь Высокого государства разрешил в порядке личной инициативы торговать с осажденными в Кульдже циньскими властями. А потому предлагал мне немедленно оповестить торговых людей своей губернии, что в столице Илийского края достаточно чая, шелка и серебра, чтобы вызвать интерес купцов. Китайцы же заинтересованы в поставках продовольствия, пороха и оружия. В случае же, если достаточно отважных и предприимчивых торговцев у нас не сыщется, наместник сообщал о возможности отправки караванов в Синьцзян из Монголии. Видно, в Кульдже дела обстояли настолько плохо, что маньчжуры были готовы даже заплатить двойную таможенную пошлину, только чтобы не допустить падения осажденной повстанцами цитадели.
И лишь последним абзацем, буквально в двух словах, цзянь-цзунь сообщал, что пекинское правительство официально разрешило торговлю китайских подданных в свободной экономической зоне в урочище Бураты.
Пока изучал послания, пока обдумывал, куда переслать эти документы, – в Омск или сразу в столицу, и что бы этакого написать в сопроводительной записке, бессознательно крутил в руках подарок томской юродивой. И очень удивился, когда один из купцов вдруг залопотал, залянькал и заханькал что-то по-своему, указывая пальцем на поблескивающий у меня в ладошке опал.
– Уважаемый Сяй говорит, что лишь сильный человек может владеть таким камнем, – заторопился переводить похожий больше на татарина, чем на китайца, толмач. – Иными камень владеет сам! По древней легенде, такая драгоценность даже однажды спасла Китай.
– Очень интересно, – равнодушно выговорил я, досадуя, что пожилой торговец оторвал меня от размышлений.
– Уважаемый Сяй говорит, что осажденные в последнем оплоте китайцы подарили такой камень предводителю завоевателей и тот больше так и не смог оторвать взгляд от волшебного мира, заключенного в драгоценности. Его армия была разбита, а он сам умер от голода.
– Могу отправить его предводителю бандитов, что ныне стоят под стенами Кульджи, – хмыкнул я. – Только сомнение в эффективности такого способа вести войну останавливает меня.
Глава делегации снова заговорил, и вскоре я услышал перевод:
– Уважаемый Сяй опечален. Он говорит, что теперь другая война и другие камни. И если эта драгоценная вещь – единственное, чем Высокое государство готово помочь несчастным обитателям Кульджи, то они уже обречены.
– Другое время, другая война, – кивнул я. – Только люди все те же.
Глава 12
Семнадцать мгновений зимы
Полностью готовый всеподданнейший отчет все равно продолжал называться черновиком. Потому что с января месяца порядок подачи такого типа документов был в империи изменен. Теперь, прежде чем бумаги, размноженные на копии, попадут на стол государя императора, наследника и председателя комитета министров, их обязан был просмотреть и внести правки генерал-губернатор. Мне в общем-то все едино, только так случилось, что к ноябрю месяцу кресло Западно-Сибирского наместника оказалось вакантным. Прошение Александра Осиповича Дюгамеля об отставке вдруг было императором удовлетворено, однако имя нового омского начальника так и не было названо. Странно это как-то. Странно и тревожно. Словно черные грозовые тучи на горизонте, которые невесть куда может занести.
Кстати сказать, обычно замещающий Дюгамеля генерал-лейтенант Панов тоже был как-то вдруг снят с должности военного губернатора области сибирских киргизов и причислен к Генеральному штабу. Сама же область разделена примерно пополам. На Акмолинскую – перешедшую под управление оренбургских властей, и Семиреченскую – присоединенную к вновь создаваемому Туркестанскому наместничеству. Генерал-губернатором в Ташкент был назначен генерал-лейтенант Михаил Григорьевич Черняев.
Все-таки жаль, что новый член Государственного Совета генерал-лейтенант Дюгамель никоим образом к моей губернии не относился. Забавно было бы отметить факт его убытия в Россию в первом пункте отчета.
«Движение народонаселения в губернии». Дотошный Фризель и новый председатель только что созданной губернской статистической комиссии князь Костров постарались пересчитать всех, кто этой весной стронулся с обжитых мест. Интересно было читать. Шестьсот казацких семей общим счетом почти в четыре тысячи человек. Две роты солдат с припасами – это новый гарнизон крепости. По Чуйскому тракту только добровольных переселенцев прошла целая армия. А если еще и ссыльных учесть – так даже и орда.
Две тысячи двести человек из поселка при томском заводе переселены, наоборот, на север. Еще в саму губернскую столицу на постоянное жительство приписаны почти пять тысяч. Добавить к сухой статистике пространные объяснения – кто, куда и по какой надобности, так первый же пункт отчета уже страниц на шесть расползается. А еще ведь и информацию о родившихся в уходящем году детях нужно сюда включить. Ни много ни мало – восемнадцать тысяч шестьсот новых маленьких сибиряков.
Ребенок Бутковской пойдет уже в статистику будущего года. Он… или она… УЗИ еще не изобретено, поэтому только Богу ведомо, какого пола малыш родится в начале мая 1866 года.
– Герман, я должна тебе открыться, – нерешительно выговорила Карина при последнем моем ее посещении. – Я…
– Влюбилась? – хмыкнул я, стягивая с плеч полукафтан.
– Нет… – Она прижала руки к груди. – Я… я непраздна.
Едрешкин корень! Я замер на месте. Герочка рычал, бился в клетке моего черепа и требовал решить все дело одним метким выстрелом. А по пути рисовал все прелести женитьбы на содержанке, чтобы я не решился вдруг на благородный поступок.
– И я… – Получилось хрипло. Пришлось прокашляться, чтобы голос звучал более или менее ровно. – И я его…
– Нет, любезный Герман, нет! – Женщина сделала шаг ко мне и вдруг неожиданно упала на колени. – Прости меня! Простите, ваше превосходительство! Он… Он один поляк…
Я встал и отвернулся, чтобы не показывать полячке, как был рад. Прямо будто гора с плеч свалилась.
Взял мундир, прежде небрежно брошенный на спинку стула.
– Ты ныне дама с хорошим приданым, – придавливая ликование души, строго сказал я. – Выходи за этого человека замуж и живите счастливо. А я…
И все-таки было немного жаль терять эту девушку. Может быть, поэтому голос предательски дрогнул?
– А я стану за вами присматривать, чтоб твой поляк не смел тебя обидеть.
Больше я в клуб не ходил. Миша изредка упоминал о том, как там обстоят дела, но в подробности личной жизни Карины не вдавался. А я не спрашивал. Быть может, боялся узнать, что она мне солгала и никакого поляка не существует…
«Сведения, касающиеся вновь освоенных пустолежащих земель и их населения» – это новый пункт. До летнего указа его в отчетности не было. Но и тут нам есть что сказать. Чем похвастаться. Одни датчане чего стоят. А еще ведь и русские «самоходы» имеются. Межевая комиссия на будущую весну десять тысяч участков готовит только на землях гражданского правления. Из АГО сведения скупы и отрывочны. Будто это тайна великая – сколько они новых крестьян на землю в текущем году поселили.
Хотя мы тоже не торопимся указывать, что благодаря голоду на Урале удалось сманить в край дефицитных мастеровых и строителей. Более трех тысяч! Для задыхающегося от нехватки рабочих рук Томска это просто глоток свежего воздуха! А вот владельцам уральских заводов о такой нашей активности лучше не знать…
«Состояние урожая и вообще средств народного продовольствия». Ха! Да мы весь год всю Западную Сибирь кормили. И Красноярск в придачу. Цены в городах губернии слегка выросли, но и товарооборот резко подскочил. Земледельцы торопились истратить нежданно свалившуюся прибыль. А осенью вдруг выяснили, что «праздник живота» продолжается. Снова с юга на окрестности Семипалатинска принесло саранчу, а поздние весенние заморозки лишили последних надежд на хотя бы неплохой урожай в Омской и Тобольской губерниях. И снова потянулись ко мне в край купцы. Пошли на юг, в хлебный город Бийск, пароходы.
«Состояние народного здравия». Пришлось расписывать чуть ли не по волостям. Для контраста. Потому что там, где трудился Дионисий Михайлович Михайловский или кто-нибудь из его учеников, и младенцев выживало больше, и от болезней людей мерло меньше. В виде цифр вообще чудесная картина получилась. Тут уж мы с Павлушей не постеснялись. Расписали и наши с ним заслуги, и успехи моего алтайского медицинского центра.
«Состояние народной нравственности, умножение или уменьшение числа преступлений, роды их, особенные сопровождавшие их обстоятельства, когда они заслуживают и особенного внимания, охранение общественного спокойствия и благочиния». Писать в этом пункте о курьезе, с коллежским секретарем Лещевым приключившемся, или пусть его? Так-то оно, конечно, особенного внимания потребовало. Но, с другой стороны, Александр Никитич всего лишь приказ в силу своего разумения и таланта выполнял. И не его вина, что цели ему были указаны четкие, а вот методы достижения – весьма и весьма расплывчатые. А у нас в Сибири народ живет конкретный, намеки плохо понимающий…
Степаныч мешал. И пиво с водкой, и мне – вчитываться в новые, только сегодня доставленные в кабинет таблицы к отчету. Песни пел, гад, и Стоцкого моего спаивал. Я умом-то понимал, что они с полицмейстером нужное и важное дело делают – народными методами выпытывают военные тайны у старого безсоновского знакомого – субалтерна Цинджабана Дондугона. Неспроста же бравый пограничник вдруг оказался командиром небольшой, всего-то в четыре человека, охраны купеческого каравана. И то, что нигде, кроме моей гостиной, им спокойно заниматься своим нелегким делом не дадут – тоже понимал. Но, едрешкин корень, как же было жаль бестолково проведенного времени!
Оказалось, зря зубами скрипел и матом с Герасиком ругался. Если бы не уже чуть тепленькая компания, сидел бы в своем кабинете и самое интересное неминуемо бы пропустил.
Осенью темнеет быстро. Летом ночи короткие. Тьма, можно сказать, только под утро и прокрадывается. Зимой даже слабого света луны хватает, чтобы снег заблестел, как-то по-особенному засветился словно бы изнутри, подсвечивая все вокруг. А осенью все быстро. Солнце падает за горизонт, и все погружается в непроглядную мглу. Добавить сюда мелкий, нудный, без пузырей на лужах, дождь – и вообще жуть. В такую погоду добрый хозяин собаку-то на улицу не выгонит, не то чтобы еще и самому по лужам бродить, природой любоваться.
В общем, когда Апанас сообщил, что какой-то человек лупит кулаками в парадные двери усадьбы, ругается и требует немедля его впустить, я сильно удивился. И велел принести револьвер. На меня глядя, и Безсонов из кармана шинели свой пистоль выудил. А потом и Фелициан Игнатьевич – карманную пушку от мистера Кольта. Цинджабан непонимающе лупал глазами и улыбался, но невооруженным глазом было видно, как хмель вытекает из молодого китайского офицера.
– Ты, Цыня, не боись, – пророкотал Астафий Степаныч. – Мы сей же час глянем, кого это там черт принес…
К слову сказать, конвой я в тот вечер отпустил. Нечего казачкам видеть, как их командир на пару с начальником полиции города тщедушного иностранца зеленым змием пытают. У русских людей сердце доброе, почти материнское. Не удержались бы, как пить дать! Бросились бы на помощь.
Безсонов, впрочем, легко заменял собой целый десяток. А в рукопашной наверняка и побольше. Кроме того, в доме был весьма богатый арсенал и полный штат слуг, которые бы не побоялись припасенным оружием воспользоваться, случись что.
Черт принес Александра Никитича Лещева. За несколько дней до описываемых событий он заходил сделать памятное фото в ателье мадам Пестяновой. Больше-то в Сибири такие услуги пока никто не предлагал, а сохранить свое изображение для потомков каждому хочется. Для потомков и для нашей, уже обширной, картотеки. Только благодаря этому фото я коллежского секретаря и смог опознать. Хотя и было это, честно и без лишней скромности говоря, вовсе не просто.
Он был жалок. С одежды на пол прихожей мигом натекла лужа воды. Обувь рассказывала о нелегком пути ее хозяина по грязевым топям. У самого же коллежского секретаря кроме общего вида а-ля пожеванный китом Иона еще имелся обширный кровоподтек под левым глазом и виднелось несколько ссадин на скуле.
– Ты кто? – не слишком любезно поприветствовал затравленно озирающегося дюгамелевского шпиона Безсонов. – Какого дьявола…
– Я полагаю, мы видим перед собой господина Лещева, – хмыкнул я и жестом велел Апанасу забрать извазюканное нечистотами пальто нежданного гостя.
– Да-да, ваше превосходительство, – часто закивал чиновник по особым поручениям Главного управления, убедившись, что тяжелая, обитая коваными железными полосами дверь надежно закрыта на засов. – Именно так. Однако откуда же вам…
– Ну-ну, Александр Никитич, – укоризненно покачал я головой. – Не станете же вы обвинять в том, будто бы мне неведомо, что происходит в доверенной государем императором губернии?
– Так вы… Ваше превосходительство, отчего же вы ранее не…
– Вы не стойте так, господин коллежский советник, – перебил я что-то там себе бормочущего под нос разведчика. Во-первых, не хотел давать ему время собраться с мыслями. А во-вторых, мне он больше нравился таким – растерянным и побитым. – Снимайте обувь. Сейчас вам принесут что-нибудь надеть… И проходите же наконец. Что же вы, так исповедоваться прямо у дверей и станете? Что там еще с вами приключилось?






