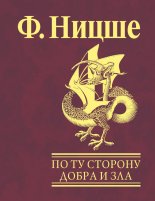Воронья дорога Бэнкс Иэн

Потом были еще звуки, и были еще затяжки, и было разглядывание звезд. Льюис изобразил, как радиоприемник перенастраивают с волны на волну: губы купно с пальцами производили удивительно похожие на шумы эфира звуки, и вдруг вторгались дурацкие голоса: диктора, конферансье, эстрадного комика, певца… «Трррршшш… сообщает, что члены лондонской зороастрийской общины забросали бутылками с горючим редакцию газеты “Сан” за богохульство… зззоооууууааааннннжжж… Блягодалю, блягодалю, ляди и дьзентильмены, а сисяс длюзьно поднимем люки за сиамских блязнисов… крррааашшшуууашшшааа… Бобби, ты это пробовал? Ну еще бы не понравилось! Лапша “Доширак”, кто съел, тот дурак!.. Хей, хей, мы – наркома-аны! Мы – наркома-аны… зпт!»
Ну и так далее. Мы смеялись, пили кофе, курили.
Телескоп был черным и мощным, как сама ночь. Алюминиевый череп обсерватории повторял движения единственного зрака, который медленно полз по развернутой паутине звезд. Вскоре и у меня как будто поползла крыша. Музыкальная машинка играла где-то далеко, очень далеко. И когда до меня начал доходить смысл песни «Близнецов Кокто», я понял, что поплыл. В таинственной галактической гармонии звучали небесные тела, космос играл мне симфонию древнего дрожащего света. Льюис рассказывал всякие жуткие истории, чередуя их с крайне несообразными хохмами, а близняшки в свитерах, с иссиня-черными длинными волосами, обрамляющими широкие скуластые лица, нахохлились над карточным столиком; они походили на гордых монгольских принцесс, спокойно созерцающих Вселенную из дымной юрты с жердяным каркасом, которую наступление ночи пришпилило к земле посреди бескрайней азиатской степи.
Верити Уокер, позабыв свою роль завзятого скептика, гадала мне по ладони; прикосновение ее было словно теплый бархат, голос – точно говор океана, а каждый зрачок – голубоватое солнце, висящее в миллиарде световых лет от меня. Она нагадала, что ждет меня печаль, и ждет меня счастье, и будет мне плохо, и будет мне хорошо, и я во все это поверил, а почему бы и нет, и последнее пророчество было на чикчирике, искусственном птичьем языке из детской телепередачи, которую мы все смотрели подростками, – и она пыталась щебетать с серьезной миной на лице, но Лео, Дар, Ди и Хел без конца прыскали, и даже я ухмылялся. Тем не менее весь последний час я счастливо подпевал потусторонним голосам Cocteau Twins и четко понимал все, что говорила Верити, пусть даже она сама этого не понимала; и я окончательно влюбился в васильковые глаза, и пшеничную копну волос, и в персиковый бархат кожи.
– Так что ты там бухтел насчет Пилата? – спросила Эш.
– А… – Я помахал ладонью. – Это слишком сложно.
Мы с Эш стояли на невысоком кургане, откуда открывался вид на верфь Слэйт-Майн, что на юго-западной окраине Галланаха, где Килмартин-Бэн течет с холмов, сначала помаленьку петляет, а затем расширяется, образуя часть Галланахской бухты, прежде чем его воды окончательно сольются с глубокими водами Иннер-Лох-Кринана. Это здесь стояли доки, когда поселенцы вывозили сначала уголь, потом сланец, потом песок и стекло, до того как проложили железную дорогу и началась джентрификация в мягкой викторианской форме – представ в облике железнодорожной пристани, гостиницы «Стим-пэкет-хоутел» и горсти вилл с окнами на море (неизменным остался только рыболовецкий флот, стихийно сгрудившийся посреди внутренней бухты, в каменных объятиях города, распухая, умирая, снова расцветая и опять приходя в упадок).
На холм меня затащила Эшли, в том часу глухой ночи, когда небо делается чистым, а звезды светят ровным и резким светом из глубины ноябрьской тьмы. Перед этим в баре «Якобит» мы победоносно сыграли на бильярде, а потом отправились домой к Лиззи и Дроиду через «Макрели» (точнее, через «Империю быстрого питания Маккреди»), и поужинали пудингом и пирогом с рыбой, и выпили по чашке чая, и долбанули по косячку, и двинули в гости к Уоттам на Рованфилд, и там обнаружили, что миссис Уотт еще не спит, смотрит ночные телепередачи, и она тоже напоила нас чаем, и мы наконец чуток придавили ухо в комнате Дина.
– Ребята, я созрела прогуляться, вы как? – заявила Эш, выходя из туалета под шум бачка и натягивая пальто.
У меня вдруг возникло параноидальное подозрение, что я злоупотребил гостеприимством и по своей пьяной близорукости не уловил тьмы намеков. Я глянул на часы, вручил недокуренный косяк Дину.
– Пожалуй, и мне пора.
Я попрощался с миссис Уотт, Эш сказала, что вернется минут через пятнадцать.
– Я вовсе не пытаюсь от тебя избавиться, – сказала Эш, затворив за нами дверь.
– Черт, кажись, я стал толстокожим, – посетовал я, когда мы пошли по короткой дорожке к воротцам в низкой ограде сада.
– Прентис, тебе это не грозит, – рассмеялась Эш.
– Ты и правда собралась гулять в такое время?
Я глянул вверх: середина ночи и холодно. Надел перчатки. Изо рта вырывались плотные белые клубы.
– Ностальгия. – Эш остановилась на мощеной дорожке. – Схожу напоследок туда, где часто бывала в далеком детстве.
– Вот оно что… Это далеко? А можно и мне?
Я всегда питал сугубый интерес к местам, которые люди считают важными, например дающими силу. Конечно, выпил бы поменьше, не стал бы так грубо набиваться в попутчики. Но что сделано, то сделано. К счастью, Эш не обиделась – со смехом повернулась кругом и сказала:
– Ладно, пошли, тут недалеко.
И вот мы на месте. На курганчике всего в пяти минутах от дома Уоттов. Прошли по Брюс-стрит, сквозь дощатый забор, через Обан-роуд, по заросшему бурьяном пустырю, где в прошлом стояли доки.
Теперь бывшая верфь была от нас метрах в десяти: голый скелет крана накренился над истрескавшейся бетонкой, под ним из бока пристани торчали деревянные сваи, словно черные сломанные кости. В лунном свете блестела грязь. У моря был вкус, и у моря был далекий блеск, но мерцание это почти исчезало, когда я пытался приглядываться. Эш, похоже, погрузилась в раздумья, она смотрела вдаль, на запад. Дрожа от холода, я застегнул на кнопки широкие отвороты липовой байкерской куртки и поднял замок молнии на правом плече, закрыл глянцевой кожей шею до подбородка.
– А можно спросить, чего это мы здесь делаем? – проговорил я.
Позади нас и слева ровно горели оранжевые огни Галланаха – как и во всех английских городах, вечно предупреждали жителей о том, что на ночных дорогах клювом лучше не щелкать.
Эш тяжело вздохнула, резко качнула головой вниз – указывала на землю под ногами.
– Прентис, ты хоть знаешь, что это такое?
Я тоже опустил голову.
– Ну, кучка.
Эш смотрела на меня, ждала ответа.
– Ладно, ладно. – Я резко оттопырил локти (развел бы руками, но предпочел держать их, хоть и обтянутые перчатками, в карманах). – Сдаюсь. Что это такое?
Эш наклонилась, и я увидел, как бледная рука сначала погладила траву, а потом зарылась в нее и глубже, в почву. Несколько секунд моя спутница сидела на корточках, потом подняла руку, встала, стряхнула землю с длинных белых пальцев.
– Это балластный курган, Прентис, Мировой холм. – Я почти разглядел ее улыбочку в свете выпуклой луны. – Сюда приходили корабли со всего мира и привозили всякую всячину, но некоторые прибывали без груза, с одним балластом. Понял?
Она смотрела на меня.
– Ага, балласт, – кивнул я. – Я знаю, что такое балласт. Это чтобы корабль не отправился вдогонку за паромом «Геральд оф фри энтерпрайз».
– Обыкновенные камни, набирали их там, откуда корабль отправлялся, – проговорила, снова глядя на запад, Эш. – А когда корабль прибывал в порт назначения, камни становились не нужны, и их сбрасывали.
– Сюда? – выдохнул я, на этот раз с уважением оглядев скромный курган. – Всегда – сюда?
– Мне об этом дедушка рассказывал, когда я была совсем малявкой, – сказала Эш. – Он тогда в доках работал. Бочки катал, стропы ловил, таскал в трюмы мешки и ящики. А позже крановщиком сделался. – Эшли произнесла слово «крановщик» на подходящий клайдсайдский манер.
Я опешил: вот уж не ожидал, что до понедельника, до возвращения в университет, буду вынужден стыдиться пробелов в своем историческом образовании.
– Ты прикинь, чувачок, – сказала Эшли, – у тебя целый мир под ногами.
Эшли улыбалась, вспоминая.
– Никогда не забуду, как в детстве сюда приходила. Приходила одна, и часто – просто посидеть. Думала: надо же, я сижу на камне, который был раньше частичкой Китая, или Бразилии, или Австралии, или Америки…
Она снова опустилась на корточки, а я прошептал:
– Или Индии…
И на долгий головокружительный миг жилы мои как будто наполнились океаном, темной подвижной водой – такой же точно, как та вода, что точила кромки полуразвалившейся пристани. Я подумал: боже мой, до чего же тесно мы связаны с миром. И вдруг поймал себя на том, что вспоминаю дядю Рори, связавшего наш род со всей остальной поверхностью планеты. Дядя Рори, наш вечный скиталец… Я посмотрел вверх, на истрескавшийся лик луны; меня охватили сладостные чувства: ожидание чуда и жажда познаний.
Мой дядя Рори, когда был еще моложе меня, покинул отчий дом. Он задумал кругосветное путешествие, но добрался только до Индии. И влюбился в эту страну, исходил ее, изъездил вдоль и поперек: из Дели – в Кашмир, потом вдоль предгорий Гималаев; пересек Ганг у Патны, проспавши в поезде этот знаменательный момент; потом сделал зигзаг из глубины страны до океанского побережья, и снова – вглубь; но всегда держал или пытался держать путь на юг. Он коллекционировал имена, паровозы, друзей, ужасы и приключения, а потом на самом краешке субконтинента, с последнего камня, омываемого низким прибоем на мысе Коморин, дождливым днем в наижарчайшую летнюю пору, повернул назад – и ехал на север, и шагал на запад, виляя по-прежнему, направляясь то в глубь Индии, то к морю, и обо всем увиденном, услышанном и пережитом писал на страницах дешевых школьных тетрадей, и упивался дикой культурой этого людского океана, и любовался циклопическими руинами и сказочной географией, и дивился слоеному пирогу из древних обычаев и современной бюрократии, и благоговел перед причудливыми образами богов, и поражался непомерному величию всего и вся. Он описывал увиденное им: города и села, перевалы через горы, пути через равнины, мосты через реки; и города, о которых мне доводилось слышать, такие как Сринагар и Лакхнау; и города, чьи названия у всех на слуху из-за их теснейшей связи с карри – такие как Мадрас и Бомбей; а еще те города, которые, по его чистосердечному признанию, он посетил только за их имена: Аллеппи и Деолали, Куттак и Каликут, Вадодара и Тривандрам, Сурендранагар и Тонк… Но где бы ни оказывался дядя Рори, он везде смотрел и слушал, он спрашивал и спорил; он все пропускал через себя и мотал на ус; он проводил безумные параллели с Англией и Шотландией; он ездил автостопом и верхом; он добирался вплавь и пешком, а когда денег не оставалось ни гроша, зарабатывал на ужин фокусами с картами и рупиями; и он снова добрался до Дели, а потом до Агры и совершил паломничество из ашрама к великому Гангу; и там от солнцепека и величия происходящего совсем окосел; и наконец, он вытерпел долгое плавание на барже, и поездом доехал до Калькутты, и самолетом долетел до Хитроу, едва живой от желтухи и хронического недоедания.
Проведя в лондонской больнице месяц, он уселся за пишмашинку, потом собрал у себя в квартирке друзей, прочитал путевые заметки и дал им название: «Деканские траппы и другие чертовы кулички». И отправил в издательство.
Казалось, рукопись канула бесследно. Но вдруг «Траппы» стали печататься кусками в воскресной газете и ни с того ни с сего, совершенно необъяснимым, казалось бы, образом привлекли к себе жгучий интерес читающей публики.
В возрасте тринадцати лет я прочел «Траппы», перечитал через четыре года и тогда уже понял их лучше. Мне трудно быть объективным, но думаю, это хорошая книга, кое в чем сыроватая и наивная, но интересная и живая. Дядя Рори путешествовал с открытыми глазами, без фотоаппарата, и записывал впечатления на страницах дешевых тетрадей, и записывал так, как будто боялся: он не сможет поверить в то, что увидел, услышал и испытал, пока это не оживет где-нибудь еще, не только в его завороженной душе. Поэтому он мог описать путешествие к Тадж-Махалу, который ты прежде знал лишь по скучным открыткам, так, что у тебя мгновенно создавалось впечатление об истинной красоте этой белой усыпальницы – изящной, но массивной, небольшой, но все же беспредельно величавой.
Эпическая грация. Этими двумя словами он выразил всю сущность Тадж-Махала, и я абсолютно точно понимаю, что он имел в виду.
Вот так наш Рори сделался знаменитым – очарованный странник, бредущий на фоне радужных гор.
Эш присела на корточки, вертя между пальцев сорванную с кургана травинку.
– Я часто сюда приходила. Особенно когда папаша, сволочь, маму лупил, а то и нам доставалось. – Она посмотрела на меня. – Прентис, останови меня, если ты об этом уже слышал.
Я тоже опустился на корточки. Потряс головой – не в знак отрицания, а чтобы в ней прояснилось.
– Ну, конкретно, может, и не слышал, но догадывался: житуха тебе медом не казалась.
– Вот уж точно, блин, не казалась, – с горечью подтвердила Эш. Травяное перышко проскальзывало между ее пальцами, возвращалось и снова проскальзывало. Эш подняла глаза, пожала плечами. – Иногда я сюда приходила только потому, что в доме невыносимо воняло горелым жиром, или телик орал на полную мощность, или просто хотелось напомнить себе, что существует целый мир, кроме дома сорок семь по Брюс-стрит, кроме бесконечной грызни над каждым пенсом, кроме споров о том, кому из нас пришел черед получать новую обувку.
– М-да, – сказал я, в основном потому, что поумнее слов не нашел. Мне, пожалуй, неловко сделалось при упоминании, что общество состоит не только из отпрысков благополучных семейств.
– Ну, короче, – заговорила она, – завтра тут все сровняют.
И оглянулась через плечо:
– Ради завода этого гребаного.
Я только сейчас заметил в отдалении на пустыре смутные контуры двух бульдозеров и экскаватора «JCB».
– Во суки, – выразил я соболезнование.
– Эксклюзивный контракт на застройку берега коттеджами в модном стиле «Рыбацкая деревня», с гаражами на две машины и свободным вступлением в частный оздоровительный клуб, – сказала Эш с клайдсайдским акцентом.
– Гады! – возмущенно мотнул я головой.
– Да ладно, чего там, – поднялась Эшли. – Надо же среднему классу Глазго куда-нибудь расползаться после геройской победы над коварными водами канала Кринан. – Она в последний раз погладила землю. – Надеюсь, ему тут понравится.
Мы с Эш уже повернулись, чтобы спуститься с кургана, и тут я схватил ее за руку.
– Слышь?
Она обернулась ко мне.
– Берлин, – сказал я. – Джакузи.
Только что вспомнил.
– А, ну да.
Она зашагала вниз по склону, к зарослям бурьяна, мусору и невысоким, по лодыжку, остаткам кирпичных стен. Я поспешил следом.
– Я была во Франкфурте, – сказала она. – Помнишь мою подружку по колледжу? Мы услышали, что в Берлине начались большие дела, и махнули туда автостопом и поездом, а там повстречались с… Короче, я очутилась в одной стремной гостинице, в бассейне, и это была типа огромная массажная ванна, и в ней, в уголке, типа островок, и один пьяный чувак, англичанин, пытался меня склеить, все прикалывался над моим акцентом и…
– Вот ведь козел! – сказал я, когда мы вышли на большак.
Мы подождали, пока мимо проскочит пара автомобилей. Они ехали из города на север.
– Вот и я так решила, – кивнула Эшли, пересекая вместе со мною шоссе. – Ну, короче, когда я ему сказала, откуда родом, он перестал врать, будто отлично знает эти места, и охотился здесь, и рыбачил, и что он знаком с лэрдом, и…
– А что, у нас есть лэрд? Надо же, я ни сном ни духом… Может быть, он дядю Фергюса имел в виду?
– Может быть. Вообще-то иногда он говорил довольно интересные вещи… Сказал, что тут одного чувака водят за нос, и уже давно, и зовут его вроде…
Эш остановилась на дорожке, что вела к Брюс-стрит. Мой путь к дому дяди Хеймиша лежал прямиком по шоссе.
Я окинул взглядом дорожку, освещенную одиноким желтым фонарем на полпути между нами и Брюс-стрит. Потом снова посмотрел в глаза Эшли Уотт.
– Случайно не Макхоун?
– Угу, – кивнула Эш.
– Хм, – сказал я. Потому что Макхоуны не так уж часто встречаются в наших краях, да и в любых других. – И кем же этот парень оказался?
– Журналюгой. Но это для прикрытия главного сдвига по фазе.
– А как его звали?
– То ли Рудольф, то ли как-то похоже, а фамилию не помню. Сам не представлялся, его при мне кто-то назвал.
– Что ж ты не выпытала? Нет бы пустить в ход женское обаяние.
– Ну, если честно, в то время оно было практически целиком отдано компьютерщику с плечами шире прерии и золотой карточкой «Ам-экс».
Эш лукаво улыбнулась.
Я негодующе покачал головой:
– Ну ты шалава!
Эш взялась за мои яйца через ткань «пятьсот первых» и вполне ощутимо сжала. У меня аж дух перехватило.
– Прентис, следи за языком.
Она отпустила меня, но тут же подалась вперед, прижалась губами к моим губам, языком провела по зубам, а затем повернулась и пошла прочь.
– Оба-на! – сказал я. Старые добрые шарики ныли, но не шибко. Я кашлянул и произнес как можно спокойнее: – Доброй ночи, Эшли.
Эш повернулась, ухмыльнулась, затем полезла во внутренний карман большой куртки флотского покроя, с медными пуговицами, что-то достала и бросила мне. Я поймал. Кусочек серого бетона. С одной стороны гладкий и темный.
– Die Mauer[4], – сказала, возвращаясь, она. – Взято, если хочешь знать, у Бранденбургских ворот. «Viele viele bunte Smarties!»[5] Красная краска – середина точки над последней «i». У тебя в руке обломок мира, разделявшего две Германии.
Я поднес к глазам зернистый бетон и восхитился:
– Оба-на!
Светлые волосы Эш мелькнули под уличным фонарем и растаяли в темноте.
– Оба-на!
Глава 4
Он окинул солар взглядом. По-прежнему большое новое окно с фронтонной стороны было затянуто листом прозрачного полиэтилена, который хрустел и шуршал на ветру под дождем. А еще был исполосован колеблющейся решеткой темных линий – снаружи бросали тень строительные леса. В зале с высоким потолком пахло краской, лаком, свежеструганым деревом и сохнущей штукатуркой. Он подошел к одному из витражных окон, постоял, глядя, как низкие облака плывут над Галланахом и окутывают тусклый город извилистыми вуалями дождя, которые они притащили за собой, точно шлейф огромного серого платья.
– Папа, папа! Дядя Фергюс сказал, нам можно на крышу с мамой, только осторожно! Можно? Ну пожалуйста! Честное слово, не упадем!
В зал прискакал Льюис, он тянул за собой малыша Прентиса. На Льюисе была непромокаемая курточка, а Прентис свою тащил по блестящему паркету.
– Ладно, сынок.
Кеннет опустился на колени, надел курточку на младшего сына, застегнул. Тем временем Льюис вприпрыжку носился по залу и улюлюкал.
– Льюис, не надо так громко, – сказал Кеннет, но не слишком строго.
Прентис улыбнулся отцу.
– Па-апа-а, – произнес он ломким голосом, растягивая гласные, – я хочу в туалет.
Кеннет вздохнул, натянул капюшон на голову сына, но тут же снял.
– Хорошо, мама отведет. Льюис! – крикнул он. Льюис виновато отпрянул от банок с краской, которые уже было принялся изучать, и подбежал к отцу.
– Пап, как здорово! А у нас тоже будет замок?
– Нет, сынок, нам это не по карману. Отведи-ка брата к маме, ему надо в туалет.
– У-у-у… – завыл Льюис, негодующе уставившись на младшего, а тот только ухмылялся да утирал нос рукавом курточки.
Льюис пихнул Прентиса в спину:
– Вечно ты все портишь!
– Льюис, делай, что сказано, – встал Макхоун-старший. Колени откликнулись болью. – Ступайте. И поосторожнее на крыше. – Он махнул рукой на двустворчатую дверь, через которую вошли сыновья.
Льюис изобразил целую пантомиму: раскачивался, как пьяный, на ходу, нога цеплялась за ногу. Прентиса он тянул за собой за шнурок капюшона.
– Льюис! За руку! – потребовал Кеннет.
– Ну, парень, ты и цаца! – сказал у двери Льюис младшему брату. – Сколько ж возни с тобой!
Прентис повернулся и помахал свободной рукой отцу.
– До свида-ания, па-апочка, – прозвучал слабый голосок. После чего Прентис был выдернут из комнаты.
– До свидания, сынок, – улыбнулся Макхоун-старший. И снова повернулся к окну и дождю.
– У-у-у… тут мокро.
– Не сахарный, не растаешь. Че разнылся? Ты же не девчонка?
– Нет, я не девчонка. Но если испачкаюсь…
– У тебя папаша богатенький. Можешь хоть каждый день в новых шмотках приходить.
– Не мели чепухи. Я просто хотел сказать…
Кеннет понимал обе точки зрения. Лахи в грязной рубашке, застегнутой на разномастные пуговицы и булавку, в потрепанных, залатанных коротких штанишках, что пузырились на коленях и, наверное, раньше принадлежали двум старшим братьям, вдобавок щеголял свежим синяком под глазом – скорее всего, синяк поставила отцовская рука. На Фергюсе была добротная, тщательно подобранная по размерам одежда: короткие брючки из серой саржи, новая синяя фуфайка и твидовый пиджачок с кожаными нашивками на локтях. Даже Кеннет рядом с ним чувствовал себя плоховато одетым. Его шорты были заштопаны сзади, хотя новую одежду он получал всегда в свой черед. Все девочки носили юбки, блузки и фуфайки; носочки у них были не серые, а белые. Эмма Эрвилл носила пальто с капюшончиком, отчего была похожа на маленькую фею.
– Так мы играем или не играем? – спросила она.
– Спокойствие! – повернулся Лахи к девочке, державшей велосипед. – Терпение, крошка.
Эмма посмотрела в небо и фыркнула. Рядом с ней сестра Кеннета Ильза, тоже приехавшая на велосипеде, покачала головой.
Замок стоял на склоне холма. Вокруг него с высоких деревьев еще капало, и неровные, грубо отесанные камни были темны от недавно прошедшего дождя. Через листья плюща, цеплявшегося к одному из боков старинного сооружения, просвечивало водянистое солнце, а в глубине леса ворковал дикий голубь.
– Так какого черта ждем? – Фергюс Эрвилл прислонил к дереву велосипед.
Лахи Уотт своему велосипеду дал упасть на землю. Кеннет аккуратно положил свой на мокрую траву. Девочки прислонили велики к деревянным перилам в начале моста. Короткий деревянный мост, чуть шире телеги, пересекал овраг футов тридцати длиной, с крутыми склонами и густым кустарником на дне. В самом низу, среди кустов, плескался и пенился ручеек; он выбегал из леса, с трех сторон огибал задернованную скалу, на которой стоял замок без крыши, срывался водопадцем и уже неторопливо путешествовал дальше, возле автотрассы впадая в реку Эдд, так что его воды далее протекали через город Галланах и вливались в бухту возле железнодорожной пристани.
Вдруг вышло солнце, сделало траву яркой, листья плюща – блестящими. С приглушенным ревом пролетел по лесу ветер, всюду просыпав водяные капли. Примерно в миле, на виадуке у Бриджента, Кеннет увидел поезд; западный ветер уносил его шум прочь от детей, но зато Кеннет мог разглядеть пар, которым часто выстреливала труба из темного локомотива и который вытягивался назад, расстилался по крышам полудюжины купейных вагонов и тут же разрывался на белые тающие клочья.
– Короче, – сказал Лахи, – кто первым вводит?
– Не вводит, а водит, – поправил Фергюс.
– Ты меня еще поучи, сопляк. Так кто вводит?
– Может, «Вышел месяц из тумана»? – предложила Эмма.
– О господи! – затряс головой Лахи. – Ну, давай, что ли.
– Не надо поминать имя Господа всуе, – сказала Эмма.
– И высуе! – хихикнул Лахи. – Ах ты, боже мой, ну до чего ж мы нежные!
– Я христианка, – гордо сказала Эмма. – Я думала, ты тоже христианин, Лахлан Уотт.
– Я протестант, – возразил Лахи, – вот кто я.
– Ну, так мы будем играть или не будем? – спросила Ильза.
Дети встали в кружок, Эмма проговорила считалку. К великому раздражению Лахи, искать выпало ему.
Кеннет еще ни разу не бывал в старом замке. Раньше удавалось лишь увидеть его из дома, и то если специально высматривать. Правда, в отцовский бинокль его можно было неплохо разглядеть. Замок принадлежал Эрвиллам, и хотя Эрвиллы и Макхоуны дружили годами (поколениями, сказал отец, а это куда дольше, чем годами), мистер Робб, на чьей ферме стоял памятник старины, детей не жаловал, гонял их со своих полей и из рощ, даже пугал дробовиком. Только Фергюс и Эмма Эрвиллы не боялись – их прогонять мистер Робб не смел. Кеннет подозревал, что мистер Робб – затаившийся враг из пятой колонны, может, он даже натуральный нацист, прячет немцев с потопленной подлодки или готовит место для высадки парашютистов. Но хотя и сам Кеннет, и еще кое-кто из детей несколько раз тайком проникали в лес и следили за мистером Роббом, он ничем не выдал своих преступных намерений.
Зато дети изучили запретный парк. И теперь решили, что стоит осмотреться и в замке.
Там неплохо сохранились подземные помещения и каменная лестничная шахта; лестница поднималась вверх и проглядывала посреди руин, в окружении камней, земли и сорной травы. Отсюда она уходила дальше, ввинчивалась в круглую угловую башню, обрываясь на давно исчезнувшем этаже – там остался только дверной проем, за которым проглядывала центральная стена. Другая лестница пронизывала сами стены по ту сторону внутреннего двора, поднималась через их толщу, минуя еще три дверных проема, с примыкающими балюстрадами; ступеньки вели к двум комнатушкам у верхних оконечностей темных дымоходов – пристроенные к стене снаружи, они спускались до цоколя.
В замке была уйма темных закутков и тенистых уголков, где можно спрятаться, а еще было много оконных и печных проемов высоко в толстых стенах, и вот бы туда залезть, кабы силенки да смелость, и отчего бы с винтовой лестницы не перебраться на самый верх развалины, и там прогуляться по самым кромкам обросших плющом стен в шестидесяти с гаком футах над землей, и увидеть оттуда море за Галланахом, или горы на севере, или лесистые холмы на юге. Ближе, позади замка, за мостом находился парк, обнесенный оградой, запущенный – плотные заросли рододендронов под араукариями и буйство экзотических цветов, что в летнюю жару приманивали гудящие рои насекомых.
Договорились так: прятаться можно в любом месте замка, Лахи остается за мостом на дороге и медленно считает.
Дети хихикали, шикали друг на дружку, суетились, но вскоре все разбежались по укрытиям. Кеннет забрался в оконный проем на верхотуре и засел там на корточках.
Наконец Лахи пошел в открытый холл замка, огляделся. Несколько секунд Кеннет следил за ним, затем подался вперед, прижался как можно плотней к каменному подоконнику.
Он был в восторге оттого, что его никто не мог найти, хотя Лахи уже отыскал всех остальных, и все они кричали, чтобы Кеннет выходил, пора играть по новой. Но он лежал на подоконнике и ловил всей кожей сырой бриз, который, залетая в окно, щекотал волоски на голых щиколотках Кеннета. Он слушал крики детей, разносившиеся эхом в пустой раковине замка, голоса ворон и диких голубей с ближних деревьев и чувствовал запах темных влажных мхов и сорной травы, нашедших приют среди выветренных серых камней. Глаза были все время зажмурены, и он, слушая, как дети ищут его и зовут, испытывал непривычную тугую дрожь в животе, отчего хотелось стиснуть зубы и крепко сцепить ноги, и он боялся, что намочит штаны. Мне тут нравится, подумал он. И мне нет дела до того, что идет война, что дядя Фергюса погиб в Северной Африке, а Вулли Уотта убило в Северной Атлантике, а Лахи достается на орехи от папаши, а нам, наверное, придется переехать, потому что мистер Эрвилл просит освободить его дом, и мне совсем не дается тригонометрия, и немцы готовят вторжение. Мне тут очень нравится. Если бы я прямо сейчас умер – плевать. С высокой колокольни плевать.
Лахи наконец забрался на самый верх стены и лишь оттуда углядел Кеннета. Кеннет спустился, зевая во весь рот и протирая глаза, – уснул, понимаете ли. Что, я победил, оказывается? Ой, до чего здорово!
Они еще поиграли и посмеялись над выигравшим Фергюсом – он прятался в комнатушках наверху второй лестницы, и Кеннет сообразил, что это за комнатушки. Туалеты, вот что! И никакие не дымоходы к ним примыкают – туда, в эти отверстия, делали по-большому и по-маленькому. Фергюс прятался в сортире! А еще боялся замараться!
Фергюс не соглашался с тем, что это туалеты. Там совершенно чисто и не пахнет – дымоходы наверняка.
– Дымоходы – задние проходы! – ржал Лахи. – Очки-толчки!
Эмма фыркала, но не улыбаться не могла.
– Дымоходы! – отчаянно стоял на своем Фергюс, глаза на мокром месте.
Он посмотрел на Кеннета, словно ожидал поддержки. Кеннет опустил взгляд на утоптанную землю под ногами.
– Сральники, сральники! – хохотал Лахи. – Фергюс прячется в клозете, не играйте с Фергом, дети!
– Дымоходы! – протестовал побагровевший Фергюс, угрожая сорваться на визг.
– Фергюс – это жопа с ручкой! Не хотим дружить с вонючкой!
Кеннет смотрел, как Фергюс дрожит от бешенства, а Лахи скачет по кругу и скандирует:
– Вы знакомы с этой штучкой?! Познакомьтесь: жопа с ручкой! Не хочу играть с вонючкой!
Фергюс в бессильной ярости таращился на сестру и на Кеннета, как будто считал их предателями. А потом просто стоял и ждал, когда Лахи надоест дразниться. И Кеннета удивило, что гнев постепенно сошел с лица Фергюса, оно сделалось пустым, ничего не выражающим.
У Кеннета возникло странное ощущение: как будто у него на глазах что-то было погребено заживо, и он даже содрогнулся, такой озноб пробрал его вдруг.
– …Фергюс в школу носит ранец! Потому что он…
Когда попрятались в последний раз, Кеннет вместе с Эммой Эрвилл забрался в какую-то подвальную клетушку. Он подсказал Эмме, что надо повернуться спиной к свету и поднять воротник пальто, чтобы скрыть лицо; и действительно, когда к дверям подошла Ильза и он снова испытал эту жутковато-балдежную дрожь в животе, она их не увидела; и после того, как ушла, Кеннет и Эмма обнялись, и это были теплые и крепкие объятия, и ему понравилось, а она не отстранялась, а через некоторое время они соприкоснулись губами – поцеловались. И в сердце проник странный отголосок жутковато-чудесного ощущения в животе, и они с Эммой Эрвилл обнимались долго-долго, пока все остальные не нашлись.
Потом они играли в запущенных кустах огороженного сада и отыскали заросший травой фонтан с голой, если не считать мха, каменной тетей посередке и ветхий сарай в углу сада, и там были древние банки и склянки и пузырьки с этикетками, похоже еще Викторианской эпохи. Ненадолго зарядил дождь, и его переждали в сарае. Фергюс ныл, что ржавеет велик, его сестра и Кеннет время от времени многозначительно переглядывались, Ильза смотрела на дождь из двери и говорила, что в Южной Америке кое-где льет по сто лет без перерыва, а Лахи смешивал все подряд, твердое и жидкое, вязкое и порошкообразное, из пузырьков и банок – авось какая-нибудь смесь взорвется или на худой конец зашипит. А дождь сначала барабанил, потом шуршал, потом редко постукивал по рубероидной крыше, и сквозь дыры на пружинящие половицы шлепались капли.
– Ну конечно, мы же еще не все бутылки перевезли, – указал Фергюс трубкой на стеллажи, которыми была заставлена целая стена погреба.
Погреб был выкрашен белым и освещен голыми лампочками; там и сям свисали провода и виднелись незамазанные отверстия в стенах и потолке – для этих проводов и для водопроводных труб. Поблескивал винный стеллаж из дерева и металла, посверкивали уже разложенные на нем две сотни бутылок.
– Тебе тут еще вкалывать и вкалывать, – ухмыльнулся Кеннет, – пока все полки не набьешь.
– Гм… Мы вообще-то хотим на следующее лето прокатиться по виноградникам. – Эрвилл почесал черенком трубки толстый подбородок. – Бордо, Луара и так далее. Может, и вы с Мэри захотите нам компанию составить, гм…
Фергюс моргал. Кеннет кивнул:
– А что, почему бы и нет? Это, правда, будет зависеть от отпусков и всякого такого. Ну, и от детей, конечно…
Фергюс нахмурился, снимая табачную крошку с джемпера фирмы «Прингл».
– Мы вообще-то не собирались брать детей.
– А? Ну да, разумеется, – сказал Кеннет, и они пошли к двери.
Фергюс включал и выключал свет в различных погребах, и они поднимались по каменным ступеням к подсобке и кухне.
Это же тот самый погреб, думал Кеннет, следуя за обутым в шлепанцы Фергюсом по лестнице. Здесь я прятался с Эммой Эрвилл, целовался с ней. В этом самом погребе. Никаких сомнений, это он. И в это окно я смотрел когда-то. Там я тоже прятался, и было это уже почти тридцать лет назад. Точно!
И тут на него легла жуткая тяжесть времени и потери, и в сердце проснулась слабая обида – на Эрвиллов вообще и на Фергюса в частности, потому что они, о том даже не подозревая, украли у Кеннета частицу его памяти.
Что ж, по крайней мере, обида позволяет ему узнать цену ностальгии.
– Ферг, это не посудомойка, это, зараза, настоящая китайская головоломка. – Фиона, сидевшая возле упомянутой машины, поднялась на ноги.
И увидела брата, и широко улыбнулась, и подошла, и обняла:
– Приветик, Кен. Ты к нам на экскурсию?
– Да, впечатляет. – Кеннет поцеловал сестру в щеку.
Сколько ей было, когда он приходил сюда с Фергюсом и остальными? Года два, прикинул он. Слишком мала, чтобы ехать в такую даль на велосипеде. А ему, наверное, было лет восемь или девять. А где тогда был Хеймиш? Дома, наверное. Болел. Он вечно простужался.
Фиона Эрвилл, урожденная Макхоун, носила старенькие расклешенные джинсы «левис» и широкую зеленую блузку. Полы блузки были завязаны узлом поверх белой футболки. Волосы цвета меди Фиона собрала в пучок на затылке.
– Как дела?
– Все отлично, – кивнул Кеннет, обнимая ее за талию.
Так они подошли к посудомойке, подле которой сидел на корточках, уткнувшись в инструкцию, Фергюс. Дверка посудомойки была опущена на петлях, как подъемный мост замка.
– И правда, сплошь китайская грамота.
Фергюс почесал черенком трубки висок.
Кеннет, глядя сверху вниз на Фергюса, почувствовал, как его губы расползаются в улыбке. Фергюс выглядел преждевременно состарившимся: «прингловский» джемпер, войлочные шлепки, трубка. Разумеется, Кеннет не забыл, что и сам курил трубку, но это было совсем другое дело. И он в отличие от Фергюса не лысел.
– Как школа? – спросила Фиона.
– Да ничего, – ответил брат, – помаленьку.