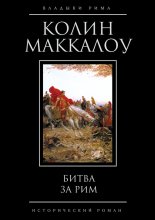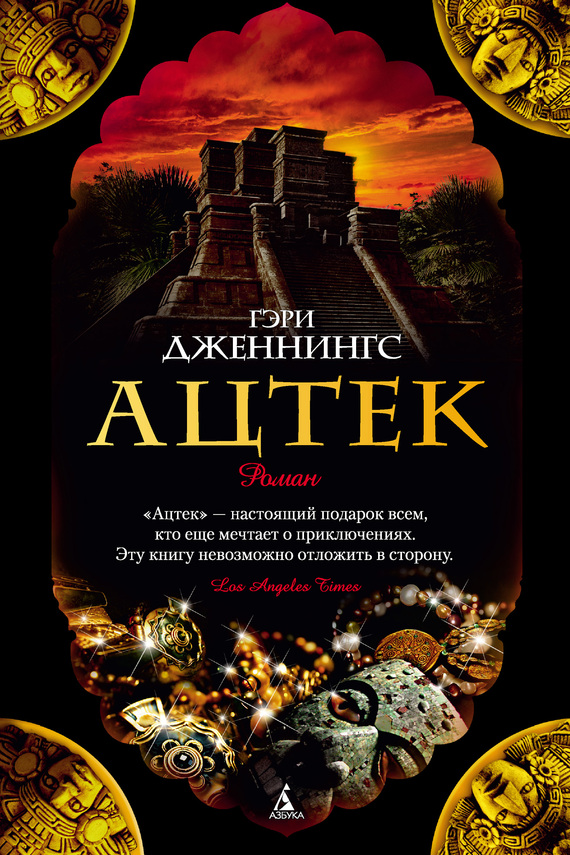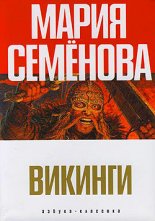ProМетро Овчинников Олег

– Нет, – честно признался я.
– Жаль! – Женя выглядел огорченным. – Я вот тоже не помню. Ну а эту… девчонку в белом? Помнишь?
– Нет.
– Прикол! Тра… – он покосился на Игорька, – …вмированная психика, повышенное содержание алкоголя в крови – это я все понимаю. Но никогда бы не подумал, что можно забыть такое. Слушай! Если что-то было, ты ведь должен чувствовать. А?
– Знаешь… – Я прислушался к собственным ощущениям, как акустик с древней подводной лодки вслушивался в обманчивую тишину океана. Куда-то исчезла тяжесть в желудке, обусловленная большим количеством выпитого. Слегка побаливали икры, как это иногда бывает после секса. И потом эти носки в кармане… – Может, что-то и было. Только, хоть убей, но я и правда ничего не помню.
– Слушай, – сказал Женя, – а у тебя голова случайно не болит?
Голова у меня не болела. Почти. До тех пор пока он об этом не спросил.
– Есть немного, – признался я. – Только что ж тут случайного? Такого намешали…
– Вот и у меня болит. Только как-то не так, как обычно с перепоя. И дышать тяжело… А у тебя как с головой? – спросил Женя у Игорька.
– Раскалывается, – ответил тот. – Вот уже минут… – В его руке незаметно для глаз, словно из сопредельного с нашим пространства, материализовался пластмассовый домик виртуального друга. – Странно! – Лицо Игорька выразило высшую степень озабоченности. – Никак не заснет. Очень странно. Раньше всегда в полдвенадцатого засыпал.
– А ты ему колыбельную спой! – посоветовал Женя. – Напали на мамонта злые старушки, остались от мамонта бивни да ушки… – И неприятно захихикал.
– Не лезь к парню! – попросил я.
– Да я разве лезу? Я говорю: может, мы неправильно сформулировали закон Ньютона-Лейбница в канонической форме? Может быть, «П» в числителе – все-таки давление?
– В прошлый раз ты говорил: закон Бойля-Мариотта, – поправил я.
– Да какая разница! – возмутился Женя. – Я же сказал: в канонической форме! А в канонической форме все законы мира звучат одинаково: «П» на «В», деленное на «Т», дают константу. Вся разница – в интерпретации имен переменных и в величине константы.
– Ага! – усмехнулся я. – Например, закон Архимеда!
– Долго же до тебя доходило! – не растерялся Евгений. – Именно закон Архимеда! В канонической форме он гласит: «П» – погруженное в «В» – воду «Т» – тело… заметь, что знак дроби в данном случае изображает уровень воды!.. и обратно: «Т» – теряет в своем «В» – весе ровно «П» – половину.
– Почему половину? – промямлил я, сбитый с толку яростным прорывом научного гения… Евгения.
– Ну, или чуть больше, – до обидного легко согласился мой оппонент. – Это уже от константы зависит.
– Если ты такой умный, лучше скажи, как поживает твоя теория перпендикулярных миров?
– А никак, – с грустью ответил Евгений. – Накрылась моя теория. Не выдержала проверки временем. Оно же первое остановилось.
– И куда мы в таком случае едем?
– Куда? – Женя обвел рассеянным взглядом пространство вагона, словно в поисках четкого и недвусмысленного ответа, написанного на стене. – Я, конечно, мог бы еще что-нибудь придумать… только зачем? Спроси лучше у того, кто точно знает ответ.
– Это у кого же? – полюбопытствовал я.
– Да вон хоть у деда в разноцветных очках.
– Да? – Я с интересом и как-то по-новому взглянул на ставший уже привычным профиль лежащего старичка. – А с чего ты взял, что он знает ответ?
– А с того, – устало вздохнул Евгений. – Ты на медали его посмотри.
– И что?
– И все. Вон, в верхнем ряду, вторая справа. Видишь?
– Ну… – Я пожал плечами: медаль как медаль, отчетливо видны цифры «30», остальное – мелкими буковками. – Обычная юбилейная медаль. «30 лет Октября». Или нет, «30 лет со Дня Победы». У деда, кажется, такая была.
– Ты что, слепой? – От человека, глядящего на мир сквозь линзы диоптрий в двенадцать, слышать подобное было особенно неприятно. – Ближе подойди, если не видишь.
Я послушно приблизился к пенсионеру и склонился над ним, почти касаясь правым коленом грязного пола. Должно быть, в этот момент я походил на блудного внука, явившегося к постели умирающего, чтобы услышать его последнее: «Ну что, явился-таки? На жилплощадь не рассчитывай, даже квадратного сантиметра не получишь! Раньше надо было рассчитывать!»
Из динамика мне в ухо ударила волна ритмичной музыки, на гребне которой, отчаянно балансируя, пытался удержаться печальный юношеский голос:
- Колечко, колечко, кольцо,
- Давно это было, давно.
- Зачем я колечко носил?
- Тебе о любви говорил…
При ближайшем рассмотрении медалька оказалась такой же обычной, какой казалась издалека: изготовленный из позолоченного алюминия кругляш. Необычным был лишь текст, выдавленный на ее поверхности. Необычным и очень длинным.
Он гласил:
«За героизм, проявленный при строительстве станции»
Потом изображение двух перекрещенных штуковин, смахивающих на отбойные молотки, и продолжение:
Глава четырнадцатая
«…имени тридцатилетия победы над фашистской Германией.»
Мои пальцы тупо теребили медальку на груди у пенсионера, демонстрируя мне то идиотскую надпись на ее лицевой стороне, то не менее идиотский номер на «изнаночной» – 000001. Всякий раз, когда медаль с тихим звяканьем ударялась о шестицветный ромбический орден «За мир и взаимовыгодное сотрудничество во всем мире», пенсионер вздрагивал, как если бы полосатый треугольник медальной подвески крепился не к пиджаку, а прямо на голое тело.
– Эй! – Я потряс его за плечо. Раздался тихий перезвон, награды на груди пенсионера сложились в новый узор. – Эй, дед! Просыпайся!
По моему глубочайшему убеждению, именно это слово решительно лидировало в рейтинге самых неприятных для человеческого слуха, независимо от того, каким мелодичным и родным голосом оно произносилось.
– А? – пробормотал пенсионер. – Что, уже конечная?
– Какая конечная, дедуля? – радушно поинтересовался я. – Мы же на кольцевой!
Дед открыл глаза и уставился на меня поверх очков подозрительно трезвым и совсем не сонным взглядом.
– Какая, накх, кольцевая? – в тон мне ответил он. – Да мы уже километров сто намотали по спиральной! – И после короткой паузы добавил. – Внучек!
– Спиральной? – растерянно повторил я.
– Спиральной, накх! – Странный «накх», введенный в обращение дедом, по-видимому, играл в его лексиконе роль универсального вводного слова. – «Спиральная линия», она же «Ветвь Дружбы Народов», она же… Вот черт! Забыл… – Дед выглядел не менее удивленным, чем я.
– А… вы уверены?
– Уверен?! – Он приподнялся на локте. – Да кому ж быть уверенным, как не мне? Я ж ее… Вот этими вот руками… – Он посмотрел на свои ладони, как школьник, прячущий в кулаке шпаргалку, но так и не прочел на них окончания фразы. – Я ж ее…
– Он правду говорит, Паш! – сказал за моей спиной Евгений. – Если верить желтой прессе, мы сейчас действительно на Спиральной. А этот дедок ее строил.
– Строил, – зачарованно повторил старик. – Вот этими вот, накх, руками… Спиральную…
И, словно в подтверждение его слов, динамик над моей головой сменил тональность звучания. Нет, мелодия песни, если я не ошибаюсь, осталась прежней, а вот голос исполнителя разительно изменился. Он стал женским. Новая солистка с грустью и укором обращалась к своим воображаемым подругам, делясь с ними самыми сокровенными переживаниями:
- Спиралька, спиралька, спираль,
- Как жаль мне, девчонки, как жаль!
- Зачем я спиральку носила,
- Ему о любви говорила?..
– Это же твоя, дед, фотография? – спросил Ларин.
Я обернулся к нему. Женя держал на вытянутых руках развернутую газету, брезгливо ухватив пальцами за уголки, словно казенную наволочку, с которой собирался стряхнуть пыль. По газетному развороту была мелким шрифтом размазана большая статья под рубрикой «Страницы трудового подвига». Она называлась «День омовения усохших». В одном месте текст расползался на две колонки, освобождая место для фотографии. Со снимка на меня глядел знакомый пенсионер в очках, улыбающийся и помолодевший лет на тридцать, однако одетый, по-моему, в этот же самый пиджак, только без медалей. Лихо сдвинутые на лоб очки на черно-белом изображении были неотличимы от токарных.
– Ну-ка, дай! – старик потянулся за газетой.
– Пожалуйста, – ответил Евгений.
Дед, заметно нервничая, сложил газету пополам, переломив об колено, словно палку для костра. Очки он поднял на лоб, уложив на подставку из бровей, видимо, чтобы еще больше походить на свой газетный снимок. Глаза старика оказались цвета закаленной стали.
– Ну, Валерка! – возбужденно сказал он, стрельнув глазами по первым строчкам статьи. – Ну, сукин сын! Не обманул! Пропечатал таки старика…
Я взглянул на текст через плечо пенсионера. Женя Ларин и Игорек тоже наклонились к нам через проход, глядя на подрагивающую газетную страницу вверх ногами. Мы стали похожи на четверку заговорщиков, которые раздобыли секретную карту метрополитена и теперь собираются угнать электропоезд в какую-нибудь Швецию.
Или Швейцарию.
Вечно я их путаю.
ДЕНЬ ОМОВЕНИЯ УСОХШИХ.
Это случилось на следующий день после того, как сдохла последняя канарейка. А поскольку оба метролога в один голос категорически отрицали факт присутствия вредного выброса в так называемой «атмосфере» в этот день – да и каким, скажите на милость, должен быть выброс, чтобы уничтожить бедную птичку настолько качественно, что после нее не осталось даже хладного трупика? – смерть ее списали на диггера, который сожрал несчастную, умудрившись при этом не потревожить силового поля термоклетки.
Других версий не было…
…Петрович, который на самом деле был просто Петром, максимум – Петром Алексеевичем, но тем не менее прозывался всеми окружающими, включая начальника смены, именно Петровичем – должно быть, за свою постоянную серьезность и проявляемую в отдельных случаях ответственность – дернул на себя дверцу покосившегося холодильника и устало выругался.
– Сволочи, накх! Просил же – хоть полстаканчика оставить! – и добавил, опасливо уставившись в какую-то точку на потолке: – В смысле – минералочки…
Санек, которого никогда не называли иначе как Саньком, несмотря на старательность, с какой он вписывал в анкету о приеме на работу свое «Александр Николаевич», и на то, с каким загадочным блеском в голубых глазах всегда просил при знакомстве: «Зовите меня просто – Алекс» (черно-белый Штирлиц, тремя месяцами ранее завершивший свое первое двенадцатисерийное турне по голубым экранам страны, в немалой степени способствовал унификации множества Александров, Алексеев и даже Аликов), посмотрел на старшего товарища с сочувствием.
– Что, опять все выжрали? – спросил он, обрушивая весь свой молодой вес на колченогую тумбочку.
– Ну! – возмущенно отозвался Петрович. – Теперь хрен расслабишься!
– Да-а-а… – протянул Санек. Он поправил подскафник на коленях так, чтобы можно было согнуть ноги, повернул подшлемник козырьком вбок, прислонился головой к окрашенной «под кирпич» термотитановой стенке теплушки и развил тему:
– Сейчас бы нарзанчику грамм по двести, а? – Санек посмотрел на Петровича, явно ожидая одобрения. Однако не дождался.
– Дурак ты, Санек! – с натугой произнес Петрович, пододвигая свою тумбочку к раскрытой дверце холодильника. – Молодой потому что. Какой же, накх, нарзанчик при такой вибрации? – Он демонстративно вытянул вперед левую руку. Рука дрожала мелко, но интенсивно. – Нарзан – он перед сменой хорош. В малых дозах, конечно. Грамм, скажем, по сто… – заметив, как жадно Санек облизал губы, Петрович расщедрился, – ну по сто пятьдесят. Не более! Так только, чтобы думалось поменьше и от этого… от гастрита.
– Да-а-а… – вновь протянул Санек. – Хорошо говоришь, Петрович. Опыт чувствуется.
– Ну так… – польщенно улыбнулся Петрович. – Почитай уж – пятнадцать лет как неба не видел! Хуже, чем в тюрьме, там хоть через окошечко… – Он вздохнул глубоко, но как-то неискренне. – А сейчас бы хорошо по боржомчику вдарить. Всю вибрацию бы – как рукой…
– По паре бутылочек, а?
– Да хоть по три! – усугубил Петрович.
– Да-а-а… – Санек прикрыл глаза от света. Маленькая криптоновая лампочка под потолком роняла на пол тусклые пятна света в форме правильных прямоугольников, просеивая их сквозь мелкие отверстия в свинцовом плафоне. От этого непрерывного чередования прямоугольников создавалось впечатление, что термотитан пола тоже выкрашен «под кирпич», как и стены, хотя на самом деле он призван был воссоздавать фактуру «линолеума полового, коричневого».
Петрович перевел блокиратор на пояснице в положение «сидя», взгромоздился на свою тумбочку, легонько покряхтывая – скорее от предвкушаемого удовольствия, чем от напряжения, – и любовно уложил ноги в видавших виды шерстяных носках на вторую полку холодильника.
– Вот, – констатировал он. – А теперь пусть хоть мир во всем мире! Меня не кантовать.
– Ты че, Петрович, – Санек лениво разожмурил глаза примерно наполовину. – Там же люди эти… продукты хранят!
– Какие, накх, люди? – возразил Петрович. – Были б люди – оставили б минералки, хоть пару глотков, – но на всякий случай все же переместил ноги на нижнюю полку, где никаких продуктов на его памяти никто никогда не хранил.
– Тоже верно, – Санек снова смежил веки.
После честно отработанной полной смены сорокавосьмичасовых рабочих суток обоим нестерпимо хотелось спать. Но не моглось – мешала проклятая вибрация. Стоило расслабиться всего на пять минут и перестать держаться за бока тумбочки, как тело начинало противно подпрыгивать, медленно сдвигаясь к краю, и в конце концов просыпалось уже на полу, громко матерясь и потирая отбитые при падении участки.
Ходили слухи, что ребята из пятой молотобойной бригады справлялись с этой проблемой, просто приковывая себя к тумбочкам цепями, но и с ними порой случались курьезы, правда, совершенно иного рода. Да и потом, не Кощеи же они, в самом деле, Бессмертновые!
Подумав так, Петрович еще раз порадовался столь удачно выбранному месту дислокации. Барак, в котором они с Саньком сейчас находились, называли «теплушкой» только по какой-то очень древней и удивительно не подходящей для данных условий традиции. Благодаря термоизоляции стен, температура в помещении удерживалась градусов на пятьдесят ниже, чем снаружи, но все равно редко опускалась до тридцати градусов Цельсия, хоть в тени, хоть в тусклом свете лампочки. В этой ситуации раскрытый настежь холодильник давал если не прохладу, то хотя бы ее иллюзию.
Петрович знал, что ближайшие по крайней мере полчаса заснуть не удастся: в условиях полного отсутствия вспомогательных лекарственных средств организм не в состоянии самостоятельно справиться с вибрацией за меньшее время.
– Санек, ты не спишь? – решился спросить он.
– Ну, – неопределенно ответил Санек.
– Я что спросить-то хочу… – Петрович выдержал минутную паузу, но, не дождавшись реакции собеседника, заговорил снова: – Слышь?
– Ну, – устало повторил Санек.
– Ты вот недавно что-то в тетрадке писал, еще перед прошлой сменой… Часом – не стихи, а? – Санек недовольно заворочался на тумбочке. – А то почитал бы, – просительно добавил Петрович. – Я бы послушал…
– Ага, делать мне больше нечего!
– А что, есть чего?
– Да нет, – подумав, согласился Санек. – Вроде нечего.
– Ну так почитал бы… А?
– Да ладно… – мялся Санек. – Они у меня все какие-то… не знаю, детские, что ли. Ты смеяться будешь!
– Не-а, – заверил Петрович. – Не буду, накх! И не надейся.
– Обещаешь?
– Слово подземщика!
– Ну, смотри!
Санек, не вставая, раздвинул ноги в стороны, наклонился вперед, насколько позволял блокиратор, и извлек из тумбочных недр потрепанную зеленую тетрадку. Двенадцать листов, тетрадь «для работ по», в косую линию. Раскрыл на первой странице, исписанной удивительно неровным почерком – создавалось впечатление, что автор начинал писать новую строчку вдоль горизонтальной линии, но в конце ее всякий раз слишком увлекался, возносился мыслью в небеса и направлял текст по наклонной вверх.
Санек откинулся назад, с тихим стуком прислонившись затылком к стене, зачем-то потеребил козырек подшлемника, придал лицу торжественное выражение, как если бы собирался выступить с речью на комсомольском собрании, где на самом деле с речами ни разу не выступал и даже старался лишний раз не показываться, и… перелистнул страницу.
Пробежал глазами следующую, мельком взглянул на Петровича, наблюдающего за ним с неприкрытым интересом, и… перелистнул еще одну.
И так – двенадцать раз подряд, с основательной неторопливостью кремлевских Курантов, доигрывающих последние аккорды уходящего года.
– Ну, что же ты? – сказал Петрович.
– Сейчас, – Санек тупо пялился на последнюю страницу зеленой обложки, словно пытаясь сперва забыть, а потом заучить по новой отточенные формулировки Торжественного Обещания Пионеров, – сейчас…
«Сейчас» наступило минуты через три. Санек заговорил, причем так громко и внезапно, что Петрович вздрогнул.
- – Я,
- Молотобоец девятого разряда,
- Спускаясь в ряды подземных рабочих,
- Торжественно клянусь не вылезать из ряда,
- Ни телом, ни душою,
- Ни днем, ни ночью.
- Пусть скромный – хоть на три копейки! – труд мой
- Вливается в общий котел всех советских человеков,
- И вырастет постепенно в рубль трудовой,
- Как банк во время игры в буру или секу
- А еще клянусь – учиться, жить и бороться,
- Как Владимир и Леонид Ильичи учили,
- И пусть грохот моего молотка отзовется
- В сердце каждого патриота – от Кубы до Чили.
- А в час смычки – когда растает многокилометровая блокада
- И австралопитек мне из тоннеля протянет руку
- Иль черный как hell riser – «восставший из ада»
- Негр улыбнется мне как лучшему другу-Ему я скажу: дорогой негр,
- Или автралиец – depends on situation
- Позволь пожать твою длань средь бескрайних недр!
- А потом добавлю: I feel your vibration.
- А если я нарушу эту клятву,
- И устану вздымать свой отбойный молот,
- Пусть диггер надо мной устроит кровавую жатву
- И в мозг неразумный запустит свой хобот.
– Ну как? – Санек казался возбужденным и счастливым донельзя, хотя всего пару минут назад выглядел на все свои двадцать восемь часов, проведенных в забое.
«Надо же, что вдохновение с человеком сделать может! – глубокомысленно подумал Петрович. – Тоже что ли попробовать? Может, еще круче… минералки окажется?»
Петрович быстро придумал две первые строчки грандиозного по замыслу шедевра: «Друзья, создвигнем наши кубки! Пусть в них заплещется нарзан…» и испытал совершенно неожиданную для себя острую недостаточность в рифмах. Ну, на «кубки», допустим, еще можно что-нибудь придумать – «губки» там или… нет, все-таки «губки»!.. а вот с «нарзаном» у Петровича возникли непреодолимые затруднения. Должно быть оттого, что трофейный «Тарзан», поделивший на сферы влияния все кинотеатры, расположенные на поверхности России, с французским «Фантомасом», не догадался спуститься под землю хотя бы на несколько десятков километров.
И потом, кто же нарзан кубками глушит? Его же стопочками надо!
– Тьфу ты! – кратко и емко высказался Петрович. Потом, по-видимому, решил, что слов недостаточно, и сплюнул на пол. Плевок вышел под стать словам: краткий и емкий. – Я-то думал, у тебя настоящие стихи, а тут… И диггеров зачем-то приплел. Разве ж они человеческими мозгами питаются? А? Было б так – они уже давно бы с голоду подохли, накх…
Цветом лица Санек внезапно стал похож на вареного рака. Причем такого, которого запустили в еще холодную воду и поставили на самый медленный огонь – в противном случае это выражение многовекового укора просто не успело бы сформироваться в его покрасневших глазах.
– Ну и п-пожалуйста! – выдавил он из себя. – Попросишь у меня еще что-нибудь! Э-эх! – он сокрушенно махнул рукой, словно приводя в движение пропеллер допотопного аэроплана, и замолчал. Судя по выражению лица – навеки.
– Да ладно тебе! – слегка опешил Петрович. – Что, правда, что ли, обиделся? – Санек молчал. – Нет, серьезно? В тот раз, когда мы тебе диггера дохлого под подушку положили – не обиделся, а теперь!.. Из-за каких-то стишков!.. – Санек продолжал молчать. – Да нет, я разве ж говорю, что стихи твои – полное дерьмо? Ничего подобного! Нормальные стихи, мне лично понравилось. Особенно про негра… – Петрович закатил глаза, припоминая. – «Иль черный, как этот… восставший из зада». Ах, хорошо! Верно подметил!
– Не «из зада», а «из ада», – буркнул Санек.
– Да? Что-то не уловил разницы… Все равно хорошо!
Внезапный…
– Палец убери! – неожиданно подал голос Ларин.
– Что? – Я вздрогнул.
– Да я не тебе. Дед, убери палец, мешает! Эй! Да что с тобой?
– Почему вы плачете, дедушка? – спросил Игорек.
Я с трудом оторвался от занятного текста и взглянул в лицо пенсионера. Он действительно плакал, по-стариковски молча и не стесняясь.
– Вам плохо? – спросил я и мысленно похвалил себя за заботу о «лицах пожилого возраста, пассажирах с детьми и инвалидах». Идиотский вопрос: люди редко плачут, когда им хорошо.
– Нет, – наконец ответил старик. – Не плохо. Просто нахлынуло что-то… Молодец, Валерка! Чистая правда. Все как есть, слово в слово… Только не три, а две копейки.
– Что? – не понял я. – Какие три копейки?
– Да не три, а две, я ж говорю, – поправил пенсионер. – Ну стих – тот, что Санек написал. Там было: «Пусть скромный, хоть на две копейки, труд мой…» Двенадцать листов в тетрадке, значит, по две копейки. В косую линию… – Он снова заплакал.
– Не надо его сейчас трогать, – обратился я к Игорьку с Евгением. – Сам успокоится.
– Как же не трогать? – спросил Ларин. – А как дальше читать?
Он мягким, но решительным движением, словно медсестра, ухаживающая за частично парализованным больным, отвел в сторону большой палец пенсионера, открыв окончание фразы внизу газетной страницы:
… шум, донесшийся из шлюзовой, отвлек Петровича от дальнейших восхвалений в адрес поэтических способностей Санька.
Затем разжал вторую руку старика, перевернул газету и снова вложил в его сомкнутые пальцы, будто в защелки скоросшивателя. Газета сразу же мелко затряслась.
Впрочем, мне эта тряска уже почти не мешала.
– Семнадцатая штольня! – витиевато выразился Петрович. – Если это НС, то я уже умер. Прикажи ему, накх, долго жить. От моего имени
– Не дай Бог! – откликнулся Санек.
Но Бог, к глубочайшему сожалению «третьей бригады отбойных молотобойцев», все же дал.
НС – «Николай Степанович» по официальной версии, или «начальник смены» по еще более официальной – а какой была неофициальная, мне, право, даже неловко говорить – с шумом распахнул дверь шлюзовой, не дожидаясь полного выравнивания давления внутри и снаружи помещения, отчего Санька, сидящего ближе к двери, едва не снесло с тумбочки нестерпимо горячим потоком воздуха.
Николай Степанович вывалился из шлюзовой, по своему обыкновению не сняв легкого скафа, настолько удобного и добротно сшитого, словно он приобретен в магазине модной одежды «Элегант». «Вот ссс… волочь! – за долгие годы работы под землей Петрович научился контролировать не только слова, но и мысли. – Попробовал бы он в нашем уродском несгибаемом костюме подводного бурения в дверь протиснуться!»
– Все, орлы! – с порога пошел в наступление НС. – По пионерлагерю «Сумрачный» объявляется подъем! Вторая смена – на завтрак! Короче, кончай перекур, дело срочное.
Санек неловко подпрыгнул на месте, порываясь слезть с тумбочки, но, бросив короткий взгляд на Петровича, который с флегматичностью Кутузова взирал на начальника смены с трудом разожмуренным левым глазом, решил, что еще не пора. Петрович тем временем не то чтобы вообще не пошевелил ни одним пальцем, напротив – как раз пошевелил – большим пальцем левой ноги, сокрушенно вздохнул, обнаружив зарождающуюся дырку в шерстяном носке и с пугающим спокойствием в голосе произнес:
– Иди накх, Колян! Мы с Саньком свой трудовой подвиг на сегодня уже совершили. Теперь нам по расписанию положено двадцать часов отдыха и усиленного питания. Кстати, чайничек наружу не выставишь? За семь минут закипит, я засекал.
– Чайничек я тебе потом выставлю, – нисколько не обидевшись, пообещал начальник смены. – И налью в него кой-чего покрепче простой водички. Чистых «ессентуков» 96-ти градусных, так что и кипятить не придется. Только сначала надо кое-какую работенку сделать.
– Это какую же? – заинтересовался Санек. Он был значительно моложе Петровича и оттого с большим доверием относился к любым обещаниям начальства.
– Тяжелую, – вздохнул НС, – врать не буду. Но уверен, что справитесь, – уже чуть бодрее закончил он.
– Ты, Колян, мне тут шурупы в термотитан не вкручивай, – заявил Петрович. – Мал еще, чтобы вкручивать… Ты прямо говори, чего надо.
– Прямо так прямо, – согласился Николай. – В общем так. В семнадцатой штольне…
– А ведь я еще когда предупреждал! – со злорадным удовлетворением в голосе перебил его Петрович. – Надо было плеврораспорки ставить?!
– Ну, надо, – тоном пристыженного школьника ответил НС.
– То-то же! Я ведь еще когда говорил, что надо… – Петрович немного успокоился. – Ну и что там стряслось?
– Лавовый прорыв, – начальник смены смущенно рассматривал рыжеватое пятно на своей левой калоше.
– Завалило кого? – по-деловому поинтересовался Петрович.
– Ну да. Вагонетку одну.
– И все? – Петрович с недоверием взглянул на НС. Тот упорно продолжал рассматривать свою обувь с таким интересом, словно впервые в жизни видел асбестовые калоши. – И из-за какой-то задрипанной вагонетки, накх, ты нам с Саньком мешаешь реализовывать гарантированное нам в уголовном кодексе право на отдых?
– В Конституции, – поправил Санек.
– Вот именно! – подытожил Петрович. – Да хрен с ней, с этой вагонеткой! Подумаешь, будет Пик Коммунизма на пару сантиметров ниже, делов-то… А семнадцатую штольню давно пора завалить. Я бы радовался на твоем месте: работы меньше…
– Да погоди ты! – раздраженно перебил начальник смены. – Была б это простая вагонетка, я бы вас и беспокоить не стал. Только ведь, – на его лице отражалась немая борьба между необходимостью поделиться информацией и боязнью поделиться ею слишком щедро, – непростая она…
– Сто первая? – Санек заметно оживился и плотоядно облизал губы.
– Не-а. Скажем так… – начальник смены отчаянно медлил. – Можно сказать, что это – вагонетка с нашими интернациональными друзьями.
– Три тысячи четырнадцатая?! – Петрович возбужденно сверкнул глазами и облизал губы значительно плотояднее Санька.
– Типа того, – уклончиво ответил НС. Он едва заметным жестом поднес указательный палец к губам, а затем ткнул им в какую-то точку на потолке, возможно, ту же самую, которую полчаса назад опасливо рассматривал Петрович. – И система охлаждения у них вроде как повреждена. Так что надо спешить.
– Слышь, Санек, – Петрович хищно улыбнулся. – Ты любишь теплый боржом и потные ладошки этих… интернациональных друзей?
– Не очень, – растерянно признался Санек.
– Ну и дур-рак! – с удовольствием произнес Петрович. – А что мы за это будем иметь? – спросил он, обращаясь уже к НС.
– Как что? – деланно удивился тот. – Как обычно…
– Ага, как обычно! – огрызнулся Петрович. – Мы, значит, с Саньком, будем надрываться, друзей ваших интернациональных из лавы вытягивать…
– Что значит «ваших»? Это общие друзья.
– Знаем, какие они общие! Мы их, значит, из этой топки паровозной вытащим, а вы их опять, накх, в бригадирский барак утащите и ну давай им там руки пожимать! А нам, простым рабочим, даже посмотреть не дадите? Так?
– Ну зачем же?.. – неуверенно возразил начальник смены. – А сам-то ты что предлагаешь?
– Я не предлагаю, я требую. – Петрович подумал пару секунд и решительно выпалил. – Право первого рукопожатия!
– Хорошо, – подозрительно легко согласился НС. – Только давай уже поскорее. Изжарятся же!
– А не обманешь?
– Ну что ты, Петя? – Николай развел в стороны руки в блестящих перчатках. – Разве я тебя когда-нибудь обманывал?
– Ну, а ты чего расселся? – рявкнул Петрович на Санька, поразительно легко спрыгивая с тумбочки. – Тоже мне, Илья Мурманец на печке…
…Путь к «инструменталке» проходил мимо широкого, как диапазон приемлемости бисексуально ориентированного садо-мазохиста, транспаранта, обитого сублимированным кумачом. Приклеенные к нему выцветшие буквы с частично загнутыми от жары углами складывались в гордый призыв: «Догоним Австралию!». Судя по отсутствию обычного в такого рода лозунгах «и перегоним», перерабатывать с нашей стороны никто особо не стремился. Тем более, что точность при строительстве межконтинентальной ветки метро куда важнее скорости.
За время, которое занял переход от заглавной буквы «А» в слове «Австралию» до восклицательного знака, Петрович успел три раза выматериться, причем по совершенно разным поводам.
Первый раз – в адрес гениальных создателей этого, с позволения сказать, «тяжелого скафа», который почему-то был спроектирован без учета естественной человеческой потребности сгибать ноги в коленях. Руки в локтях, наоборот, были согнуты всегда и намертво, а несгибаемые пальцы перчаток зафиксированы в таком положении, словно сжимают воображаемый бинокль. Единственным достоинством «тяжелого скафа» была его способность выдерживать давление до хрен знает скольких атмосфер, хотя, с другой стороны, то же самое давление выдерживал и серебристый «легкий скаф» начальника смены, далеко обогнавшего две нелепо ковыляющие фигуры и подающего им из этого далека нетерпеливые знаки поторопиться.
Второй раз – из-за крайне неприятных и не согласующихся с образом мышления русского человека способов организации трудового процесса, которые уже давно были реализованы в подземной практике, но получат свое название на поверхности планеты только спустя десятилетие, когда «мышлЕние» будет официально объявлено «мЫшлением», а с трибуны на народные массы польется поток загадочных слов: «самоокупаемость», «хозрасчет», «самофинансирование»… Под землей все проще. Отправил наверх сто вагонеток с породой, возвращается сто первая – с суточной нормой продуктов и воды – в том числе минеральной! Отправил за месяц три тысячи тринадцать – одному Богу известно, откуда взялось это число! – возвращается три тысячи четырнадцатая, заветная, при одном упоминании о которой у любого молотобойца на несколько секунд затихает вибрация в коленях, а рельсоукладчик непроизвольно пытается встать «на задние лапы» в своем нелепом скафе на колесиках. Вагонетка привозит так называемых «интернациональных друзей», которые, как правило, оказываются скорее подругами какой-нибудь прибалтийской национальности. Один раз, правда, привезли настоящую негритянку, «по обмену опытом». Опыт удался не очень, и Петрович еще раз с удовольствием вспомнил так понравившуюся ему строчку из стихотворения напарника.
И наконец в третий раз – из-за приклеенного к транспаранту короткого объявления, гласившего, что «в связи с непрекращающимися на Кавказе дождями высота Пика Коммунизма за последнюю неделю снизилась еще на полтора метра и составляет теперь (число неразборчиво), что по-прежнему на (число неразборчива) ниже, чем вершина горы Эверест (в скобках, другим почерком – «Джомолунгма»)»…
– Вот… так… – задумчиво произнес начальник смены, закончив приторачивать к скафу Петровича тяжеленную конструкцию, чье сходство с отбойным молотком заключалось лишь в громкости производимого при работе шума. По окружью деревянной рукоятки, хорошо сидящей в прорезиненной ладони перчатки, несмываемыми чернилами было выведено формальное «этот молоток я смазывал сам».
«Он бы еще спросил, не жмет ли?» – усмехнулся про себя Петрович. Усмехаться вслух было совершенно бессмысленно, так как тяжелые скафы из соображений экономии не снабжались аппаратом внешней речи.
– А тебя мы вооружим плевробрандспойтом, – пообещал НС Саньку, снимая со стены непонятного предназначения агрегат. – С устройством знаком? – Санек отрицательно переступил с ноги на ногу. – Не страшно. Я сам, если честно, не очень. В двух словах, нажимаешь вот на эту синюю кнопочку, и какая-то невообразимая энергия поступает вот в этот барабан, – обстоятельно объяснял начальник смены. – В барабане начинается бурный процесс расщепления окружающего воздуха на молекулы воды и чего-то еще, не помню. Не важно. Полученная вода со скоростью пять килолитров в секунду выстреливает вот из этого раструба. Запомнил?
Санек стоял неподвижно, что в данном случае означало положительный ответ.
– Ну и молодец, – сухо похвалил начальник. – Только учти, энергии хватает ненадолго, лишний раз на кнопочку не нажимай. Усек?
НС умело вставил обе рукоятки плевробрандспойта в «руки» Санька, отчего последний стал похож на автоматчика из какого-нибудь фантастического фильма.
…На пути к семнадцатой штольне им дважды встречались диггеры. Причем второй выглядел настолько обнаглевшим – его раздувшаяся черная тушка плотно приклеилась к стенке тоннеля и даже не пошевелилась при приближении людей, – что Санек все-таки не сдержался и выстрелил по нему мощной струей воды. Диггер обиженно взвизгнул, сплющенное в лепешку тельце медленно спланировало на пол, кружась и подрагивая, словно кленовый лист на сентябрьском ветру.
Петрович наградил Санька взглядом, в котором сквозило немое одобрение, и пожалел, что не может поднять вверх большой палец.
– Ты заряд-то побереги, – с напускной сердитостью посоветовал НС.
…Лавовый поток, бьющий из рваной дыры в стене тоннеля, давно уже перестал бить, успокоился и превратился в пышущее жаром черно-лиловое озеро, поверхность которого время от времени вспучивалась гигантскими красноватыми пузырями. Достигнув поверхности, пузыри с оглушительным звуком лопались, изредка фонтанируя.
Приблизительно в центре озера из лавы выглядывал покосившийся силуэт злополучной вагонетки, похожей на двухэтажный дом без окон, но с колесами, в данный момент затопленный примерно наполовину. Судя по отсутствию характерного гудения антирефлектора, система охлаждения вагонетки приказала долго жить. Что на самом деле означало, что «интернациональным друзьям», томящимся внутри, осталось жить совсем недолго. Если, конечно, еще осталось.
Подковыляв к берегу озера, Петрович по возможности небрежно пнул его левой ногой, вложив в это простое движение смысл: «Ну и?.. Что мы со всем этим, накх, будем делать?» Подернутая пеплом ленивая волна лавы алчно лизнула голенище асбестового сапога и откатилась, разочарованная.
– Давай, Санек! – решительно приказал начальник смены. – Жарь! В смысле – туши…
Санек послушно сделал несколько шагов вперед, направил раструб в самое сердце булькающей и дымящей стихии и до пора утопил синюю кнопку. Рассеивающаяся струя воды под невообразимым давлением ударила из брандспойта. Санек, пожалуй, впервые за время своей рабочей деятельности, мысленно поблагодарил создателей «тяжелого скафа» за два пуда балласта, равномерно распределенного в его ластообразных подошвах, – и устоял на ногах, несмотря на отдачу.
Все окружающее утонуло в густом черном тумане повышенной влажности.
Заряда в плевробрандспойте хватило ровно на три минуты.
Когда туман немного рассеялся, мощный лазерный фонарик, вмонтированный в гермошлем Николая Степановича, и две «сорокаваттки», торчащие в «налобниках» у Санька и Петровича, осветили окончательно почерневшую, покрытую толстой, застывшей коркой поверхность озера.
– Ну что, как говорил Юрин Гагарин, поехали, накх! – подбодрил сам себя Петрович. Собственный голос, неожиданно громкий в тесноте скафа и глухой, как уволенный в запас майор артиллерии, казался незнакомым.
Он с опаской попробовал ногой прочность застывшей поверхности. Сделал шаг, другой. Лава немного прогибалась под тяжестью скафа, но держала. «Как на речке, – улыбнулся Петрович. – В ноябре, когда лед еще не окреп. Э-эх!» Он громко выдохнул, а на вдохе – почти по пояс погрузился в плотную, обжигающую массу. Без всплеска.
В этом месте текст обрывался, так что Жене пришлось повторить нетривиальную операцию по переворачиванию страницы. Пенсионер, которого я про себя уже называл Петровичем, больше не плакал. Он улыбался.
Даже газета – или я просто привык? – дрожала значительно слабее.