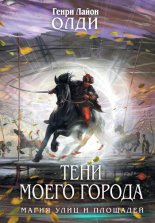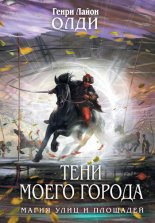Путешественник Дженнингс Гэри

– Что случилось, малыш?
Он заговорил, и его птичий голосок звучал еще тише, чем обычно. – Они перекидывали меня друг другу, пока мы ехали, по очереди, так чтобы это не замедлило их скачку.
– Ты не ранен? – спросил дядя.
– Я замерз, – произнес Азиз вяло. В самом деле, он сильно дрожал под старым изношенным одеялом.
Дядя Маттео упорно расспрашивал малыша:
– Они не обращались с тобой жестоко? Не обидели? Здесь? – Он положил руку на одеяло между бедрами мальчика.
– Нет, они и не думали об этом. Не было времени. Думаю, они были очень голодны. А потом монголы нагнали нас. – И Азиз сморщил свое бледное личико, словно собираясь заплакать. – Мне так холодно…
– Ничего, малыш, – сказал отец. – Теперь все будет хорошо. Марко, ты останешься с мальчиком и подбодришь его. Маттео, помоги мне найти кизяк, чтобы развести костер.
Я стащил с себя абас и накрыл им мальчика, чтобы согреть, нимало не беспокоясь о том, что одежда вся пропитается кровью. Но Азиз не обрадовался этому. Он продолжал сидеть все так же, как и сидел, прислонившись к седлу: маленькие ножки вытянуты вперед, ручки безвольно прижаты к бокам. Надеясь развеселить и подбодрить его, я сказал:
– Все это время, Азиз, я удивлялся: о каком же таком необыкновенном звере говорилось в твоей загадке?
Слабая улыбка мелькнула на его губах.
– Ох и заставил же я вас поломать голову, мирза Марко, не правда ли?
– Правда, малыш. ак это там?..
– Создание пустыни… которое объединяет в себе… черты семи различных животных. – Его голос снова стал едва слышен. – Неужели вы до сих пор еще не догадались?
– Нет, – ответил я, снова притворно нахмурившись. – Нет, не знаю. Сдаюсь.
– У него голова, как у лошади… – медленно проговорил мальчик, как будто сам с трудом вспоминал. – Шея, как у буйвола… крылья, как у Рухх… живот, как у скорпиона… ноги верблюда… рога газели… и… задняя часть змеи…
Я был обеспокоен тем, что исчезла обычная для мальчика живость, но понимал, что ему пришлось пережить. Голос Азиза стих, и глаза малыша закрылись. Я ободряюще сжал его плечи и сказал:
– Должно быть, это самый удивительный в мире зверь. Но кто же это? Азиз, скажи мне отгадку! Пожалуйста!
Он открыл свои красивые глаза и посмотрел на меня, а затем улыбнулся и произнес:
– Это всего лишь обыкновенный кузнечик.
И вдруг мальчик резко упал вперед, лицо его уткнулось в песок между коленями, словно он мог свободно складываться пополам.
Запах крови, пота, лошадиных и человеческих экскрементов внезапно резко усилился. Ошеломленный, я вскочил на ноги и позвал отца с дядей. Они подбежали и уставились на мальчика, не веря своим глазам.
– Ни один человек не может так согнуться! – в ужасе воскликнул дядя.
Отец встал на колени, взял мальчика за руку и какое-то время держал ее, пытаясь нащупать пульс, а затем взглянул на нас и мрачно покачал головой.
– Ребенок умер! Но от чего? Он ведь сам сказал, что не ранен! Что караунасы всего лишь перебрасывали его туда-сюда, пока ехали!
Я беспомощно воздел руки.
– Мы немного поговорили. А затем он упал вот так. Как набитая опилками кукла, из которой их вдруг вытащили.
Дядя отвернулся, всхлипывая и кашляя. А отец нежно обхватил мальчика за плечи, приподнял и пристроил его склоненную голову обратно на седло. Одной рукой придерживая Азиза в этом положении, он одновременно другой отбросил окровавленные покрывала. Затем отец издал звук – странный, словно бы он сдерживал позыв на рвоту, – и невнятно повторил то, что мальчик уже говорил нам:
– Караунасы были голодны.
С этими словами он отшатнулся в болезненном спазме, позволив трупу снова повалиться вперед, но я успел заметить, что случилось с Азизом, – я могу сравнить эту трагедию лишь с древнегреческой историей, которую слышал, когда учился в школе: там рассказывается о храб ром мальчике из Спарты и прожорливом лисенке, которого он прятал под туникой.
Глава 6
Мы оставили мертвых караунасов там, где они лежали, оставив на растерзание падальщикам-грифам, которые найдут их. Но мы взяли с собой уже искусанный, изгрызенный и частично съеденный маленький труп Азиза и направились обратно к оазису. Мы не оставили тело на поверхности песка и даже не зарыли малыша в него. Здесь ничего нельзя зарыть – ветер будет засыпать и снова обнажать умершего, все равно как верблюжий навоз при переходе каравана.
Преследуя караунасов, мы проезжали мимо небольшого солончака и на обратном пути остановились там. Мы вынесли Азиза и положили его на зыбучий песок, завернутого в мой абас, словно в саван. Затем мы нашли место, где можно было разбить блестящую корку, и уложили мальчика на топкий плывун под ней. Мы попрощались с Азизом и прочитали молитвы, пока маленький сверток опускался вниз.
– Соляная плита сверху вскоре восстановится, – задумчиво произнес отец. – Азиз будет покоиться под ней, не потревоженный ничем, даже разложением, потому что его тело насквозь пропитается солью и сохранится в ней.
Дядя, машинально почесывая свой локоть, смиренно добавил:
– Возможно даже, что эта местность, подобно другим, которые я видел, со временем поднимется, расколется и изменит свой рельеф. Какой-нибудь путешественник спустя века найдет малыша и, посмотрев на его нежное личико, удивится, как это получилось, что ангел вдруг упал с Небес, чтобы оказаться здесь погребенным.
Это была самая прекрасная надгробная речь, которую мне когда-либо доводилось слышать. После этого мы оставили Азиза, сели верхом на верблюдов и тронулись в путь.
Когда мы снова прибыли в оазис, Ноздря подбежал к нам, озабоченный и обеспокоенный, а затем разразился горестными стенаниями, когда увидел, что нас всего трое. Мы коротко рассказали ему, каким образом лишились самого маленького члена нашей компании. Ноздря выглядел мрачным и печальным, он пробормотал несколько мусульманских молитв, а затем обратился к нам, заявив как типичный мусульманин-фаталист:
– Да будут ваши собственные жизни, добрые хозяева, продлены на те дни, которые не прожил мальчик. Inshаllah.
Хотя к тому времени уже наступил полдень, но все мы слишком устали (а моя голова так просто раскалывалась от боли), чтобы продолжить путешествие. Таким образом, мы решили провести еще одну ночь в оазисе, который стал таким несчастливым местом. Трое монголов вернулись сюда еще раньше, и Ноздря продолжил делать то, чем он занимался, когда мы пришли: раб помогал этим людям промывать, смазывать и перевязывать раны.
Ран было много, но все они оказались не слишком серьезными. Тот монгол, про которого мы думали, что он был тяжело ранен во время последней схватки с караунасами, получил лишь небольшое сотрясение мозга от удара по голове лошадиным копытом. Ему уже стало значительно лучше. Однако, так или иначе, все трое потеряли много крови и, должно быть, сильно ослабели. Мы ждали, что они останутся в оазисе на несколько дней, пока поправятся. Но нет, сказали они, монголы несокрушимы и непобедимы и немедленно двинутся дальше.
Отец спросил, куда же они направляются. Монголы ответили, что у них нет определенного пункта назначения, только предписание отыскать, догнать и уничтожить всех караунасов в Деште-Кевире, и что они намереваются продолжить выполнять это задание. Отец показал им
нашу дощечку, подписанную самим великим ханом Хубилаем. Определенно, никто из этих людей не умел читать, но они с легкостью узнали четкую печать великого хана. Все трое сгорали от любопытства, желая узнать, откуда она у нас. И если раньше монголы изумились, услышав, что отец и дядя говорят на их языке, то теперь они спросили нас, не хотим ли мы от имени великого хана отдать им какие-нибудь приказы. Отец сказал, что было бы неплохо, поскольку мы везем богатые дары для их великого господина, если бы монгольский разъезд сопроводил нас в качестве эскорта до Мешхеда, и они с готовностью согласились помочь нам.
На следующий день мы снова направились на северо-восток, но уже всемером. Однако трое из нас всю дорогу помалкивали: монголы посчитали ниже своего достоинства разговаривать с презренным погонщиком верблюдов, дядя Маттео, похоже, был не настроен беседовать вообще с кем бы то ни было, ну а моя голова все еще болела и начинала гудеть, как только я открывал рот. Поэтому, пока мы ехали, беседу вели только мой отец и трое монголов. Я ехал неподалеку и внимательно слушал, таким образом начав изучать еще один новый язык.
Первое, что я узнал, это то, что слово «монгол» не относится к расе или нации – название произошло от слова «монг», что значит «храбрый». И хотя трое монголов, которые составили наш эскорт, с непривычки казались мне совершенно одинаковыми, но похоже, что на самом деле они так же сильно отличались друг от друга, как венецианцы, генуэзцы и пизанцы. Один из них был из племени хакасов, второй – меркит, а третий – бурят. Их племена, насколько я понял, первоначально происходили из отдаленных разбросанных частей земли, которые могущественный Чингисхан (сам из хакасов) давным-давно объединил, положив этим начало созданию Монгольского ханства. Мало того, один из наших новых знакомых был буддистской веры, другой даоист (про обе эти религии я тогда совсем ничего не знал), а третий, только представьте, оказался христианином-несторианином. Но одновременно с этим я узнал, что, из какого бы племени монгол ни происходил и какую бы религию он ни исповедовал, он никогда не рассматривал себя как хакаса, христианина, лучника или, скажем, оружейника. Нет, он называл себя только монголом и делал это с великой гордостью. «Монгол!» – этим было сказано все; название это заменяло собой все прочие ценности; не могло быть в мире более высокого положения, чем являться монголом.
Тем не менее еще задолго до того, как я смог поговорить с тремя нашими сопровождающими, я заметил в их поведении некоторые странные монгольские привычки и обычаи – или, лучше сказать, их варварские суеверия. Пока мы оставались в оазисе, Ноздря предложил монголам смыть со своей одежды пот, кровь и давнюю грязь, освежиться и почиститься для дальнейшего путешествия. Но они отказались по следующей причине: очень опасно стирать одежду, когда находишься вдали от дома, потому что это может вызвать грозу. Каким образом это может произойти, они объяснить не смогли. На мой взгляд, ни одному человеку, наделенному элементарным здравым смыслом, не придет в голову в самом центре высохшей и выбеленной пустыни беспокоиться о возможной грозе, какой бы таинственной силой та ни была вызвана. Однако монголы, отличавшиеся редким мужеством, почему-то страшились грома и молний, как самый робкий ребенок или слабая женщина.
Еще во время отдыха в этом полном воды оазисе трое монголов ни разу полностью не вымылись и не освежились купанием, хотя, видит бог, они нуждались в этом. Их покрывала такая корка грязи, что бедняги чуть ли не скрипели, а дух стоял такой, что его не вынес бы и шакал. Однако монголы мыли лишь голову и руки, не более того, да и то совершали это омовение очень скупо. Один из них окунал в источник выдолбленную тыкву, но никогда не использовал более одного такого черпака. Он набирал из нее в рот воды, полоскал его, а затем понемногу отхаркивал воду в сложенные ладони. Сначала этим мизерным количеством жидкости он споласкивал волосы, затем уши и так далее. Полагаю, это было не суеверием, а скорее традицией, установленной людьми, которые большую часть жизни проводили в засушливых землях. Так или иначе, я решил, что монголы вполне могли бы быть более приветливыми и приятными людьми, если бы смягчали свою суровость, когда в той не было необходимости.
И еще одно. Когда мы впервые встретили монголов, они ехали с северо-востока. Теперь всем нам опять предстояло отправиться в этом же направлении, и наши новые товарищи настаивали на том, чтобы мы проехали фарсанг или около того в сторону от их прежнего следа, потому что, заверили они нас, очень плохая примета – возвращаться той же самой дорогой, с которой ты сошел.
Когда мы в первый же вечер расположились лагерем на дороге, монголы сообщили нам еще одну примету: очень плохо, если один из членов компании сидит, печально повесив голову, или подпирает подбородок рукой, словно что-то обдумывая. Это, сказали они, может навести печаль на всех остальных. При этом монголы бросили тревожный взгляд на дядю Маттео, который как раз и сидел в такой позе и, разумеется, выглядел мрачным. Мы с отцом могли развеселить его или втянуть в разговор лишь на короткое время, но вскоре дядюшка снова впадал в уныние.
Еще очень долгое время после смерти Азиза дядя разговаривал мало, часто вздыхал и вообще выглядел несчастным холостяком. Хотя я раньше и пытался с пониманием и терпимостью относиться к его недостойной мужчины природе, но теперь был более склонен к насмешкам и презрительному раздражению. Без сомнения, мужчина, который способен испытывать удовлетворение только от сношений с человеком одного с ним пола, может также обнаружить глубокую и продолжительную
любовь к одному из них, и такое чувство – подобно обычным проявлениям истинной любви – может вызывать уважение, восхищение и одобрение. Однако у дяди Маттео состоялось всего лишь одно незначительное свидание с Азизом; во всяком случае, он был к мальчику не ближе, чем любой из нас. Мы все были глубоко опечалены и испытывали скорбь из-за потери Азиза. Что касается дяди Маттео, то он вел себя так, как ведет себя вдовец, скорбящий по жене, которую потерял после долгих лет счастливого брака, – это выглядело глупо, нелепо и недостойно. Поскольку этот человек как-никак приходился мне дядей, я продолжал относиться к нему со всем уважением, но про себя я пришел к выводу, что этот большой, крепкий и сильный с виду мужчина вовсе не был таковым внутри. Никто не был так сильно опечален смертью Азиза, как я, но я понимал, что причины этого были весьма эгоистичными, и это не давало мне права громко стенать. Во-первых, я пообещал Ситаре и своему отцу, что уберегу мальчика от опасностей, но не уберег. Поэтому я не был уверен, чувствую ли я скорбь из-за того, что Азиз умер, или из-за того, что я не справился с ролью телохранителя. Другая эгоистическая причина заключалась в том, что я скорбел из-за того, что некто ценный для меня был вырван из моего мира. О, я знаю, что так скорбят все люди в случае смерти близких, но это не делает их скорбь менее эгоистичной. Мы, оставшиеся в живых, лишаемся умершего человека. Но он или она лишаются всего – всех остальных людей, всех ценных вещей, вообще остального мира и каждой, даже самой последней вещи в нем, всего настоящего, – и эта потеря заслуживает стенания такого громкого, сильного и продолжительного, что мы, живые, не в состоянии выразить свою скорбь.
Была у меня и еще одна эгоистическая причина терзаться по поводу смерти Азиза. Я не мог не вспомнить предостережения вдовы Эсфири о том, что мужчина должен использовать все возможности, которые предлагает ему жизнь, иначе он умрет, ропща на то, что пренебрег ими. Возможно, было весьма целомудренно и достойно всяческой похвалы то, что я отклонил предложение Азиза, и таким образом невинность мальчика осталась незапятнанной. Может быть, это было бы греховным и достойным порицания, согласись я тогда и лиши его целомудрия. Но сейчас я спрашивал самого себя: раз уж Азиз в любом случае так скоро сошел бы в могилу, то какая разница, если бы это произошло? Воспользуйся мы подвернувшимся случаем, это могло бы стать последним наслаждением для него и уникальной возможностью для меня: тем, что Ноздря называл «путешествием за пределы обыденного». А теперь Азиз навсегда бесследно исчез в зыбучих песках. Ничего не исправить: я отказался – и это теперь уже на всю оставшуюся жизнь, и даже если мне представится другой случай, это произойдет уже не с красавцем Азизом. Он ушел навсегда, и эта возможность была потеряна для меня, и теперь – а не в предполагаемом будущем на смертном одре – теперь я пребывал в печали.
Однако сам-то я был жив. И все мы продолжали наше путешествие, потому что если живые и не могут забыть о смерти, то они могут бросить ей вызов.
Больше нас не беспокоили ни караунасы, ни разбойники другого рода, мы вообще не встретили ни одного путешественника, пока пересекали оставшуюся часть пустыни. Очень может быть, что мы были обязаны этим нашему монгольскому эскорту. Так или иначе, но в конце концов мы выбрались с песчаной равнины неподалеку от гор Биналуд и поднялись по их хребту к Мешхеду. Это оказался красивый и приятный город, чуть больше Кашана, с улицами, усаженными чинарами и тутовыми деревьями.
Мешхед считается в Персии одним из самых священных мусульманских городов, поскольку там жил когда-то почитаемый мученик имам Риза, проводивший богослужения в богато украшенной мечети. Тот, кто совершил путешествие в Мешхед, считается очень уважаемым человеком и получает приставку «мешади» перед именем; все равно как к паломнику, побывавшему в Мекке, почтительно обращаются «ходжа». Таким образом, в этом городе очень много пилигримов, и поэтому в Мешхеде очень хорошие, чистые и удобные караван-сараи. Сопровождавшие нас монголы проводили нас к одному из самых лучших караван-сараев и сами провели там ночь, после чего снова вернулись к патрулированию Деште-Кевира.
Там, в караван-сарае, монголы продемонстрировали нам еще один из своих обычаев. В то время как мы с отцом и дядей поселились в гостинице, а наш погонщик верблюдов Ноздря с удовольствием устроился в загоне с животными, монголы настояли на том, чтобы их постельные принадлежности были вынесены наружу, в центр двора, и там же привязали своих лошадей. Мешхедский владелец караван-сарая потворствовал им в их чудачествах, хотя некоторые хозяева не желают этого делать. Как я узнал позже, если хозяин заставляет группу монголов селиться в гостинице, подобно цивилизованным людям, то монголы хотя и злятся, но идут на уступки, однако питаться предпочитают все-таки самостоятельно. Они разжигают костер на полу посреди своей комнаты, ставят над ним треногу и сами готовят еду. С наступлением ночи монголы не ложатся на приготовленную для них постель, а разворачивают свои собственные подстилки и одеяла и укладываются спать прямо на полу.
Однако теперь я в какой-то степени понимал монголов, которые неохотно остаются под крышей дома. Я сам, отец и дядя после долгого путешествия по Большой Соляной пустыне тосковали по открытому пространству. Надо вам сказать, что простор, тишина и чистый воздух очень притягательны. Хотя сначала мы ликовали, освежаясь мытьем в хаммаме, и были довольны тем, что еду нам готовят и приносят слуги, однако вскоре обнаружили, что нам досаждают шум, беспорядок и суматоха, царившие внутри. Воздух здесь казался спертым, стены давили, а остальные жильцы караван-сарая представляли собой назойливую шумную толпу. Пропитавший все дым особенно мучил дядю Маттео, который страдал от приступов кашля. И в результате, несмотря на то что гостиница оказалась хорошей, а город Мешхед – достойным уважения, мы оставались в караван-сарае ровно столько времени, сколько потребовалось для того, чтобы сменить верблюдов на лошадей и пополнить наше снаряжение и запасы пищи, после чего немедленно двинулись дальше.
Часть пятая
Балх
Глава 1
Теперь мы немного отклонились от востока в южном направлении, чтобы обойти стороной Каракумы, Черные пески: это была еще одна пустыня, лежавшая к востоку от Мешхеда. Мы выбрали дорогу через Карабиль, или Холодное плато, которое представляет собой длинный выступ более плотной и покрытой зеленью земли. Карабиль тянется подобно береговой линии между унылым и безрадостным сухим океаном Черных песков на севере и высокими, лишенными растительности откосами гор Малого Памира на юге.
Путь через Каракумы был бы короче, но к тому времени мы уже устали от пустыни. С другой стороны, путешествуя дальше в южном направлении, через долины Малого Памира, мы всегда могли бы найти жилье в непрерывном ряду деревень, городков и значительных по размеру городов, таких как Герат и Меймене. Однако мы предпочли отправиться средним курсом. Мы уже привыкли к стоянкам на открытом воздухе, а плато Карабиль, хоть и называлось Холодным, судя по всему, представлялось таковым местным жителям лишь по сравнению с более низменными и теплыми землями, потому что там было не так уж и холодно, даже в то время, ранней зимой. Поэтому, облачившись в рубашки, шаровары и абасы, мы решили, что погода на плато вполне терпимая.
Пейзаж был достаточно монотонным, ибо Карабиль состоит преимущественно из одних лугов, но встречались и деревья – фисташка, ююба, ива и хвойные породы. И хотя нам приходилось видеть множество более зеленых и красивых земель, однако после утомительного путешествия через Большую Соляную пустыню унылая серая трава и скудная зелень Карабиля радовали наши взоры, а лошади с удовольствием паслись на лугах. После безжизненной пустыни нам показалось, что плато просто изобилует жизнью. Тут и там попадались стайки перепелов и красноногих куропаток, повсюду из нор нам вслед раздраженно свистели сурки. Здесь были также гуси и утки, как местные, так и перелетные, достаточно экзотического вида: представьте себе гусей, на голове у которых нет перьев, и уток с красновато-коричневым и золотым оперением. Встречалось тут и множество коричневых ящериц, некоторые из них были такими огромными – больше, чем моя нога, – что частенько заставляли наших лошадей вздрагивать от испуга.
Попадались нам на плато и стада изящных газелей нескольких видов, а также большие и красивые дикие ослы, которых здесь называли куланами. Когда мы увидели кулана впервые, у отца даже возникла мысль остановиться и поймать несколько таких ослов, приручить их и отвезти на Запад, чтобы продать. Отец полагал, что за них можно было бы выручить большую цену, чем за мулов, которых знатные господа и дамы покупают для того, чтобы ездить верхом. Кулан по размеру никак не меньше мула, у него такие же округлая голова и короткий хвост, однако он чрезвычайно красив: изумительная темно-коричневая спина и бледное брюхо. Мне кажется, человеку никогда не наскучит наблюдать, как целое стадо куланов стремительно несется и совершает грациозные прыжки. Однако местные жители объяснили нам, что куланов нельзя приручить и объездить, эти животные ценятся лишь из-за съедобного мяса.
Мы все, а особенно дядя Маттео, много охотились в Карабиле, чтобы пополнить наши съестные припасы. В Мешхеде каждый из нас приобрел компактный монгольский лук и короткие стрелы к нему, и дядюшка практиковался до тех пор, пока не научился виртуозно владеть этим оружием. Как правило, мы старались держаться подальше от стад газелей и куланов, поскольку боялись, что за ними могут следовать другие охотники: волки или львы, которые в Карабиле водятся в изобилии. Однако, осторожно подкрадываясь к стаду, мы все-таки несколько раз подстрелили газелей, а однажды и кулана. Почти каждый день мы могли рассчитывать на гуся, утку, перепела или куропатку. Безусловно, полакомиться свежей дичью очень приятно, если бы не одно «но».
Уж не помню, кто из нас и какую именно добычу первым подстрелил в Карабиле. Однако когда мы начали разделывать ее для того, чтобы повесить над костром, то обнаружили, что мясо изобилует какими-то крошечными насекомыми, их были дюжины, живых и извивающихся, и они скрывались между кожей и плотью. В отвращении мы отшвырнули мясо в сторону и заставили себя довольствоваться этим вечером сухой пищей, которую ели в пустыне. Однако когда на следующий день мы подстрелили другого зверя, то обнаружили, что и он тоже кишит паразитами. Не знаю, какой демон поразил болезнью все живые существа в Карабиле. Местные жители, которых мы расспрашивали об этом, не могли ничего ответить; казалось, они не беспокоились на этот счет и даже презирали нас за эти вопросы. В конце концов, поскольку и вся наша последующая дичь также кишела насекомыми, мы пересилили себя, вытащили паразитов и приготовили мясо. Поскольку в тот раз обошлось без последствий, мы повторили свой опыт и постепенно привыкли, перестав обращать на насекомых внимание.
Было и еще кое-что, что доставляло нам беспокойство (хотя после пустыни это казалось даже своего рода развлечением): трижды во время нашего путешествия по Карабилю нам пришлось переправляться через реки. Насколько я помню, они назывались Теджен, Кушка и Тагаб. Они были не слишком широкими, но холодными, глубокими и отличались быстрым течением. Реки падали вниз с высоты Малого Памира в равнины Каракумов, где в конечном счете их поглощали Черные пески и они исчезали. На берегу каждой реки мы обнаруживали караван-сарай с переправой, которая приводила меня в изумление. Своих лошадей мы просто расседлывали, разгружали и позволяли им пересекать реку вплавь, что те и делали с явным удовольствием. Нас же, путешественников, переправлял через реку по очереди со всеми нашими тюками паромщик. Местные жители использовали определенный тип парома, называемый masak. Каждый такой паром был не больше бочонка и представлял собой легкую деревянную конструкцию, которую поддерживали около десятка надутых козьих шкур.
Masak, со всеми этими узлами на обрубках козьих ног, которые крепились по углам конструкции, выглядел нелепо, но, как я понял, для этого существовала причина. У здешних рек очень бурное течение, поэтому управлять паромом практически невозможно, тем более таким неуклюжим, как masak: помню, его постоянно раскачивало, трясло, вертело и швыряло во все стороны, пока он быстро двигался по диагонали от одного берега к другому. Каждая переправа длилась довольно долго, и за это время надутые козьи шкуры начинали пропускать воздух, пузыриться и издавать свист. Тогда masak начинал погружаться в воду, а паромщик, заметив опасность, останавливался, развязывал ноги у козлиной шкуры и некоторое время по очереди сильно дул в кожаные мешки, пока те нова не всплывали, а затем умело завязывал их вновь. И хотя я неизменно восхищался этой остроумной конструкцией всякий раз после того, как в целости и сохранности оказывался на другом берегу, однако, признаюсь, во время бурной переправы я испытывал совершенно другие чувства – смесь головокружения, слабости, холода, тошноты и ожидания того, что мы вот-вот неминуемо пойдем ко дну.
Помню, как на реке Кушке еще один караван готовился к переправе, а мы наблюдали и ломали головы, как же это будет происходить, поскольку караван тот состоял из многочисленных повозок, в которые были впряжены лошади. Однако это не смутило паромщиков. Они распрягли лошадей, предоставив тем самостоятельно плыть до другого берега, а затем совершили несколько рейсов на пароме, переправляя людей и содержимое повозок. После этого, когда все повозки опустели, паромщики катили их до самого берега, пока все четыре их колеса не оказывались по одному на каждом из четырех бочкообразных небольших masak. На это зрелище стоило посмотреть: пустая повозка раскачивалась, плясала и мчалась по реке, а ее сплавщики, по одному на каждом углу, поочередно гребли, подобно Харону, и одновременно пыхтели, надувая козьи шкуры, словно Эол, играющий на своей арфе.
Тут я должен заметить, что все прибрежные постоялые дворы в Карабиле лучше справлялись с переправой, чем со снабжением гостей едой. Лишь в одном караван-сарае нам подали пристойную пищу. Честно говоря, это было нечто уникальное, чего мы не пробовали до сих пор: огромные, невероятно вкусные куски рыбы, пойманной тут же в реке. Куски были такого размера, что мы изумились и попросили разрешения пойти на кухню и посмотреть на рыбу, от которой они были отрезаны. Рыба эта называлась осетр и была побольше крупного мужчины вроде дяди Маттео. Вместо чешуи у нее были костяные наросты, а на длинной морде красовались усы, как у кошки. Мало того что осетр был съедобным и вкусным, он еще давал и черную икру, причем каждая икринка оказалась размером с жемчужное зерно. Мы попробовали и ее тоже, посоленную и отжатую: из икры изготовляли закуску, которая называлась khavyah.
Однако в остальных гостиницах еда была ужасной, что представлялось нам довольно странным, поскольку дичь в этой местности водилась в изобилии. Каждый хозяин караван-сарая, казалось, задался целью попотчевать своих гостей чем-нибудь, что они еще не ели в последнее время. Ну а поскольку мы последнее время питались такими деликатесами, как дичь и мясо дикой газели, хозяева гостиниц кормили нас мясом домашних овец. Однако следует учесть, что в Карабиле их не разводят, и мясо, надо полагать, прежде чем попасть в караван-сарай, совершило путешествие из той же местности, откуда приехали мы сами. Баранина очень быстро нам разонравилась: сухая, соленая, жесткая, а в Карабиле не было ни уксуса, ни масла, которыми можно было ее приправить, только острый красный meleghta – перец, неизменно сопровождавший бобы, сваренные в подслащенной воде. Ну а поскольку мы довольно долго употребляли подобную пищу, способствующую образованию газов, нас вполне можно было бы использовать вместо козлиных шкур, чтобы поддерживать masak. И одно лишь мне понравилось в караван-сараях Карабиля: люди там ночевали внутри, а животные – на открытом воздухе. Это происходило, потому что древесины здесь практически не было, и животные оставляли во дворах свои естественные отходы, которые, высыхая, превращались в топливо.
Следующим по значимости городом, в который мы прибыли, оказался Балх, некогда имевший славную историю[149]. Город этот, в свое время завоеванный Александром Македонским, был когда-то крупной вехой на пути торговых караванов, двигавшихся по Шелковому пути. Тогда в нем было полным-полно шумных базаров, волшебной красоты храмов и дорогих караван-сараев. Но Балху не повезло: он оказался на пути первой «волны» нашествия монголов, которые быстро прокатились через него, чтобы закрепиться на востоке; это случилось еще при непобедимом Чингисхане. Уже в 1220 году Орда уничтожила Балх, словно человек в тяжелом башмаке, наступивший на муравейник.
Это произошло за полвека до нашего прибытия, однако город все еще не оправился от того давнего бедствия. Балх, при всей его былой славе, сейчас представлял собой огромные руины, по крайней мере мне так показалось. Уж не знаю, возможно, город и остался деловым и преуспевающим, как в старые времена, но его гостиницы и зернохранилища были всего лишь неряшливыми зданиями, сооруженными наспех из разбитого кирпича и досок, оставшихся после нашествия. Они выглядели еще более мрачно и печально среди остатков некогда великолепных колонн, обрушившихся крепких стен и зазубренных каркасов куполов, в прошлом имевших правильную форму.
Разумеется, в Балхе почти не осталось стариков, живших в городе, когда Чингисхан разграбил его, а уж тем более еще раньше, когда город был прославленным Балхом Umn-al-Bulud – «Матерью городов». Но их сыновья и внуки, те, кто сейчас содержал караван-сараи и торговал на базарах, выглядели какими-то оцепенелыми и жалкими, словно разорение произошло лишь вчера у них на глазах. Когда они говорили о монголах, то словно зачитывали своего рода литанию, совершаемую в память погибших жителей Балха: «Admand u khandad u kushtand u burdand u raftand», что означает: «Они пришли, они убивали, они жгли, они грабили, они схватили добычу, и они ушли».
Да, они ушли, но вся эта земля, как и множество других, до сих пор должна была платить дань и хранить верность Монгольскому ханству. И стоило ли удивляться, что жители Балха выглядели мрачными, если неподалеку все еще стоял монгольский гарнизон. Вооруженные монгольские воины обходили переполненные базары и служили живым напоминанием, что гарнизон внука Чингисхана, великого хана Хубилая, все еще держит свой тяжелый ботинок занесенным над городом. Назначенные им судьи и сборщики налогов постоянно заглядывали через плечо жителей Балха, когда те стояли за своими прилавками на рынке и ходили по родному городу.
Я уже говорил прежде и повторю еще раз, что везде к востоку от бассейна реки Евфрат и обратно до западного предела Персии мы, путешественники, прошли по землям Монгольского ханства. Поэтому, не вдаваясь в подробности, мы обозначили всю эту огромную территорию на наших картах просто как Монгольское ханство. Кстати, мы вполне могли бы и не делать этого. От подобных карт было мало проку и нам самим, и кому бы то ни было вообще, потому что на них совсем не имелось деталей. Мы рассчитывали, что еще раз пройдем впоследствии этим же путем, когда будем возвращаться домой, и уж тогда составим более подробные карты, которыми, как мы надеялись, можно будет воспользоваться для того, чтобы осуществлять торговлю между Венецией и Китаем. Однако и сейчас, почти каждый день, отец и дядя доставали нашу копию Китаба и, придя после долгих дебатов к окончательному соглашению, заносили в нее символы гор, рек, городов, пустынь и отмечали другие особенности местности.
Теперь это стало более необходимым, чем прежде. Начиная от берегов Леванта, во время всего путешествия по Азии до Балха и его окрестностей, арабский создатель карт аль-Идриси указал нам путь, заслуживающий доверия. Как уже давным-давно заметил отец, аль-Идриси, должно быть, когда-то и сам прошел по всем этим краям и видел их собственными глазами. Однако начиная от окрестностей Балха и дальше на восток аль-Идриси, похоже, полагался на слухи или же на рассказы других, не слишком-то наблюдательных путешественников. Карты Кита ба, отображавшие восточные земли, были почти пустыми, самое основное – реки и горные хребты – на них все же было указано, однако сплошь и рядом оказывалось, что они нанесены неправильно и не на тех местах.
– Сколько у этого аль-Идриси «белых пятен», – сказал отец, который, нахмурившись, изучал страницы Китаба.
– Да, – согласился дядя, почесываясь и кашляя. – Бог свидетель, на самом деле здесь гораздо больше земель, чем он указывает, отсюда и до самого Восточного океана.
– Ну, – заметил отец, – выходит, нам придется быть усерднее, когда мы будем составлять собственные карты.
Когда речь шла о нанесении на карту гор водоемов, городов и пустынь, отец и дядя Маттео обычно приходили к согласию без долгих дебатов, поскольку все это мы видели собственными глазами и могли судить о размерах. А вот что требовало обсуждения и дискуссий, иногда даже переходящих в область догадок, так это нанесение на карту границ между государствами, как вы понимаете, абсолютно невидимых. Это было задачей трудной до безумия и разрешимой лишь отчасти, потому что Монгольское ханство поглотило очень много некогда независимых государств, стран и даже целых рас. И как тут создателям карт было выяснить, где они располагались, с кем граничили и где надо было проводить между ними линии. Боюсь, что составить подобную карту было бы непросто и на моем родном полуострове, ибо в современной Италии нет и двух городов-государств, которые смогли бы договориться по поводу границ своих владений. Однако в Азии размеры отдельных государств, их границы и даже названия меняются постоянно, еще с незапамятных времен; это началось задолго до монголов.
Поясню на примере. Совершая свой долгий переход от Мешхеда до Балха, мы пересекли невидимую границу, которая во времена Александра разделяла две страны, известные как Ария и Бактрия. Впоследствии она служила – по крайней мере, пока не пришли монголы – разделом между землями Великой Персии и Великой Индии. А теперь давайте ненадолго забудем о монгольском нашествии и попытаемся разобраться, почему здесь всегда существовала неразбериха с четким определением границ.
Когда-то вся Индия была заселена маленькими смуглыми людьми, которых мы знаем как индийцев. Однако сюда постоянно вторгались народы, более сильные и храбрые, которые постепенно вытесняли подлинных индийцев, оставляя им все меньше и меньше земли; таким образом пределы современной Индии расширились далеко к югу и востоку. Северная Индия (Арияна) населена потомками тех давних захватчиков, исповедующих ислам. Самое последнее племя здесь называет себя государством, дает ему название и объявляет, что это государство имеет свои границы на карте. Большинство названий тут заканчивается на – стан, что означает «земля, принадлежащая какому-либо племени»: Пакистан, Белуджистан, Индостан, Афганистан, Нуристан; все я не могу припомнить, их там огромное количество.
В прошлом где-то на этой территории, не то в бывшей Арии, не то в бывшей Бактрии, Александр Великий, совершая завоевательный поход на Восток, встретил прекрасную принцессу Роксану, влюбился в девушку и взял ее в жены. Никто не может точно сказать, где это произошло и к какому королевскому роду-племени принадлежала Роксана. Однако в наши дни абсолютно все местные племена – пуштуны, белуджи, афгани, киргизы – объявляют себя потомками той первой королевской династии, из которой происходила Роксана, и воинов Александра Македонского. Возможно, подобные притязания не так уж и беспочвенны. Хотя по большей части жители Балха и его окрестностей имеют темные волосы, смуглую кожу и черные глаза, какие предположительно были у Роксаны, среди них попадается также немало светлокожих, голубоглазых и сероглазых; больше того, тут можно встретить даже рыжих и белобрысых.
Тем не менее каждое племя претендует на то, что лишь его представители являются истинными потомками Александра Македонского, а стало быть, именно они и должны управлять всеми этими землями, которые теперь составляют Индийскую Арияну. Лично мне подобная логика представляется странной, поскольку Александр, как ни крути, был здесь нежеланным гостем, грабителем, и все народы – кроме, возможно, родичей Роксаны – должны были испытывать к македонцам те же чувства, которые они теперь испытывают к монголам.
Единственное, что объединяло все эти территории, – здесь до сих пор господствовал ислам. И потому в соответствии с мусульманской традицией нам ни разу не представилось возможности поговорить с женщиной, что заставило дядю Маттео весьма скептически отнестись к разглагольствованиям мужчин об их происхождении. Он процитировал старый венецианский куплет:
- La mare xe segura
- E’l pare de ventura.
В нем говорится о том, что хотя отец и заявляет, что он якобы знает, но одна только мать уверена в том, кто приходится отцом ее детям.
Так вот, я отвлекся и совершил небольшой экскурс в историю, чтобы показать, как трудно приходилось нам, составителям карт. Прежде чем
аккуратно нанести чернилами новые обозначения на наши карты, отец с дядей затевали дискуссию. Это выглядело примерно таким образом:
– Начну с того, Маттео, что эта земля является частью ханства, которым правит ильхан Хайду. Но мы должны быть более точными.
– Насколько точными, Нико? Мы же не знаем, как Хайду, Хубилай или любой другой монгол официально называют этот район. Все западные космографы именуют его просто – Индийская Арияна.
– Но ведь здесь никогда не ступала их нога. Здесь был один-единственный человек с Запада, Александр Македонский, и он назвал этот регион Бактрией.
– Но большинство местных жителей называют его Пакистаном.
– С другой стороны, аль-Идриси отметил его как Мазари-Шариф. – Ges! Да он на карте занимает всего какую-то пядь. Стоит ли ссориться из-за этой никудышной земли?
– Ильхан Хайду не стал бы держать здесь гарнизон, будь эта земля никудышной. И великий хан Хубилай наверняка захочет посмотреть, насколько аккуратно мы составляем свои карты.
– Хорошо, – следует вздох раздражения. – Давай-ка все получше обдумаем…
Глава 2
Какое-то время мы бездельничали в Балхе, однако вовсе не потому, что он был привлекательным городом, – просто к востоку от него располагались высокие горы, которые во время путешествия нам следовало преодолеть. А поскольку на земле, даже здесь, в низине, уже лежал толстый слой снега, то мы знали, что горы останутся непроходимыми еще долго, возможно, вплоть до поздней весны. И раз уж нам надо было где-то переждать зиму, мы решили хотя бы часть ее провести в местном караван-сарае.
Пищи здесь имелось в изобилии, она была вкусная и довольно разнообразная, как это и должно быть на перекрестке торговых путей. Отличный хлеб, несколько сортов рыбы, мясо – хотя и баранина, но тут ее жарили определенным образом на шампурах, это называлось шашлык. Еще были зимние дыни сатуреи и хорошо сохранившиеся гранаты, не говоря уж о традиционных сухофруктах. В этих местах не пьют gahwah, зато употребляют другой горячий напиток под названием cha: его готовят из листьев, и он такой же живительный, как gahwah, и почти такой же ароматный. Из овощей в основном были все те же бобы, к которым неизменно добавляли рис, но мы отправили на кухню немного шафрана. Это сделало рис аппетитным, за что все остальные постояльцы караван-сарая не уставали благодарить поваров.
Поскольку шафран был здесь таким же изысканным деликатесом, как и в других местах, где мы побывали, в Балхе мы тоже благодаря нему оказались людьми весьма состоятельными. Мой отец продал небольшое количество шафрана представителям местной знати и даже снизошел до просьб нескольких купцов продать им парочку стеблей чудесного растения, так что те теперь могли сами начать выращивать урожай крокусов. Расплачивались с отцом драгоценными камнями – бериллами или ляпис-лазурью. Здесь добывают много этих ценных самоцветов, и на них можно купить что угодно. Таким образом, мы оказались прекрасно обеспечены, и нам даже не пришлось открывать свои мешочки с мускусом.
Мы купили себе теплую зимнюю одежду из шерсти и меха, которые были выделаны по местной моде. В этих краях основной одеждой был chapon, который, когда это требовалось, мог служить не только верхней одеждой, но также и одеялом и даже палаткой. Когда chapon надевали в качестве одежды, то полы его свисали до земли, а просторные рукава доходили почти до самых ступней. Он выглядел нескладным и смешным, но местные жители обращали внимание не на то, как он сидит по фигуре, но на цвет chapon, который говорил о достатке. Чем светлее chapon, тем труднее его содержать в чистоте и тем дороже он стоит. Белоснежно-чистый chapon означал, что его обладатель так богат, что может позволить себе быть пеступно расточительным. Мы трое решили выбрать себе одежду желтовато-коричневого оттенка, что указывало на скромный достаток, а нашему рабу Ноздре – темно-коричневый chapon. Мы также надели местную обувь, которая называется chamus: крепкие, но гнущиеся кожаные подошвы и мягкий кожаный верх до колена с ремнем, который обхватывает икру. Мы продали также свои седла, пригодные лишь для езды по равнине, и, добавив изрядную сумму, купили новые – с высокой передней и задней лукой, которые обеспечивали безопасность при езде по горам.
В те дни, когда мы не ходили на базар, Ноздря кормил и чистил скребницей наших лошадей, доводя их до блеска, а мы, Поло, вели беседы с другими путешественниками, останавливавшимися в местных караван-сараях. Мы делились с ними нашими дорожными наблюдениями, сделанными к западу от Балха, а те из них, кто приехал с востока, в свою очередь рассказывали нам, на что следует обратить внимание путникам там. Отец старательно написал своей жене письмо на нескольких страницах, подробно рассказав ей о нашем путешествии и заверив, что все мы живы и здоровы. Он отдал письмо главному купцу каравана, идущего на запад, и оно начало долгий обратный путь до Венеции. Я, помню, сказал отцу, что было бы разумней отправить письмо, когда мы еще находились по другую сторону от Большой Соляной пустыни.
– Я так и сделал, – сказал отец. – Я отдал первое письмо одному человеку, который в составе каравана отправлялся из Кашана на запад.
Тут я беззлобно заметил, что он вполне мог бы в свое время оповещать также и мою мать.
– Я так и делал, – ответил он снова. – Каждый год я писал письмо ей или Исидоро. Но кто же знал, что ни одно из них так никогда и не дойдет. В те дни монголы вовсю покоряли новые территории, а потому Шелковый путь был еще менее надежным для писем, чем теперь.
Вечера отец и дядя посвящали, как я уже говорил, составлению карт и путевых заметок. И я сам тоже решил на досуге описать все, что с нами произошло.
И вот, когда я дошел в своих воспоминаниях до багдадской шахразады Мот и ее «сестры» по имени Солнечный Свет, я вдруг остро осознал, как давно у меня уже не было женщины. Не то чтобы я нуждался в напоминании, просто я уже слишком устал от единственной замены, ведя войну со священниками почти каждую ночь. Но, как я уже упоминал, монголы, не имея никакой собственной внятной религии, не вмешивались в религиозные обычаи своих подданных, точно так же они не вмешивались и в законы, которые соблюдали завоеванные ими народы. Поэтому Балх все еще оставался мусульманским городом, подчиняющимся законам шариата. Все женщины Балха даже дома оставались в закрытой pardah, а прогуливались, только закутавшись в чадру. Что касается меня, то я не мог без содрогания приблизиться к какой-нибудь женщине. Во-первых, она вполне могла оказаться старой каргой вроде шахприяр Солнечный Свет, а во-вторых, и того хуже: это могло вызвать ярость местных мужчин, а также имама или муфтия, отправлявших у мусульман правосудие.
Ноздря, разумеется, мигом нашел выход для своих животных побуждений – на мой взгляд, это было извращением, однако с точки зрения ислама представлялось вполне законным. В каждом караване, который останавливался в Балхе, каждого мужчину-мусульманина сопровождали жена, наложница (некоторых даже две или три) или же kuch-i-safari. Буквально это означает «странствующие жены», но на самом деле это были мальчики, которых купцы брали с собой, чтобы использовать вместо женщин. Между прочим, в шариате не имелось никаких запретов для чужеземцев, которые платили за то, что разделяли ложе с их любимцами. Я знал, что Ноздря не преминул этим воспользоваться, потому что он лестью выманил у меня деньги для своих низменных целей. Однако мне это не подходило. Кстати, я видел kuch-i-safari и заметил, что никто из них не мог сравниться с покойным Азизом.
Таким образом, я продолжал страстно вожделеть женщину, которую здесь найти было невозможно. Я мог только пристально всматриваться в каждую проходившую мимо меня груду тряпок, тщетно стараясь рассмотреть, что за женщина находилась внутри этого кокона. Поступая так, я рисковал вызвать гнев жителей Балха. Они называли такие влюбленные взгляды «предварительным прикармливанием» и порицали бездельников, их бросающих.
Между прочим, дядя Маттео также соблюдал целибат, чуть ли не выставляя это напоказ. Какое-то время я полагал, что это было из-за того, что он горевал по Азизу. Однако вскоре стало очевидно, что он просто тяжело заболел и физически ослаб даже для самого невинного флирта. Его постоянный кашель начал привлекать наше с отцом внимание. Мучительные приступы совершенно изматывали дядюшку, вынуждая того укладываться в постель и отдыхать. Он выглядел достаточно здоровым и по-прежнему крепким, да и цвет лица у него был хорошим. Но теперь, когда вдруг обнаружилось, что дядя Маттео невыносимо устает от простой прогулки от караван-сарая до базара и обратно, мы с отцом, решительно отмахнувшись от его возражений, позвали хакима.
Теперь слово «хаким» означает всего лишь «мудрый человек», вовсе не обязательно обученный медицине или имеющий специальные знания и опыт, но тогда так мог называться лишь тот, кто заслужил это звание, – скажем, доверенный придворный лекарь. Правда, оно могло быть присвоено и тому, кто, с нашей точки зрения, не был его достоин: предсказателю на базаре или старому попрошайке, который собирает и продает лекарственные травы. Поэтому мы слегка опасались, кем же окажется местный medego. На улицах Балха нам попадалось немало горожан, явно страдающих недугами, – больше всего было мужчин со свисающим зобом, похожим на мошонку или дыню под нижней челюстью, – и это не внушало особого доверия к местному искусству врачевания. Но владелец нашего караван-сарая пригласил надежного хакима по имени Хосро, и мы доверили дядю Маттео его заботам.
Похоже, этот человек знал свое дело. Лишь бегло осмотрев больного, он заявил моему отцу:
– Ваш брат страдает от hasht nafri. Это означает «один из восьми», мы называем этот недуг так потому, что один из восьми страждущих умирает от него. Но даже смертельно больные люди умирают спустя довольно долгое время после того, как болезнь впервые дала о себе знать. Джинн этой болезни не слишком торопится. Ваш брат говорит, что он уже некоторое время испытывает недомогание и что его состояние постепенно ухудшается.
– Тогда это tisichezza[150], – сказал отец, кивнув с мрачным видом. – Там, откуда мы пришли, ее считают весьма коварной болезнью. Она излечима?
– В семи случаях из восьми – да, – довольно бодро произнес хаким Хосро. – Для лечения мне понадобится кое-что с кухни.
Он обратился к хозяину караван-сарая и велел тому принести яйца, просо и ячменную муку. После этого он написал на кусочках бумаги несколько слов.
– Весьма действенные стихи из Корана, – пояснил лекарь и приклеил эти бумажки к голой груди дяди Маттео при помощи яичного желтка, с которым смешал просяное зерно. – Джинн, который отвечает за эту болезнь, кажется, тяготеет к просу. – После этого Хосро попросил владельца караван-сарая помочь ему обрызгать и обмазать все тело дяди мукой и как следует укутать больного в козьи шкуры, объяснив, что это «способствует тому, что вместе с потом будет активно выходить и яд джинна».
– Malevolenza[151], – прорычал дядя, – я не могу даже почесать зудящий локоть.
Затем он стал кашлять: то ли мука, то ли чрезмерная жара внутри козьих шкур вызвали у него приступ кашля, гораздо более сильного, чем раньше. Дядя не мог тузить себя по груди кулаками, чтобы сделать вздох, так как руки его были замотаны в шкуры; бедняга не мог даже прикрыть рот. Дядюшка продолжал кашлять так, что казалось, он вот-вот задохнется; его красное лицо покраснело еще больше, а брызги слюны с капельками крови попали на белый абас хакима. Через некоторое время агония закончилась, больной побледнел и потерял сознание; я в ужасе решил, что он все-таки задохнулся.
– Нет-нет, не волнуйтесь, молодой человек, – сказал хаким Хосро. – В этом и заключается суть моего лечения. Джинн этой болезни не беспокоит жертву, пока она без сознания. Вот видите: пока ваш дядя без сознания, он не кашляет.
– Ему остается только умереть, – скептически произнес я, – и тогда он навсегда излечится от кашля.
Хаким рассмеялся без всякой обиды и сказал:
– Не будьте таким недоверчивым. Развитие hasht nafri можно затормозить только в полезное для жизненных сил организма время, я могу лишь слегка помочь этому. Смотрите, он очнулся, и приступ прошел.
– Ges, – слабым голосом пробормотал дядя Маттео.
– А теперь, – продолжил хаким, – лучшее лечение для него: пропотеть и отдохнуть. Больному следует оставаться в постели, он должен ходить только в mustarah, что и будет делать часто, потому что я дам ему сильное слабительное. Джинны всегда прячутся в кишках, так что не повредит от них избавиться. Таким образом, каждый раз, когда больной будет возвращаться из mustarah в постель, один из вас – поскольку сам я не могу постоянно быть здесь – должен снова посыпать его тело ячменной мукой и укутывать его. Я буду заглядывать время от времени, чтобы написать новые стихи, которые надо будет приклеивать больному к груди.
Итак, мы с отцом и наш раб Ноздря начали по очереди ухаживать за дядей Маттео. Это оказалось не слишком обременительной обязанностью, разве что приходилось выслушивать его ворчание. Через некоторое время отец рассудил, что он сможет извлечь пользу из нашей вынужденной остановки в Балхе. Он оставил брата на мое попечение, а сам с Ноздрей отправился в столицу – засвидетельствовать почтение (как от себя лично, так и в качестве посланца великого хана Хубилая) местному правителю, который здесь именовался султаном. Разумеется, город, куда они отправились, считался столицей лишь номинально, а его правитель султан, как и шах Персии Джаман, был всего лишь символическим правителем, подчиняющимся Монгольскому ханству. Однако это путешествие давало моему отцу возможность украсить наши карты дополнительными современными деталями. Например, в нашем Китабе этот город именовался Кофес, теперь же мы повсюду слышали, как его называют Кабулом. Итак, отец с Ноздрей оседлали двух наших лошадей и приготовились к путешествию.
Вечером накануне отъезда Ноздря украдкой подошел ко мне. Он, по-видимому, заметил, что мне приходится несладко, и, похоже, придумал, чем я могу поразвлечься, пока буду в одиночестве находиться в Бал хе. Раб сказал:
– Хозяин Марко, в этом городе есть нечто удивительное. Мне бы хотелось, чтобы вы заглянули в логово гебра.
– В логово гебра? – спросил я. – Это что, какой-то вид редкого животного?
– Скотина порядочная, это точно, но не сказать, что встречается так уж редко. Гебр – это один из самых недостойных персов, который отвергает свет пророка (да пребудет с ним мир). Эти люди все еще поклоняются Ормузду[152], в прошлом это был бог огня, пользовавшийся дурной славой, ибо занимался многими мерзкими делами.
– О, – произнес я, потеряв к этому интерес. – И что я, по-твоему, забыл в доме приверженца какой-то варварской религии?
– Видите ли, этот гебр не подчиняется мусульманским законам, ходят слухи, что он якобы глумится над всеми приличиями. С фасада этот дом – обычная лавка, в которой торгуют льняными тканями, а сзади – настоящий дом тайных свиданий, где гебр позволяет любовникам устраивать противозаконные тайные встречи. Клянусь бородой, это очень неприятно!
– Ну а я тут при чем? Отправляйся и сам доложи об этом муфтию. – Без сомнения, я так бы и сделал, если бы был благочестивым мусульманином, но я, увы, пока еще не являюсь таковым. Кроме того, надо проверить, действительно ли гебр занимается этим отвратительным делом. Вот вы и проверите, хозяин Марко.
– Я? Какое мне, к дьяволу, дело до всего этого?
– Разве вы, христиане, не отличаетесь щепетильностью по отношению к другим людям?
– Любовники не вызывают у меня отвращения, – признался я, засопев от жалости к самому себе. – Я, наоборот, завидую им. Эх, если бы у меня была любовница, с которой я мог бы войти через заднюю дверь в дом к гебру.
– Ну, этот нечестивец к тому же совершает еще одно преступление против морали. Для тех, у кого нет под рукой возлюбленной, гебр держит в доме двух или трех молоденьких девушек, любовь которых можно купить.
– Хм, действительно безобразие. Ты правильно сделал, что обратил на это мое внимание, Ноздря. Обязательно следует проверить, чем занимается сей язычник. Теперь, если ты сможешь указать мне этот дом, я должным образом вознагражу твою чуть ли не христианскую бдительность…
На следующий день выпал снег. После того как отец с Ноздрей отправились на юго-восток, я сам, предварительно убедившись, что дядя Маттео мирно спит среди козьих шкур, направился в лавку, которую указал мне Ноздря. Внутри я увидел прилавок, заваленный рулонами и образцами какой-то тяжелой ткани. На нем также стояла каменная чаша, полная нефти; маленький фитилек горел ярким желтоватым пламенем, а за прилавком возвышался пожилой персиянин с бородой, окрашенной хной в рыжий цвет.
– Покажи мне свой самый мягкий товар, – попросил я, как научил меня Ноздря.
– В комнате налево отсюда, – сказал гебр, делая резкое движение бородой в ту сторону, где в глубине лавки виднелась занавеска, расшитая стеклярусом. – Один дирхем.
– Мне бы хотелось, – уточнил я, – самый красивый товар. Торговец фыркнул.
– Если ты покажешь мне красоту среди этих неотесанных крестьянок, я сам заплачу тебе. Радуйся, что товар, по крайней мере, чистый. Один дирхем.
– Ну, тогда дай мне немного воды, чтобы я мог потушить огонь и не смотреть на товар, – сказал я.
Услышав это, хозяин глянул на меня так, словно я плюнул в него, и тут до меня дошло, насколько грубым оскорблением было заявить подобное человеку, который, как утверждают, поклоняется огню. Я поспешно положил монету на прилавок и ринулся за шелестящую занавеску.
Маленькая комната вся была увешана веточками акации. В ней были лишь жаровня для угля и charpai – грубая кровать из деревянных брусьев, связанных крест-накрест веревками. Лицо девушки, которую я там увидел, было не красивей, чем у той, за любовь которой я платил прежде, – портовой девчонки Малгариты. Очевидно, она происходила из какого-то местного племени, потому что говорила на пушту – широко распространенном здесь языке, а ее запас слов на торговом фарси был удручающе скуден. Даже если бы девушка и назвала мне свое имя, я бы вряд ли его уловил, потому что, когда кто-либо говорит на пушту, то со стороны это звучит так, словно бы этот человек одновременно быстро прочищает горло, плюется и чихает, причем безо всяких пауз.
Однако местная девушка была, как заявил гебр, гораздо чище, чем Малгарита. Только представьте: это она посчитала меня грязным, и, честно говоря, тому имелась причина. Собираясь отправиться в этот дом, я не стал надевать недавно купленную одежду. Она была слишком громоздкой, и ее трудно было снимать и надевать. На мне была та же самая одежда, в которой я пересек Большую Соляную пустыню и Карабиль, и одежда эта, я полагаю, воняла. Еще она была пропитана пылью, потом, грязью и солью настолько, что могла прямо стоять на полу.
Девушка кончиками пальцев держала мою одежду на расстоянии вытянутой руки и приговаривала:
– Грязный-грязный! Dahb! Bohut purana! – И издавала на пушту другие звуки, свидетельствующие о ее отвращении. – Я отправлю вашу одежду вместе с моей, очистить.
Она быстро разделась, сложила свою одежду вместе с моей, а затем закричала, очевидно призывая слугу, и вручила ему узел через дверь. Признаюсь, что, хотя почти все мое внимание было направлено на первое обнаженное женское тело, которое я увидел с тех пор, как покинул Кашан, тем не менее я заметил, что одежда девушки была изготовлена из удивительного материала – такого грубого и толстого, что, хотя она была и чище моей одежды, все равно могла стоять.
Тело девушки оказалось гораздо привлекательней, чем ее лицо: хотя она и была стройной, но имела на удивление большие и круглые твердые груди. Я предположил, что это было одной из причин, по которой девушка выбрала занятие, при котром она могла удовлетворить в основном случайных язычников. Мужчин-мусульман гораздо сильней привлекают большие ягодицы, и они не слишком восхищаются женскими грудями, рассматривая их всего лишь как источник молока. Во всяком случае, я надеялся, что девушка, пока она остается молодой и стройной, не пожалеет о своем выборе. Все женщины в этих «александровых» племенах хороши, пока не вступят в зрелый возраст; затем они становятся тучными и их когда-то роскошная грудь превращается в один из многочисленных пластов жира, опускающихся из-под нескольких подбородков к многочисленным складкам живота.
Вторая причина, по которой я надеялся, что девушка довольна своей карьерой, заключалась в том, что она, совершенно очевидно, не получала никакого удовольствия. Когда я попытался разделить с партнершей наслаждение половым актом и решил возбудить ее, начав ласкать zambur, то обнаружил, что его у нее просто нет. Вверху свода ее михраба, на том месте, где должен был быть крошечный настроечный ключ, не имелось ничего, кроме легкого выступа. Сперва я объяснил все врожденной патологией, но вскоре догадался, что она была tabzir, как предписывает ислам. У бедняги там не осталось ничего, кроме бороздки на плоти от мягкого шрама. Этот недостаток, пожалуй, слегка уменьшил мое собственное наслаждение во время нескольких семяизвержений, потому что каждый раз, когда я подходил к spruzzo и она кричала: «Ghi, ghi, ghi-ghi!» – что означало: «Да, да, да-да!», – я знал: девушка всего лишь притворяется, что испытывает экстаз. Мне это показалось настоящей трагедией. Но, с другой стороны, кто я такой, чтобы критиковать и называть преступными религиозные ритуалы других народов? Кроме того, вскоре у меня самого появилась причина для беспокойства.
Гебр подошел и постучал в дверь снаружи, крича:
– Эй, не много ли ты хочешь за один дирхем, а?
Мне пришлось встать. Девушка вышла, все еще обнаженная, за дверь, чтобы принести миску с водой и полотенце, одновременно крича в коридоре, чтобы вернули нашу вычищенную одежду. Затем она поставила подогреть миску с водой, ароматизированной тамариндом, на жаровню, которая находилась в комнате, и уже стала омывать части моего тела, когда в дверь снова постучали. Вошедший слуга вручил девушке только ее одежду, разразившись длинной речью на пушту, видимо что-то объясняя. Девушка вернулась ко мне с озадаченным выражением на лице и спросила на фарси со знанием дела:
– Твоя одежда горит?
– Думаю, что горит. Почему мне ее не принесли?
– Ее нет. – И девушка показала, что ей вернули только ее собственную одежду.
– А, я понял. Ты имела в виду не «сжигать», а «сушить». Не так ли? Моя одежда еще не высохла?
– Нет. Ее нет. Твоя одежда вся сгорела.
– Что это значит? Ты же сказала, что ее выстирают.
– Не выстирают. Почистят. Не в воде. В огне.
– Ты положила мою одежду в огонь? Ее сожгли?
– Ghi.
– Ты что, тоже огнепоклонница или просто divan? Кто же сжигает одежду в огне вместо воды? Ol, гебр! Персиянин! Ol, хозяин шлюх!
– Не волнуйся! – оправдывалась девушка испуганно. – Я верну тебе дирхем.
– Но я не смогу прикрыться им, отправившись в город! Что это за безумное место?! Зачем, интересно, слуги сожгли мою одежду?
– Подожди. Смотри.
Она выхватила из жаровни кусок несгоревшего угля и быстро провела им по рукаву своей туники, оставив на нем черную отметину. А затем сунула рукав в горящие угли.
– Ты все-таки divan! – воскликнул я.
Однако ткань не загорелась. Она только вспыхнула в том месте, где выгорела и исчезла черная отметина. Девушка убрала рукав из огня, показала мне, что он очистился от пятна, и залопотала что-то на смеси пушту и фарси, из которой я постепенно понял главное. Эту тяжелую и таинственную ткань всегда чистили именно таким образом, а моя одежда была такая жесткая, что девушка решила, что она сделана из того же материала. Бедняжка очень извинялась.
– Прекрасно, – сказал я. – Теперь все ясно. Я прощаю тебя. Это была случайная ошибка. Но надеть-то мне по-прежнему нечего. Что теперь?
Тут девушка предложила мне на выбор два варианта. Я могу пожаловаться хозяину-гебру и потребовать, чтобы он обеспечил меня новым одеянием, которое будет стоить девушке дня работы и, возможно, побоев, или же надеть ту одежду, которая есть под рукой – в смысле, что-нибудь из ее нарядов, – и отправиться домой, переодевшись в женщину. Сами подумайте: разве у меня был выбор? Я должен был вести себя как рыцарь. Более того, я должен был изображать прекрасную даму.
Я побыстрее выбежал из лавки, однако остановился, чтобы привести в порядок чадру. И тут старый гебр за прилавком узнал меня, поднял брови и воскликнул:
– Смотри-ка, а ведь ты подловил меня! Ты и правда показал мне настоящую красавицу!
Я огрызнулся, бросив через плечо одно из немногих ругательств, которое знал на пушту.
– Bahi chut! – Оно указывало, что надо сделать с чьей-то там сестрой.
Лавочник грубо захохотал и крикнул мне вслед:
– Я бы так и сделал, если бы она была такой же хорошенькой, как ты!
Но я уже выбежал наружу, где все еще шел снег.
Не считая того, что я спотыкался на каждом шагу, потому что лишь смутно видел землю сквозь снег и чадру, а также того, что я часто наступал на собственный подол, я добрался до караван-сарая без приключений. Это даже слегка разочаровало меня, потому что я всю дорогу стискивал кулаки, зубы и весь кипел от злости, твердо решив, что, если ко мне грубо обратится или со мной начнет заигрывать какой-нибудь урод, я убью его. Я незаметно проскользнул в гостиницу через заднюю дверь, поспешил переодеться и хотел уже было выбросить одежду девушки. Но потом подумал и отрезал от ее платья квадрат, чтобы сохранить его на память как диковинку. С тех пор с его помощью я удивлял многих, кто не верил, что какая-либо ткань может быть не подвержена горению.
Вообще-то я слышал о подобной материи еще задолго до того, как покинул Венецию. Помнится, священники рассказывали, что Папа Римский среди драгоценных церковных реликвий хранит sudarium[153] – одеяние, которым в свое время якобы вытирали святое чело Иисуса Христа. Этой ткани приписывались священные свойства, и поэтому, утверждали священники, ее нельзя было уничтожить. Ее можно было кинуть в огонь и оставить там на долгое время, а затем извлечь обратно в целости и сохранности. Еще я слышал, что некий выдающийся целитель оспаривал заявление священников о том, что якобы именно святой пот сделал sudarium невосприимчивым к разрушению. Он настаивал на том, что ткань, должно быть, сделана из кожи саламандры – создания, про которое Аристотель заявил, что оно уютно чувствует себя в огне.
При всем моем уважении как к набожным верующим, так и к прагматичным последователям Аристотеля, я все-таки возражу и тем и другим. Поскольку я проявил интерес к этой не сгорающей в огне ткани, сотканной огнепоклонниками-гебрами, мне потом показали, как ее делают и из какого материала. В горах неподалеку от Балха есть некая порода, мягкая на ощупь. После того как эту породу дробят, она разделяется не на зерна, как песок, а на волокна, как лен. Эти волокна мнут, сушат, вымачивают, снова мнут, вытягивают, а затем скручивают в нить. Понятно, что из любой нити можно соткать ткань, и также ясно, что ткань, сделанная из минерала, не должна гореть. Необычная горная порода, грубое волокно и волшебная ткань, сотканная из него, – все это огнепоклонники-гебры считают священным и приносят в жертву своему Ахурамазде; они называют эту удивительную материю словом, которое буквально обозначает «непачкающийся камень» и которое я взял на себя смелость перевести на более цивилизованный язык как «горный лен».
Глава 3
Мой отец и Ноздря отсутствовали недель пять или шесть, ну а поскольку дядя Маттео не требовал особого внимания, у меня оставалось довольно много свободного времени. Поэтому я еще несколько раз возвращался в дом гебра – обязательно надевая при этом одежду, которой не требовалась «чистка». И каждый раз, когда я произносил пароль: «Покажи мне самы лучший товар», старик просто сотрясался от хохота, вспоминая мое появление перед ним в женской одежде. Мне приходилось сносить его хохот и грубые шуточки, терпеливо ожидая, когда персиянин возьмет наконец мой дирхем и покажет, какая комната свободна.
Раз за разом я перепробовал всех его девушек. Ну а поскольку все они были мусульманками-пуштунками и, соответственно, tabzir, то сношения с ними приносили мне лишь облегчение, а не настоящее удовлетворение. Я мог бы с таким же успехом проделывать это c kuch-i-safari, причем это обошлось бы мне гораздо дешевле. Я даже узнал от девушек несколько слов на пушту, посчитав этот язык недостойным дальнейшего изучения. Судите сами: вот, например, слово «gau», когда его произносят нормально, на выдохе, значит «корова», однако оно же на вдохе означает «теленок». А теперь представьте себе, как простое предложение «У коровы есть теленок» звучит на пушту. Представили? Ну а сейчас попытайтесь вообразить, как ведется более сложный разговор.
Выходя из дома свиданий обратно через лавку, торгующую «горным льном», я все-таки останавливался, чтобы переброситься несколькими словами на фарси с хозяином-гебром. Обычно старик делал несколько насмешливых замечаний на свою излюбленную тему – как мне пришлось переодеться женщиной, но он также снисходил до ответов на мои расспросы относительно особенностей его религии. Мне было интересно побеседовать с этим уникумом – ярым последователем старинной языческой религии. Лавочник признался, что сейчас осталось совсем мало верующих, но он утверждал, что когда-нибудь его религия снова станет главной – и не только в Персии, но и на восток и на запад от Балха, от Армении до Бактрии. Кстати, первым делом старик сказал мне, что не следует называть его гебром.
– Это слово означает всего лишь «язычник», и оно используется мусульманами в качестве насмешки. Мы предпочитаем, чтобы нас называли «заратуши», потому что мы являемся последователями Заратуштры, Золотого Верблюда. Именно он научил нас поклоняться богу Ахурамазде, чье имя в наши дни переделали в презренное Ормузд.
– Что значит «огонь», – со знанием дела произнес я, поскольку Ноздря много рассказывал мне об этом. И кивнул головой в сторону лампы, которая всегда горела в лавке.
– Ничего подобного, – обеспокоенно ответил старик. – Это глупое заблуждение, что мы якобы поклоняемся огню. Ахурамазда – это бог Света, и мы просто поддерживаем огонь как напоминание о его благотворном свете, который изгоняет темноту его извечного врага Аримана[154].
– Вообще-то, – заметил я, – ваш Ахурамазда не слишком отличается от нашего Господа Бога, который борется против своего врага Сатаны.
– Согласен. У мусульман – Аллах и Шайтан, у вас, христиан, Иисус Христос и Сатана, которых вы получили от иудеев. Ну а прообразами Бога и Дьявола для самих иудеев послужили наши Ахурамазда и Ариман. Кстати, ваши ангелы и демоны тоже скопированы с наших небесных посланцев малахим и их противников злых дэвов. А ваши Рай и Преисподняя взяты из учения Заратуштры о природе и загробной жизни.
– Ну хватит! – запротестовал я. – Мне нет дела до иудеев и мусульман, но истинная христианская вера никак не может быть простым подражанием чему-то.
Старик перебил меня:
– Взгляни на любую картину, где изображены ваш христианский Бог, ангелы или святые. Они обязательно запечатлены со сверкающим нимбом вокруг головы, разве не так? Красивая фантазия, и придумали ее, между прочим, мы. Ибо нимб символизирует свет нашего вечного пламени, которое в свою очередь олицетворяет свет Ахурамазды, вечно освещающий его посланцев и святых.
Это звучало достаточно правдоподобно, и мне расхотелось спорить, но, разумеется, я никак не мог признать правоту язычника. Старик продолжил:
– Вот почему нас, заратушей, веками преследовали, осмеивали, уничтожали и отправляли в изгнание. Причем все: мусульмане, иудеи и христиане. Понятно, что люди, которые гордятся своей единственно истинной верой, должны делать вид, что получили ее через какое-то особое откровение. Они не хотят помнить, что она просто пришла к ним из первоначальной веры других народов.
Возвращаясь в тот день обратно в караван-сарай, я думал, что, возможно, церковь поступает мудро, требуя от христиан слепой веры и запрещая рассуждения. Чем больше вопросов я задавал и чем больше ответов на них получал, тем сильнее становились мои сомнения. Когда я проходил мимо сугроба, то сгреб снег в пригоршню и слепил из него снежок. На первый взгляд он был круглый и плотный. Но когда я присмотрелся к нему внимательней, его округлость в действительности оказалась состоящей из огромного числа плотно примыкающих друг к другу углов и пиков. Если бы я подержал снежок в руках подольше, то вся его видимая прочность превратилась бы в воду. В этом и заключается опасность любопытства, думал я: все несомненные факты превращаются в обрывки и исчезают. Человек достаточно любознательный и упорный может даже обнаружить, что круглый и плотный земной шар на самом деле таковым не является. Интересно, станет ли он гордиться своей способностью к умозаключениям, если они выбивают почву у него из-под ног? И опять же кто ответит: является ли истина более прочным фундаментом, чем иллюзия?
На следующий день, возвратившись в караван-сарай, я обнаружил, что отец и Ноздря вернулись из своего путешествия. Хаким Хосро тоже был там, все трое собрались вместе у постели дяди Маттео и говорили разом.
– …И оказалось, что это вовсе даже не в Кабуле. Султан перенес столицу к юго-востоку от него, в город, который называют Дели…