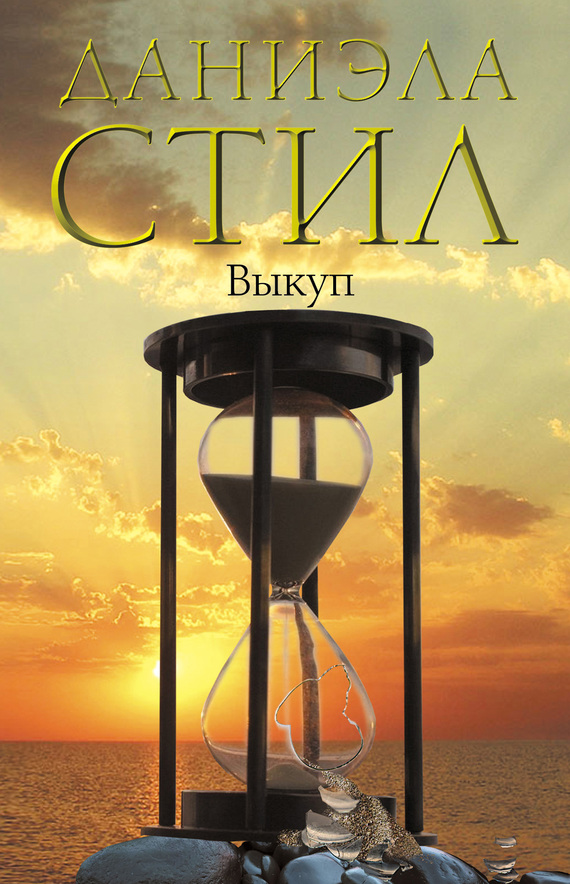Тиски Маловичко Олег
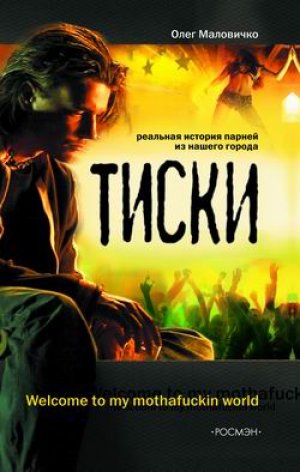
Я кладу трубку, не ответив.
Мы вновь встречаемся через пять дней. Озик суетлив и чрезмерно доброжелателен. Я уверен, что он продолжает меня подозревать.
С дороги звоню майору и сообщаю, что, если он не решит с Озиком, я уеду из города. Прямо сейчас.
Все случается слишком быстро. Звонок в дверь, и вот уже Вернер заполняет собой квартиру, как всегда, вытесняя все.
– Один? – спрашивает он, оглядываясь кругом.
– Да, – отвечаю я.
– Собирайся, поехали.
– Куда?
– Поехали, поехали.
Он старается не встречаться со мной глазами. Стоит и смотрит в окно, хотя чего он там не видел. Я чувствую, что ему неудобно передо мной.
Значит, он все знает. Озик.
Раньше я все время удивлялся тому, как спокойно люди идут на расстрел – в хронике, книгах, кино. Ведь им нечего терять, и максимум, чем они рискуют, – это пара секунд подконвойной жизни. Почему они не бросаются на своих палачей, почему не впиваются зубами в их глотки, не рвут ногтями плоть? Ведь на другой чаше весов – жизнь?
Теперь я понял почему.
В этот момент на тебя нападает дрожащее скотское равнодушие. Ты не знаешь, чем угодить своему палачу, и заглядываешь ему в глаза, чтобы предугадать его малейшее желание по движению бровей.
И тебе хочется заговорить с ним. Тебе хочется покаяться. Даже если ты ни в чем не виноват. Хочется, чтобы он тебя простил, простил и полюбил, признав в тебе человека. Хочется заплакать, взять его за руку, посмотреть в глаза и прочесть в них – сочувствие. Даже смерть не так страшна, как отсутствие прощения и понимания. Перед смертью хочется, чтоб в тебе увидели человека, а дальше – пусть убьют.
Я понял, почему приговоренные к смерти не бегут. Именно потому, почему не бежал я.
Я собираюсь. Открываю шкаф и чешу в затылке, задумываясь, что надеть. Смотрю на улицу, на Игоря – и выбираю легкий голубой свитер, светлые слаксы и коричневые мокасины. Когда я достаю из гардероба ветровку, вспоминаю о пистолете. Я редко ношу его с собой, поэтому он так и лежит в кармане кожаной куртки, где я оставил его после одной стрелы.
– Денис, ты скоро там? – Вернер заглядывает в комнату.
Я могу убить его прямо здесь. Всего один раз нажать на курок, дождаться ментов, вытерпеть первые полчаса – пока не появится Дудайтис. И тогда все закончится.
Но я не решаюсь, продолжая в глубине души надеяться на чудо.
– Что случилось, можешь рассказать? – спрашиваю я, когда мы выходим из подъезда.
– Садись, – бросает Игорь вместо ответа. Он не смотрит на меня. Цепкий взгляд его маленьких узких глаз ощупывает все вокруг.
Я сажусь на пассажирское сиденье, но сил, чтобы захлопнуть дверцу, не хватает, как будто я понимаю, что, хлопнув дверью, окончательно отрежу себя от безопасного невернеровского мира.
Вернер садится за руль и, склонившись через меня, захлопывает дверцу.
– Озика приняли.
– Когда?
– Вчера. Ты же у него был вроде, нет?
По взгляду, каким припечатывает меня к сиденью Игорь, мне становится понятно, как много зависит от моего ответа.
– Да.
– Вот сразу после этого.
И мне становится легко. Так легко, что хочется засмеяться в рожу Вернеру, схватиться за руль его «Кэдди» и крутануть, направляя в несущийся навстречу столб. Мне хочется прыгать и орать, потому что теперь, когда все понятно и кончено, я наконец-то свободен и я могу быть собой, а не тем, кого из меня хотят вылепить.
Я не могу удержаться, и на мои губы выплывает наглая улыбка.
– Я тебя рассмешил чем-то?
– Нет, извини. Просто прикол один вспомнил. Короче, прикинь, заходит чувак в публичный дом, и…
– Хватит!!!
Я осекаюсь. Остаток дороги проходит в молчании. Мне по хер, куда мы едем. За нашим маршрутом я наблюдаю с отстраненным интересом. Если мочить, думаю я, повезут далеко – за город, в лес, или ближе, к парамоновским складам. Получается по второму варианту.
Здесь на несколько километров кругом – промзона. Когда-то город знавал и лучшие времена, и все его пригороды застраивались невнятными и неясными производственными корпусами. Лет десять назад они благополучно передохли, оставив после себя постапокалиптические руины из серых бетонных заборов и недостроенных блоков ангаров и складов.
Пространство между двумя заборами заросло чахлым лесом. Там нас ждет Жига. Защищаясь от промозглого ветра поднятым воротником куртки, Жига лущит семечки.
Вернер останавливает машину.
– Денис, особого приглашения ждешь? – Игорь прокашливается в кулак и коротко мотает головой в сторону леска.
Впереди Жига, Вернер замыкает процессию, я – между ними. Тропка узкая и извилистая, поэтому мы идем гуськом. Широкая спина Жиги качается у меня перед глазами, и я понимаю, что через пять минут меня убьют. Я не боюсь боли. Но я никак не могу смириться с тем фактом, что меня не будет. Как это? Ведь весь мир вокруг – это я! Эти листья, эта тропинка, эта спина Жиги – это все я, мои ощущения, и как это – когда тебя нет? Что ты чувствуешь после того, как пуля дырявит твою голову?
Это не может случиться со мной. Я другой. Я не тот, кого убивают на лесной полянке рядом со свежевырытой мелкой могилой. Я не тот, чье тело берут за руки и за ноги и бросают вниз, а свитер поднимается, обнажая полоску белой плоти живота. Я не тот, кто лежит, чуть приоткрыв рот, так, что становятся видны передние зубы и на них падают комья земли. Я – это весь мир! Я – это музыка, я – это влажные губы Маши, я – это смеющийся Крот, я – это гитарное соло в Hotel California, я – это все! Они не могут убить меня. Нельзя убить весь мир!
В эту секунду я слышу, как Вернер за моей спиной щелкает предохранителем.
Жига, на мгновение остановившись, смотрит по сторонам, потом сходит с тропинки и пробирается в глубь леса. Я иду за ним, и, когда мне приходится перешагивать через поваленное ветром дерево, ноги отказываются слушаться, подгибаются, и я сажусь на ствол. Я готов упасть лицом в землю, целовать ноги Вернера, плакать и молить о пощаде. Я готов все рассказать им.
Ладонь Вернера ложится на мое плечо.
– Что такое? Денис?
– Нормально. Все нормально, Игорь.
Я поднимаюсь и иду дальше. На меня нападает усталое равнодушие.
Перейдя через ручей и поднявшись по пологому склону вверх, мы оказываемся на месте, которое пятью минутами ранее я с точностью спроецировал в моем воображении. Это небольшая поляна среди деревьев, с торчащим посередине гнилым пнем, и трава, желтая и мокрая от прошедшего ночью дождя. Я убираю ногу и смотрю, как в отпечаток моего ботинка начинает собираться влага.
– Узнали мы, кто стучит, Денис, – говорит Вернер, растягивая слова.
Я поворачиваюсь к нему, но он старается не смотреть в мою сторону, шаря глазами по деревьям, поляне, чему угодно, лишь бы не встретиться взглядом со мной. Ему неудобно и стыдно и жалко меня, понимаю я. Его рука висит вдоль тела, и в ней – пистолет.
В тот самый момент, когда я прикрываю глаза и набираю в грудь воздуха, чтобы сказать: давай быстрее, – в тот самый момент я слышу шорох с другой стороны леса, и через пару секунд Вадик Скелет толкает на поляну человека с завязанными за спиной руками и серым мешком на голове. Вернер вкладывает мне в руки пистолет и накрывает их своей ладонью.
– Кончай его, – говорит он так буднично, словно просит сварить ему кофе.
Жига сдергивает мешок с головы человека, и я вижу окровавленное лицо Птицы.
– Игорь, Игорь… – шлепает Птица разбитыми, потрескавшимися и как будто вывернутыми наизнанку губами.
– Хули Игорь? – спокойно и брезгливо спрашивает Вернер. – Ты же знал, что так закончится, Птица. Знал, на что шел. Ребята из Новочеркасска узнали его, он оттуда сам. – Это уже мне: – Давай. Не тяни.
– Игорь… Пацаны, вы че? Это не я, я знаю, я все скажу, это не я, Игорь, это…
Выстрел отбрасывает Птицу назад, кровь окропляет лицо Жиги.
А потом я вижу пистолет в своей вытянутой руке. Вот так всегда. Главное – действовать не раздумывая. Быстро сделать, а сожалеть уже поздно.
– Ты чего палил, идиот, он колоться начал! – кричит Жига.
– Он все правильно сделал, – защищает меня Вернер, – он крысу раздавил.
ДУДАЙТИС
Нет, ну хватило же ума домой ко мне прийти. Инстинктом первой секунды было – захлопнуть дверь перед его носом, чтобы он остался там, в ночной темноте, и понял, что не надо было сюда приходить, и вообще забыл дорогу в мой дом. Но по его пустым глазам я понял, что что-то случилось, и, схватив за плечо, я резко дернул парня в комнату.
Я выключил в прихожей свет, и мы стояли в темноте лицом к лицу. Мне было плевать, учует он запах водки, нет, но он, даже если и учуял, не подал виду – голова была занята другим.
– Арестуй меня, майор, – сказал Денис, – я человека убил.
И вот он сидит за кухонным столом напротив меня, сжимая в руке стакан, который только что был полным, и смотрит в окно. Мокрый – на улице идет дождь, сутулый. Мы не зажигаем свет, поэтому я не могу видеть выражения его лица, но я знаю, что все, что мне нужно сейчас делать, – это говорить, не умолкая ни на секунду. Не тараторить, а выдавать аргумент за аргументом, цементируя в его мозгах новую правду, пользуясь тем, что сейчас все его воззрения превратились в мягкую глину, из которой можно лепить все, что душе угодно. И если раньше я заставлял его работать на себя давлением, ломкой, шантажом, испугом, то теперь у меня появился шанс забрать его душу, стать его отцом.
– Ты сделал то, что должен был сделать в таких обстоятельствах. У тебя просто не было другого выбора.
– Был.
– Нет, это только так кажется. Если бы ты не выстрелил, сейчас на поляне лежало бы два трупа – твой и Птицы. И все, что мы успели сделать, все принесенные жертвы, твоя полурастоптанная жизнь – все оказалось бы напрасно. Ты лежал бы в полуметре под землей вместе с Птицей, а Вернер остался бы на свободе. Мы ведь не этого хотим?
Денис пожимает плечами. Я понимаю, что он не слушает меня.
– Денис, это жертва, если хочешь. Ты на правильной стороне, а за это иногда дорого платить приходится.
– Да какая правильная сторона, майор… Вы же свои задачи решаете, вы за себя мстите. Вы такой же.
– А, так он тебе рассказал? Такой же… Я мертвый уже! Чего мне за себя мстить, мертвый я! Смотри!
Я задираю штанину. Денис отводит взгляд.
– Смотри, смотри! Знаешь, что это?
– Ожог?
– Именно. Летом по форме рубашка с коротким рукавом, поэтому я в ноги долбил. А перед медосмотром пришлось на ногу гудрончика плеснуть. Потому что иначе выгнали бы, а я, Денис, люблю свою работу.
И я, сбиваясь и торопясь, рассказываю Денису все, что гонял по кругу в башке все эти годы.
Самое страшное, что до сих пор хочется. Во сне я иногда заправляю баян, и не хочется просыпаться, а когда все-таки просыпаешься – берет депрессия и тянет обратно в сон.
Ты бросаешь не потому, что это выстраданное тобой желание, а потому, что так хотят ОНИ. Люди вокруг. Близкие и не очень. Все эти родственники с укоряющими взглядами, друзья и коллеги с фальшивым сочувствующим блеском в глазах, осуждающие тебя соседи. Они хотят, чтобы ты бросил, не ты сам. Потому что у тебя самого нет, да и не может быть, достаточной мотивации.
Когда тебя прет – это лучшее, что может быть в жизни. Даже не так, это – над-жизнь, лучше, чем жизнь. Сколько людей в мире колется? Сто, тысяча? Миллионы. Несмотря на преследование со всех сторон – продолжают долбить. Почему?
Потому что хотят. Не могут без этого. Они что, все идиоты, да?
И знают они прекрасно про вред наркоты, но его уравновесить нечем. На одной чаше весов – ворота в новый мир, познание сути себя и отрешение от всех проблем, на другой – серая, бессмысленная жизнь, в которой по мере взросления одни напряги меняются другими.
Выбор очевиден, по-моему.
Но я бросил. Не буду распространяться, чего мне это стоило. О да, я оказался на грани сумасшествия. Более того, я эту грань перешагнул. Я и сейчас сумасшедший.
Самое поганое в жизни бывшего наркомана – сожаление о том, что бросил. Не верь тому, кто рассказывает об облегчении. Врет.
– Поэтому, Денис, чего мне за себя мстить, я мертвый уже! Ни хрена у меня нет! Видишь, в каком говне живу? – Я растопыриваю руки, едва не касаясь ими стен узкой грязной кухни. – Видишь, сам я в какое говно превратился? И лучше не будет уже. Меня одно в жизни держит – я должен Вернера остановить. И ты прекратишь сейчас ныть, сынок, и мне поможешь. Он убивает людей. Даже если они остаются живы, они – мертвецы. Потому что попробовали вкус другой жизни. Мы теперь вместе, сынок. Теперь по-настоящему.
Когда через три часа начинает светать, Денис отрубается прямо за столом.
Днем, растолкав и незаметно выпроводив парня, я заглядываю на работу – лишь на пару часов, отдать необходимые указания и немного разгрести текучку. Потом еду к сыну. Я хочу увидеть его. По пути останавливаюсь у магазина с молодежными тряпками и покупаю ему пятнистую зеленую майку – продавщица говорит, что они в этом сезоне в моде.
Ему сейчас двадцать. Наверное, я сам виноват, что он не разговаривает со мной. Несколько моих визитов, когда я имел глупость явиться к ним пьяным, заканчивались продолжительными и некрасивыми ссорами с его матерью. Потом она вышла замуж, и до меня аккуратно довели мысль об общем нежелании и матери и сына когда-либо видеть меня рядом. Я утерся. В конце концов, не могу сказать, чтобы меня это сильно расстроило. Не был отцом, чего уж начинать ломать себя на старости лет.
Но иногда одиночество становится нестерпимым. Хочется хоть какого-то подтверждения осмысленности и нужности своего существования. Тогда я еду к сыну. Он учится на третьем курсе юридического. Гены, хмыкаю я про себя.
В большинстве случаев я, предварительно ознакомившись с расписанием, просто сижу и наблюдаю за входом в институт из своей машины. Мне достаточно тех двух минут, когда он выходит – иногда один, иногда с друзьями – и идет вниз по улице к автобусной остановке.
Иногда я делаю попытку заговорить. Всякий раз безуспешно.
Сегодня он с девушкой. Я застываю, раздумывая, не перенести ли встречу на следующий раз, но потом решаюсь.
Когда он видит меня, он берет девушку за плечи и резко разворачивает на сто восемьдесят градусов. Она ничего не может понять, что-то спрашивает у него, но он тянет ее за собой, бросая сквозь сжатые зубы короткие фразы – что-нибудь вроде «потом объясню», «просто иди в ту сторону» и так далее. Перед тем как завернуть за угол, он на мгновение оборачивается, наши взгляды встречаются, и по глубине ненависти и презрения в его глазах я понимаю, что ни сейчас, ни по прошествии десяти, двадцати лет, когда он станет взрослее, мудрее и спокойнее, мне не стоит ожидать прощения. А когда я умру, на моих похоронах будут только несколько коллег по работе – те, кто был слишком ленив или малоизобретателен и не смог выдумать достойного повода для неявки. И хотя я уже свыкся с этой мыслью, прогнав ее в воображении не одну сотню раз, в этот миг я становлюсь противен и жалок сам себе, и это чувство, в котором стыд смешан с печалью, немного отступает только в тот момент, когда я, сорвав пробку с бутылки, прикладываюсь к горлышку прямо на ступенях магазина.
Я еду домой уже поддатым, не замечая, как слезы капают на форменную рубашку. Постепенно алкоголь расползается по моему телу, и тоска сменяется каким-то лихорадочным куражом и удалью. Я начинаю говорить сам с собой, невнятно, заплетающимся языком, затем беседую с сыном, пытаясь объяснить ему, что больше всего на свете мне хочется быть хорошим отцом – водить его на рыбалку, ходить вместе в кино, в зоопарк, или что там обычно делают нормальные отцы. Да, я понимаю, что ему уже двадцать, но мне нужно это! Мне нужно вознаградить себя за эти противные одинокие годы, когда каждый вечер я специально ехал по окружной, чтобы попасть домой позже, чтобы стены не давили. И что вся моя вина в том, что по молодости я оказался слишком слаб и глуп перед бедой, перепахавшей мою жизнь, и что беда эта была сильнее меня, и тот человек, которого ненавидят он и его мать, – это не я, вернее, лишь отчасти я, это беда сделала меня таким.
Но я понимаю, что жалок. Нет ничего противнее завязавшего алкаша и бросившего наркомана. Они похожи на людей без сердца. Они неспособны любить, потому что им пришлось бросить единственную и главную любовь. Они не в силах забыть ее и полюбить снова.
Я снова пью за рулем и жму на педаль, добавляя газа. Нужно добраться домой до того, как вырублюсь.
Я много раз хотел убить Вернера. Увидеть его на улице. Подъехать сзади. Выйти из машины, побежать за ним, на ходу вынимая пистолет из кобуры, догнать и выстрелить. Просто так, на улице, днем. Хер с ним, пусть судят потом, пусть сажают, главное – я бы по правде сделал. Я даже не хочу видеть его лицо, не хочу, чтоб он понял. Он бешеный, он мразь, и не исправится он за секунду до смерти. Я не мщу, я просто правильно делаю.
Но так нельзя. Даже если он тысячу раз подонок, нельзя так. Я же на правильной стороне.
На следующей встрече с Денисом я отдаю майку ему. Денис не берет. Когда я настаиваю, он поднимает на меня глаза и с едва скрываемой ненавистью цедит сквозь зубы:
– Майор, мне с вами дружить обязательно?
Нет так нет, сынок. Как хочешь.
КРОТ
Даже не знаю, как так получилось. В первый раз само собой. Я не хотел этого, не делал ни малейших телодвижений, чтобы ускорить, напротив – избегал, пока это было возможно. И это не то, о чем можно подумать. Здесь все по-другому.
Когда раздался звонок и я взглянул на дисплей, в первый момент я подумал, что схожу с ума, – с синеватого квадратного островка экрана на меня смотрел, улыбаясь, Пуля, а бегущая строка подтверждала мой глюк – incoming Pulya, настаивала она, опровергая реальность.
Я не знаю, зачем это, рассказала мне потом Симка. Она приехала ко мне в берлогу, которую я снимал в центре. Я не хотел обрастать мебелью и хламом, поэтому в большой комнате, где мы сидели и курили, был только разложенный на паркете новый пружинный матрац, плазменный телевизор да домашний кинотеатр.
Мы сидели на полу.
Мне очень его не хватает, говорит Симка. Я не могу находиться дома одна. Я говорю с его вещами. Мне не хватает человека, с которым я могла бы говорить. Я звоню с его телефона. Я сплю в его футболке. Утром я готовлю завтрак на двоих.
Я не знаю, что ей ответить, поэтому просто прикуриваю для Симки еще одну сигарету. Пепельница разделяет пространство между нами, как сетка в теннисе.
Мне тоже не хватает Пули, вот все, что я могу сказать. Я этого не понимал, пока он был рядом.
Трахни меня, говорит Симка, протирая красные от выкуренных сигарет глаза.
Нет, отвечаю я, прости, я не могу.
Трахни, снова говорит Симка.
Я глажу ее по щеке, она плачет, я тоже не могу сдержаться. Я вдруг ощущаю себя ребенком. Мы ревем, как дети. Симка стягивает с меня свитер, пока я вожусь с застежками ее бюстгальтера, помогает мне снять его, когда я запутываюсь уже безнадежно. Не тратя времени на платье, я просто поднимаю подол и, отодвинув трусики, вхожу в Симку.
Она принимает меня уже влажная. И я понимаю, что так правильно – без гондонов, кончить в нее. Мы кончаем одновременно, и впиваемся друг в друга, и долго лежим, обнявшись.
Потом я поднимаюсь и неловко прыгаю к ванной, придерживая спущенные до лодыжек джинсы.
Мы не считаем это изменой. Мы трахаемся в память о нем. Это наш способ хоть немного утолить голод по Пуле.
Через два дня Симка заносит в мою квартиру две объемные сумки и просит меня спуститься, потому что в такси внизу – еще две. Я спускаюсь.
Часть вещей Симка разбрасывает по комнатам, часть оставляет в сумках. Чтобы постоянно не спотыкаться о них, я закидываю сумки на балкон.
Мы почти все время молчим. Нет занятия, которое бы нас сплачивало, кроме секса.
В те дни, когда у меня нет дел, я остаюсь дома. Приняв душ, я не одеваюсь, а снова бухаюсь в кровать. Симка идет на кухню, варит кофе. Мы завтракаем, смотрим кино и трахаемся. И молчим.
Мы познаем друг друга. Когда у меня не остается сил любить Симку, я ложусь у ее раздвинутых ног и ласкаю ее пальцами, губами и языком. Минуту, десять, сто – пока она не кончит.
Я не люблю ее и никогда не полюблю. Подозреваю, что она меня и вовсе ненавидит. Ты пустой, сказала она мне как-то. И Денис твой пустой.
Но мы все равно вместе. И если бы сейчас случилось что-то, что разлучило бы нас, я бы сошел с ума. Мне хочется, чтобы Симка осталась в моей жизни подольше. С ней комфортно молчать.
Пару раз мы устраивали «семейные» вылазки – я брал Симку, Денис приходил с Таей. Одевались в костюмы и сидели в пафосных центровых ресторанах. От этих вылазок у меня осталось липкое послевкусие неправды. Когда они заканчивались, я, прощаясь с Таей и Денисом, испытывал облегчение.
По четвергам я хожу к Пулиной матушке. Раньше я навещал ее чаще – два, а то и три раза в неделю, но это слишком тяжело. Если бы не память о Пуле, я не ходил бы туда вовсе. Поэтому я и назначил специальный день для визитов.
Каждый раз, когда прихожу, она отвечает стандартной репликой:
– А ты до Сережи? А его нема еще, он на работе. Я сама жду, с минуты на минуту должен.
Говорить нам особо не о чем. Полчаса я сижу, неторопливо отпивая чай из большой кружки с выщербленными краями и надписью «Рак», потом смотрю на часы и делаю расстроенный вид:
– Я тогда Сережу не буду ждать, в следующий раз зайду, ладно?
– Я ему передам, что ты заходил.
Я встречаюсь с парнями с негритянских. Их двое – Виталик, высокий, с перебитым носом, и Чавес, юркий грузинчик, играющий под латиноса.
Не лезьте к нам, и мы к вам не будем – главный принцип негритянских. Лет двадцать назад к северу от города, в десяти километрах, открыли рыбоперерабатывающий завод. Местные туда не шли из-за маленькой зарплаты и туманных перспектив. Тогда вокруг понастроили панельных девятиэтажек и нагнали туеву хучу левого народа: быстро тараторящих мордвинов, коротконогих осетинов, худых, с тощими кадыками хохлов – всю ту публику, которая не нашла достойного применения своим талантам дома. Это называлось программой освоения нового района города. Программа накрылась. Лет десять назад окончательно зачахший завод официально закрыли. Завод был единственным источником рабочих мест для всего района негритянских. Половина населения свалила в первый год после закрытия. Жилье в районе, где не хватало школ, магазинов, детских домов, упало в цене в десятки раз – и все равно не находилось желающих приобрести опустевшие квартиры. Район обезлюдел. Осталась в нем только та публика, которая прекрасно обходилась без работы в любом месте, где жила.
Негритянские дома жили своей жизнью. Несколько раз центровые парни города, вроде Саши Иртыша или Гриши Стеклопакета, пытались поставить район под свой контроль, но всякий раз подобные операции становились финансово нерентабельными – сил и ресурсов уходило много, а обратный выхлоп оказывался пшиком. Обнищавшая негритянская молодежь торчала на маковой соломке, раз в год, на чей-нибудь день рождения, затариваясь в складчину граммом «белого китайца», зато имела обыкновение с завидной регулярностью резать горло дилерам. Общей организованной силы в негритянских не было – но каждая мелкая банда сопротивлялась до последнего, и рано или поздно всякий, кто проявлял интерес к рынку негритянских домов, махал на него рукой. Справедливости ради стоит сказать, что негритянские и сами не лезли в другие районы – им вполне хватало приключений на родине.
Виталик и Чавес – парни с третьего микрорайона негритянских. Именно там жил Фокстрот. Мне пришлось довольно долго выцеплять их. Говорит в основном Виталик, пока Чавес ходит вокруг моей «бэхи», открыто дивясь, как мне в голову могло прийти сунуться в такой одежде и на такой машине в их район.
– Мы с его телкой поговорили, она не знает ничего. Хочешь, сам сходи, она здесь, на третьем живет, в девятом доме. Первый подъезд, второй этаж, шестая квартира. Но это безмазово, они разосрались давно.
– Я все равно схожу, у меня вариантов нет других.
– Мы в блоке предупредили, чтоб тебя не трогали, но держись все равно аккуратней. Мало ли отморозков, сам понимаешь.
– Еще, Крот, – говорит Чавес, – с оружием не надо по району ходить. Ты в гостях все-таки.
– Чавес, Виталик, – говорю я, приподнимая ладони и вызывая на лицо открытую и честную улыбку, – мне только для поговорить в ваш район.
Как же, размечтались.
Улицы негритянских районов напоминают будущее, каким его изображали в дешевых голливудских боевиках восьмидесятых. Присутствует даже непременная скомканная газета, которую ветер гонит по растрескавшемуся асфальту.
Подъезжаю к девятому дому третьего микрорайона. У них, в негритянских домах, нет улиц. Только микрорайоны. Телка Фокстрота. Первый подъезд, второй этаж, шестая квартира.
Я стою у двери шестой квартиры, палец прижат к кнопке звонка. Я слышу, как его дребезжание разносится по квартире. Никто не открывает.
Ничего, подождем. Я сажусь в машину, припаркованную у трансформаторной будки, и жду. Задним умом соображаю, что для слежки мне следовало бы одолжить машину у кого-нибудь из работников низшего ранга «Орбиты», потому что моя «бэха» с задачей не привлекать к себе внимания не справляется совершенно.
Приходит эсэмэска. Симка спрашивает, когда меня ждать, чтобы приготовить ужин. Не раньше семи, отписываюсь я.
Две телки в низко сидящих на бедрах джинсах с бахромой и аппликацией на задних карманах бредут вдоль тротуара. Останавливаются у подъезда, щелкая семечки и сплевывая лузгу. Может одна из них быть телкой Фокса? Запросто. Видимо, близкие подруги – волосы одинаково острижены и выкрашены, в манере одеваться и поведении читается высокомерие как единственная возможность смириться с окружающей действительностью. Раньше я таких драл десятками. Их мозги – размягченная крошащаяся губка, впитывающая шлак от развлекательных ТВ-каналов. Даже половины статей в своих любимых глянцевых журналах они не понимают. Я решаю вспомнить старое и обаять их.
С мягким шипом «бэха» тормозит у соседнего с девчонками подъезда. Я направляюсь к двери, но по пути останавливаюсь, чтобы закурить, и словно бы случайно замечаю подружек, давно пялящихся на меня, словно я Робби Вильямс. Во рту одной из них одиноким пиздецом сверкает страза на зубе. С улыбкой киваю. Девицы не реагируют.
– Привет, девчонки. Скучаете? – Ни в коем случае нельзя баловать их длинными и непонятными фразами. Почувствуют чужака.
– Не, просто стоим.
– Понятно. Курить будете? – Мог бы и не спрашивать. Пять минут дымим, я улыбаюсь, не закрывая рта ни на секунду, забалтывая девиц и изо всех сил демонстрируя дружественность намерений. Да, они из этого дома. Да, из этого подъезда. Она. Как интересно.
Когда я спрашиваю про Фокстрота, та, которая повыше, со стразом на зубе, закатывает глаза и поджимает губы.
– Я его месяц не видела уже. Задолбал он меня.
– А что такое?
– Наркоша конченый. В последний раз встречалась, он у меня кошелек из сумочки вытащил.
– А найти его где?
– Понятия не имею. Зачем тебе?
– Денег должен.
– Тогда не ищи даже.
Эта девка, которую зовут, кто бы сомневался, Анжела, – мой единственный ключик к Фоксу. И я тащу их с подружкой в ресторан.
Рестораном маленькое кафе с обитыми вагонкой стенками называется только по бесстыдству хозяев и за отсутствием конкурентов.
За сдвинутыми в углу четырьмя столиками пьет компания стриженых парней, ощупавших меня взглядами, полными доброжелательности дикого лесного кабана. Я знаю, что рано или поздно они, подгрузившись, попытаются наехать, поэтому, выцепив из их толпы старшего, я отзываю его в сторонку и предлагаю связаться с Чавесом и Виталиком.
Чавес не обманул – парень оказывается предупрежденным. Он жмет мне руку, просит не обижаться и даже зовет к столу, изобильно уставленному водкой.
Я отказываюсь. Через час подруга Анжелы сваливает (успеваю заметить, как Анжелка – она сама попросила ее так называть – шепчет что-то ей на ухо). Значит, я ей понравился, раз она попросила подругу оставить нас вдвоем.
Я не хочу подниматься к Анжелке домой, поэтому приходится драть ее на заднем сиденье «бэхи». От нашего дыхания запотевают стекла. Слава богу, они тонированные. Чтобы избавить себя от счастья лицезреть ее глаза, я беру Анжелку сзади. Мне совершенно ее не хочется, но я трахаю ее туловище не из вожделения, а оплачивая информацию о Фокстроте.
После всего, когда она возится, влезая в лифчик, кофту и куртку, а я выкидываю на улицу гондон, Анжелка бросает:
– У него два кореша здесь. Посмотри их «на столбах», они там постоянно зависают. Они наверняка знают, где его найти.
– А как я их узнаю?
– Я тебе опишу.
На прощание мне приходится поцеловать Анжелку и обещать заехать как-нибудь на днях. Но ни она, ни я не обманываемся по этому поводу. Мы получили каждый, что хотел: я – информацию, она – кусочек ненегритянской жизни.
Отъехав от ее дома, я покупаю в магазине маленькую бутылку коньяка и полощу рот и горло, чтобы избавиться от вкуса Анжелы.
Они варят винт «на столбах». Это старая стройка за последними негритянскими домами. В конце восьмидесятых, еще до закрытия завода, здесь начали строить что-то торжественное и пафосное – то ли дворец спорта, то ли дом детского творчества, но изменившаяся экономическая конъюнктура прервала стройку на стадии каркаса. Бомжи, попытавшиеся было облюбовать территорию пару лет назад, проиграли схватку в конкурентной борьбе с беспризорными собаками и правильными негритянскими пацанами. Однако пацаны, отвоевавшие стройку, сами не знали, что с ней делать. Теперь ею властвовали дети, игравшие в войнушку, и местные наркоманы.
Для детского творчества остались только стены. Вдоль одной из них я и шел, минуя самопальные убогие граффити и изучая попутно спортивные и музыкальные пристрастия подрастающей негритянской смены. Самой популярной надписью оказалась «Слава пидор», красовавшаяся на стенах не менее десятка раз.
А вот и они. Выглядят ровно, как описала их Анжелка, – один худой и высокий, с торчащим из горла шипом кадыка, и все его тело похоже на скрепленные проволокой железки, второй – в красной ковбойке, мелкий и лысоватый, несмотря на свою молодость. Видимо, генетика. Если смотреть издали и не видеть шприцов, бинтов и миску, их можно принять за туристов. Худой курит, зажав бычок между пальцами.
Я не стал тратить время на знакомство и объяснения, сразу выстрелив в миску.
– Сидеть, бля! – крикнул я, как только один из них дернулся к дыре в стене. – Сидеть, бля, суки сраные!
И вот же, сраные наркоманы – им бы за жизнь волноваться, но их глаза, лишь скользнув по мне и нацеленному в них дулу «Астры», с сожалением уперлись в простреленную миску.
– Где Фокстрот? – спросил я, не опуская пистолета.
Они переглянулись.
– Я не буду вас уговаривать, – почти прошептал я и, выждав секунду, пустил пулю в лоб парню в ковбойке. Он дернулся, упал вбок, а стена за его спиной стала красной.
Худой залип. Его тело трясла мелкая дрожь, бычок по-прежнему тлел между пальцев поднятой вверх руки, а сам Худой что-то мелко блеял, не в силах справиться с шоком.
– И…и…и…и… – На спортивных брюках расползалось пятно. Обоссался со страха.
– Где Фокстрот? Скажи мне, и я уйду, – раздельно, почти по слогам сказал я, стараясь успокоить парня.
– Он… он… он…
– Он, – подбадриваю я Худого.
– У… у Ходжи где-то трется.
Наверняка никто не слышал трех выстрелов с территории старой стройки. А если и слышал, не стал бы сюда соваться. Оно ему надо?
Выстрелить в голову человеку – ровно то же, что вбить гвоздь в фанерную стенку. Только легче.
Я ничего не говорю Денису. Стоит разузнать все самому. После того как Озик сошел со сцены, Вернер зациклил Дениса напрямую на Ходжу. Теперь Дэн еженедельно ездит туда. В силу неясной паранойи Ходжи, Денис ездит один. Так Ходжа чувствует себя спокойнее. Исключения – для особо крупных партий или когда есть дополнительная тема для обсуждения. В этом случае мы едем делегацией из семи-десяти человек во главе с Вернером.
Мне приходится каждый день в течение двух недель упрашивать Дениса съездить к Ходже вместо него. Я объясняю свое желание тем, что иначе никогда не вырасту. Денис, зная мои амбиции, с легкостью проглатывает мое вранье.
Мне везет во время второго визита.
Уже спрятав пакет со стаффом в багажнике в отделении для запаски, я вижу Фокстрота. Он моет машины на заднем дворе. Я подхожу к одному из отдыхающих во дворе таджиков, прошу прикурить и завязываю разговор. После пары фраз перевожу на Фокса – на хрена вы его держите, он же нарк.
Оказывается, Фокстрот устроился шикарно в понимании большинства конченых.
С утра до вечера он моет машины, выносит мусор, скребет ершом унитазы в чайхане, чистит ботинки людям Ходжи, шуршит по малейшему движению ногтя самого последнего человека в таджикской группе – но каждый вечер получает гарантированную вмазку, и она стоит всех предыдущих унижений. Можно сказать, он обрел рай.
Я мог бы убить его прямо сейчас. Ходжа считает, что слишком крут, чтобы кто-нибудь попробовал на него залупнуться. Поэтому одиночных дилеров вроде меня даже не обыскивают. В желтой кожаной кобуре на моем левом боку – пятнадцатизарядный «Магнум Дезерт Игл», сзади, за поясом, шестизарядная никелированная «Астра» с деревянной ручкой, а в кармане плаща – две обоймы для скоростной перезарядки (Вазген плотно знает свое дело). Я даже не буду лезть в тайник «бэхи», где покоится «узи».
Я могу подойти очень близко, резко выхватить оружие и устроить пальбу. Первые пули достанутся обдолбанному дехканину, который сидит на пороге чайханы с «калашниковым» на коленях и щупает полузакрытыми маслянистыми глазками раскинувшуюся кругом степь, тоскуя про себя по кишлаку и своей арбе с ишаком. Он не успеет ничего понять, свалившись кулем в дорожную пыль. На бегу я переведу угол обстрела влево, откуда наперерез мне ломанутся двое, играющие сейчас в нарды. Они выхватят стволы, болтающиеся пока без дела в кобурах под их длинными кожаными куртками, но я сумею остановить их на психологии: выстрелы «Магнума» с шумом и треском продырявят деревянную стену беседки, и они интуитивно спрячутся кто где.
Не останавливаясь ни на секунду, я перемахну через невысокий заборчик и окажусь на заднем дворе. Фокстрот с началом стрельбы упадет на землю и закроет руками голову – он слишком труслив, чтобы попытаться убежать, к тому же он не знает, что весь этот фейерверк затеян исключительно ради него.
Я хочу, чтобы он посмотрел мне в глаза. Я хочу дать ему хотя бы десять секунд, чтобы он понял, что я – неотвратимое возмездие, что я – ответственность за его поступок. Чтобы он испытал ужас и начал обссыкаться, ныть, просить «не надо» – в этот момент я размозжу его череп выстрелом из сорок четвертого «Магнума».
Но мне не уйти. К тому времени, как я закончу с Фокстротом, сюда слетится половина таджикского поселка с «калашниковыми» и гранатометами. Меня даже не убьют. Меня распылят и дезинтегрируют.