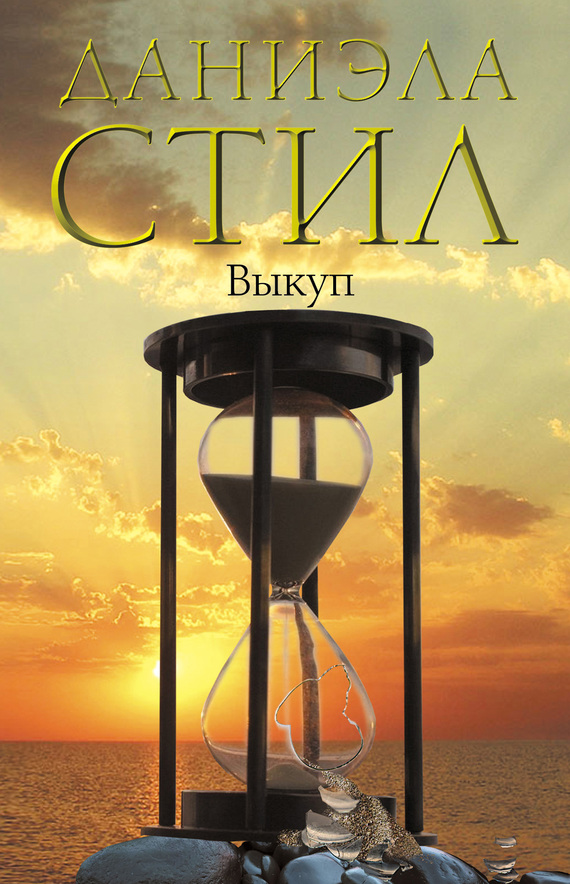Тиски Маловичко Олег
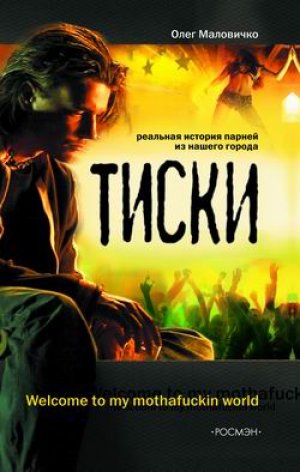
– Игорь, я не думал…
– Не думал?.. Не думал?! – Игорь поднимает руки, словно призывая небо в свидетели, и бессильно опускает их.
Он смотрит на меня не с презрением – так было бы легче, – а с непониманием.
– Как это – не думал? То есть ты что, просто так, проснулся утром, настроение херовое, дай-ка, думаю, выйду, так, что ли?
– Нет, но…
– А как тогда?! Денис, я ни хрена тебя не понимаю. Объясни мне. Расскажи, что случилось.
– Ничего.
– Тогда какого хрена ты сюда влетел, как баба с месячными, и устроил эту истерику – я выхожу, я выхожу! Тая, двери закрой!!! – От крика Игоря Тая дергается, роняет на пол вазочку с печеньем и тут же наклоняется собрать. – Тая, пожалуйста, оставь это сраное печенье и закрой дверь, мы разговариваем!
Тая исчезает. Мы стоим молча.
Игорь отхлебывает кофе, не отводя от меня взгляда. Он нарочно тянет паузу. Мне становится неудобно. Ему удалось выстроить разговор таким образом, что я чувствую себя виноватым. Я с трудом подавляю в себе желание начать оправдываться.
Вдоволь попилив меня молчанием и насладившись сполна пунцом на моих щеках, вверх-вниз ходящим кадыком – в общем, раздавив меня по полной, Вернер вдруг улыбается, хлопает в ладоши, потирает ими и подмигивает мне заговорщически:
– У тебя что под штанами?
– Как… трусы.
– Приличные? Без полосок? Тая!.. Тая, принеси шорты мои старые!
– Игорь, зачем?
– Купаться пойдем. И тебе, и мне не повредит. А потом продолжим на свежую голову, ладно?
Как будто, откажись я, это что-то изменит.
А двумя часами позже мы сидим на полу веранды, между нами – литровый баттл виски, тарелки с какой-то жратвой, а Тая так и мельтешит, стараясь угодить и предугадать малейшее желание или каприз. Игорь рассказывает о миллионе вещей сразу – о своем детстве, о том, как он строил этот дом, о неугомонных соседях, которых ему пришлось в конце концов «отселить» (я даже не попытался переспросить, что он подразумевал под этим словом), в общем, обо всем, что должно отвлечь меня от цели визита.
Мы уже порядком пьяны, когда Тая приносит Игорю мобильный.
– Алло? Секунду. – Игорь смотрит на меня, давая понять, что разговор не предназначен для моих ушей. Но когда я пытаюсь подняться, он вдруг меняет решение и, схватив меня за рукав кофты, дергает обратно. Покрутив пальцами вокруг пустых стаканов, Игорь намекает, что неплохо бы долить.
– Да, Ходжа, нормально… Нет, ничего, ем… Ем!.. Как обычно. Договорились. Ага. Бывай.
Отложив телефон, Игорь поднимает стакан и чуть раскачивает его, любуясь, как насыщенное, цвета горелого меда виски плещется по стенкам.
– По поводу утреннего разговора нашего. – С Вернера мигом слетает опьянение. – Я хочу, чтобы ты одну вещь понял. Хуй когда ты выйдешь. Повтори.
– Хуй когда я выйду.
– Молодец. Не выходят из этого бизнеса, не бывает так. Это же общее правило, это азбука, это дети знают. Ты просто подумай – крутятся здесь колоссальные бабки. Колоссальные. Этот бизнес, Денис, ты меня сейчас серьезно послушай, ладно? Слушаешь? Так вот, я хочу, чтоб ты понял, и эту мысль воспринял серьезно, и впитал ее. Этот бизнес, Денис, – единственная возможность для его участников вырваться из говна. Единственная. Они рождением поставлены в такие условия. Или живи спокойно, но в говне, или рискуй, чтобы выплыть на поверхность. Они платят своей безопасностью за возможность жить по более высокому стандарту, за возможность жить, как им хочется.
– За счет других.
– Да, за счет других. Но так делается любой бизнес. Это основа цивилизации. И вот, Денис, когда один из этих людей вдруг уходит, он больше ничем не связан с остальными. И он становится угрозой для них. Поэтому его убивают, я понятно выражаюсь?
– Ты что, убьешь меня?
– Нет, конечно. Но это все равно случится. Ты выпадаешь из системы, но твой снимок остается в картотеке. Понимаешь? Тебя могут убить торчки, узнавшие, что ты теперь без защиты, но наверняка с нажитыми бабками. То же самое могут сделать менты – ты и у них в картотеке. Наденут мешок на голову, вывезут в лес, в хибару какую-нибудь, и будут прессовать неделями, пока ты им не отдашь все. Масса вариантов. Или ты не выдержишь и попытаешься что-то подмутить сам – в последний и единственный, как тебе кажется, раз, и тебя неминуемо грохнут на передаче, зная, что за тобой никого нет. Отказаться невозможно, Денис. Сейчас одним телефонным звонком, отправив шныря на торч-хату, ты поднимаешь сто баксов. А таких звонков, встреч, стрелок у тебя ежедневно с десяток. Ты знаешь, как легко зарабатываются деньги. Ты видел, каким бурным может быть поток. Ты никогда не сможешь забыть этого. Ты не сможешь пахать изо дня в день, по графику, чтобы через тридцать дней получить тонкий пакетик с суммой, которую сейчас ты, не напрягаясь, делаешь за день. При этом еще ты должен будешь лизать с утра до вечера десяток жоп, а чуть поднявшись, должен будешь снять штаны, чтобы твое очко лизал такой же, как ты, только чуть помоложе. И ты вернешься. А тебе не будут доверять. И грохнут.
Вернер опрокидывает в себя стакан и бьет его дном о дерево пола на веранде так, что я вздрагиваю.
– Ты сел на поезд, Денис. Он не едет, он несется с бешеной скоростью. А ты пытаешься с него спрыгнуть. И твоя смерть станет результатом не злой воли машиниста, а следствием физических законов. Ты прыгаешь и разбиваешься, это твое решение и твой выбор, и тебе некого винить, кроме самого себя, понимаешь это? Пойду поссу. Свистни Тае, чтоб вискаря еще принесла.
Он идет в туалет, я – на кухню.
Тая сидит на широком подоконнике, обняв руками колени.
– Ты на него не обижайся. Он всегда такой, – говорит она, пока я выуживаю из холодильника следующую бутылку.
– Такой – какой? – Я чувствую, что язык ворочается с трудом.
– Жесткий. Жестокий. Он так любит, это его способ любить. Чем больше он любит человека, тем крепче его держит. Я это по себе знаю, он и со мной так.
– Да ладно, нормально, – говорю я, просто чтобы сказать что-то.
– Тебе плохо, – говорит Тая, – я вижу, ты скрываешь что-то. Оно тебя гнетет, пожирает изнутри.
Милосердная память заблокировала события прошлой ночи, отослав их в подсознание, я улыбаюсь и киваю в ответ. В этот вечер мне отчаянно хочется любить кого-то и чтоб меня тоже любили и жалели, а два этих милых человека – Игорь и его странная, но, безусловно, хорошая сестра идеально для этого подходят.
– Ты можешь мне обо всем рассказать. Обещаю, что никому не скажу, даже Игорю. – Хм, как будто вокруг тебя, Тая, так много людей, изнывающих от желания узнать мои секреты. – Понимаешь, с Игорем трудно общаться, он давит все время.
У Игоря снова звонит телефон. До нас доносится трель вызова, потом – короткие, похожие на армейские команды, неразличимые реплики Вернера.
– С ним трудно. Но… понимаешь, он и дает что-то взамен. Он для тебя все сделает. Ты его о чем угодно можешь попросить, и он сделает. Он и тебя, и меня любит.
– Значит, мы с тобой соратники? – спрашиваю я, безотчетно заигрывая с Таей.
– Получается, так.
– Давай выпьем тогда, пока босса нет, – шепчу я заговорщически и разливаю виски по бокалам.
Тая пугается и употребляет весь набор действий из арсенала зашуганных молодых девиц – нервно оглядывается назад, в гостиную (где маятником ходит Игорь, сросшийся с телефонной трубкой), заправляет прядь волос за ухо, глядя на меня широко раскрытыми глазами – не шучу ли, ломает пальцы и так далее.
А я чуть не силой впихиваю в ее руки наполовину полный стакан.
Когда Игорь возвращается на веранду, я сижу в одиночестве, а край его опустевшего бокала смазан полосой помады.
Мы выпиваем, а потом выпиваем снова, и все проблемы отходят даже не на второй, а на третий план, и мне вдруг начинает казаться, что все произошедшее со мной в последние полгода – не более чем дурной, чрезвычайно затянутый и плохо поставленный фильм, просмотр которого я могу прервать в любой момент, протиснувшись, пригибаясь между креслами, к выходу из зала.
Остаток дня мы проводим валяя дурака – снова купаемся, и, когда мы в воде, начинается дождь, а я к удивлению своему обнаруживаю, что купаться пьяному под вечерним дождем чертовски здорово. Мы разжигаем на берегу костер, Игорь притаскивает мангал и сообщает заплетающимся языком, что Таю с помощником он отослал на рынок, за свежей рыбой. Вскоре она возвращается, и мы запекаем в фольге судака.
Тая то появляется, то исчезает, принимая какие-то непонятные и невидимые мною команды от Вернера. Стоит нам перейти к серьезной теме, и у Таи тут же обнаруживаются срочные дела на кухне. А как только мы снова сползаем к пустякам, Игорь оборачивается и кричит в густеющие сумерки:
– Тая!.. Тая, где ты ходишь!
И она материализуется из темноты и садится рядом с ним. Вернер обнимает ее за плечи, мажет щеку слюнявым пьяным поцелуем, треплет волосы, возится, как со щенком, – чтобы через полчаса, когда разговор коснется важной темы, снова отослать в дом.
Мы говорим и говорим, и в Вернере я обнаруживаю хорошего собеседника. С ним, в отличие от Пули и Крота, я могу вести беседу пусть не такую откровенную, но о вещах более глубоких и взрослых.
– У меня с девушкой моей… противофаза, в общем. Из-за работы. Я боюсь, что у нас ломается все.
– Так ты все это из-за бабы? Господи, Денис…
– Нет, ты не так понял. У нас серьезно. Мы встречаемся уже три года, живем вместе.
– Да хоть пять лет. Это такая штука, она в годах не меряется. У меня, от же ж, блядь! – Вернер размазывает комара по шее и с неудовольствием глядит на кровь на пальцах. – У меня столько друзей лет по десять, по двадцать с женами – и ненавидят их. Любовниц заводят, по проституткам бегают – но не разводятся. Непонятно почему. Так что три года как раз не показатель. А если серьезно… Понимаешь, любовь такая штука, она все ломает. Как… не знаю, как наркомания.
Вернер смеется, радуясь необычному сравнению.
– Она сильнее быта. Когда любовь – бабы за своими мужиками на каторгу идут. Селятся рядом с тюрьмой и живут по пять лет, по десять. Настоящая любовь – она выше. Она терпит, и прощает, и не отпускает. А если начинает условия диктовать, пытаться перепилить тебя, под себя обстрогать – это не любовь уже. Если она тебя такого любит – зачем тебя менять? А если она тебя подо что-то меняет, под образ, который в голове у нее сложился, – значит, настоящего тебя она не любит и не любила никогда.
Мы чокаемся, выпиваем, а потом все вокруг сливается в радужное пятно.
Я иду в туалет и падаю, а Вернер смеется и поднимает меня, подныривая под мою руку и подставляя плечо, а потом они с Таей раздевают меня и бросают на диван в гостиной, укрыв сверху пледом. Я пытаюсь поблагодарить их и не могу, потому что язык отказывается подчиняться. Оставив бесполезные попытки преобразовать мысль в слово, я глупо улыбаюсь им и позволяю уложить себя, погружаясь в мешанину снов.
В одном из них дверь в гостиную открывается среди ночи, в комнату проскальзывает девушка и, откинув плед, ложится рядом со мной. И мы любим друг друга – не потому, что одержимы желанием и возбуждены, а просто – хочется поговорить. Хочется поделиться. Хочется быть с кем-то, кто понимает и прощает.
Утром я почти не чувствую похмелья – лишь в движениях проскальзывает медлительность и неуверенность. Тая мелькает в коридоре, и, когда она смотрит на меня, в глазах ее бегают чертики.
– При-вет! – Значит, это все-таки был не сон. Чтобы сказать мужчине вот такой «при-вет», надо иметь веские основания. – Тебе что на завтрак? Игорю я яичницу делаю с ветчиной, ты как?
И мы завтракаем. Я не успел даже умыться и почистить зубы, потому что одна ванная была занята Вернером, а во второй вчера сломался кран, и она осталась без горячей воды.
На легком плетеном столике уместился кофейник, сахар, джем, чашки, тарелка с тостами. Тая суетливо разбрасывает по тарелкам чуть пережаренную яичницу с ветчиной. Вернер отламывает от тоста небольшие кусочки, макает их в желток и перемалывает челюстями, запивая кофе и косясь в гостиную, где по телевизору идет обзор матчей английской премьер-лиги.
Я в семье.
– Я в ваши дела лезть не буду, – говорит Вернер в один из тех промежутков, когда Тая убегает на кухню, – получится у вас, не получится – сами разбирайтесь, не маленькие. Только поаккуратней с ней. Сам видишь, какая она… нервная.
Тая ходит окрыленная, Игорь не считает нужным возвращаться к вчерашней теме, и утро наполнено короткими бытовыми фразами, столкновениями на пути в ванную, обсуждением погоды и праздностью. Почему-то ситуация с Дудайтисом уже не кажется такой страшной. Поживем – увидим, спокойно и отстраненно решаю я.
На мобильном – четыре пропущенных звонка от Маши. Последний – в семь утра.
Приехав домой, застаю Машу спящей. Автоответчик пуст, как и моя голова, и я снова ложусь спать, чтобы избавиться от остаточных эманаций похмелья. Стянув одежду, влезаю под одеяло и прижимаюсь лицом к теплой спине спящей Маши. Господи, как я люблю ее.
Через пару часов телефонный звонок отрывает меня от подушки. Это Тая. Позвонила просто поговорить. Узнать, как я.
Девочка, у тебя нет на меня никаких прав, хочется сказать мне ей. Я читаю тебя, как букварь, – этот твой звонок «просто так» преследует цель пометить меня как свою собственность, но у тебя – смотри выше по тексту, там, где насчет твоих прав.
Я не то чтобы открыто хамлю Тае, я просто отвечаю на все вопросы буквально, отказываясь поддерживать ее игру. Да, в глубине души мне хочется довести ее. Болтая с Таей, я осматриваюсь, пытаясь понять: где же Маша? А потом вижу выведенное пальцем на пыльной пластмассовой крышке проигрывателя «ВСЕ». И я чувствую, что разваливаюсь на куски, потому что понимаю, это «ВСЕ» – окончательно.
Через два часа приезжает ее отец и пакует Машины вещи, а я с потерянным видом стою у стены, словно гость в собственном доме.
– Я не хочу тебя больше рядом с ней видеть. И она не хочет, – говорит Виктор, пока нанятые им помощники с лицами потомственных алкоголиков выносят ящики с Машкиными вещами и их шаги теряются внизу по лестнице.
– Она вернется. – Я пытаюсь придать голосу уверенность, но не преуспеваю, на последнем слове в горле что-то ломается, и я заканчиваю фразу подростковым фальцетом. Мне приходится прокашляться.
– Может быть. – Виктор пожимает плечами, и я впервые вижу в нем не бизнес-акулу, а усталого мужика за пятьдесят. – Просто ей очень тяжело сейчас. Никогда ее такой не видел. На хрена вам вместе быть, если вы только кровь друг из друга пьете?
– Откуда вы знаете? – Я понимаю его правоту, но мне обидно, что эти слова говорит чужой человек.
– В последнее время она домой плакать приезжала. Запрется с матерью, сидят – час, два, а выходит – глаза припухлые и красные. Они мне ничего не говорили, ни она, ни мать. Маша характером в нее, упертые обе, ты знаешь… Знали, что я тебя не люблю, и боялись… ну…
– Что вы мне сделаете что-то?
– Вроде того. Хотя я по-другому сейчас думать начал. Эти деньги, карьера, положение – ерунда. Будет голова на плечах и воля – все остальное придет. Главное, чтоб вы жили нормально. Я просто не могу больше видеть, как она плачет. Поэтому и прошу – оставь ее в покое. Как мужик мужика, в конце концов. Пожалуйста, Денис.
И он протягивает мне руку. Этот кремень стальной, несгибаемый, Машин папа.
Когда он уходит, я звоню ей. Она не берет трубку, потом отключает телефон.
Я приезжаю к ней в институт, но ее нет на занятиях. Уже несколько дней. Пытаюсь поговорить с ее подругами, но они смотрят на меня как на чумного и отделываются ничего не значащими короткими фразами. Я начинаю понимать, что вчерашний день был последним. Маша звонила в надежде на откровенный разговор, чтобы поставить все точки над «i», но не смогла меня найти. А за сегодняшнее утро обрубила все концы.
Я приезжаю к ней домой, но Маши нет и там. Она просчитывает и упреждает каждый мой шаг.
Мне больно. Я не могу присесть. Оказавшись дома, хожу из угла в угол и беспрестанно курю. В конце первой пачки начинает тошнить. Прокашлявшись, через силу, на характер, я закуриваю следующую сигарету. И все это время говорю с ней. Со стороны я похож на умалишенного – хожу по прокуренной комнате и, отчаянно жестикулируя, разговариваю сам с собой, представляя, что она стоит передо мной. В конце концов мой голод по Машке становится таким сильным, что я отправляю ей эсэмэски одну за другой – в них я обвиняю, прошу прощения, пытаюсь что-то наладить и тут же снова ломаю.
Ехать в клуб в таком состоянии я не могу и звоню Пуле, назначая его главным. Мой взгляд спотыкается о календарь, и я вижу, что завтрашний день обведен в кружок толстым фиолетовым маркером. Обводила Маша, это не мой цвет. Я медленно подхожу к календарю, молясь, чтобы помимо кружка там была еще какая-то информация. Что-то, что позволит мне увидеть Машу.
«Выст.». Красивым Машкиным почерком – свистящий обрывок слова. «Выст.». Как я мог забыть. Выставка молодых фотографов. На открытой площадке пафосного кафе в центре. Завтра она там будет. А значит, буду и я.
Чтобы уснуть, я использую методику, которой поделился со мной Терьер. Следует забить штакет чистым планом, не растабачивая, и выдуть все в одно рыло. Тут же, следом, полирнуть крепким алкоголем, обязательно залпом. Я шлифую траву ста граммами водки. А теперь очень важно угадать момент, вспоминаю я инструкции Терьера. Если передержишь и опоздаешь – начнешь блевать. Поэтому закури и, как только почувствуешь, что голова начинает кружиться, а затылок окунается в холодок – моментально падай, накрывайся одеялом и старайся ни о чем не думать. Если не обрыгаешься в первые пять минут – на шестую заснешь. А утром проснешься как огурчик.
Я сижу в парке напротив кафе, укрывшись под сенью липы от немилосердно палящего солнца. Мимо прогуливаются собачники и мамаши с колясками. Вывеска на двери кафе оповещает, что выставка откроется в пять, значит, до появления Маши осталось меньше часа. Мне кажется, я не высижу его. На языке теснятся миллионы фраз, которые я хочу сказать Маше, от невинных и покаянных до хлестких и грубых. Чтобы занять себя и успокоиться, я переключаюсь на работу. Несколько звонков – и где-то там, далеко от меня, начинается движение: Крот выдает шнырям два килограммовых кирпичика гашиша, отщипнув ногтем от каждого по грамму «чисто на вечер, пацаны»; а Пуля едет в Штеровку, чтобы снять выручку с двух тамошних реализаторов.
Звонит Дудайтис. Завтра он будет ждать меня в «Приволье», около четырех. Нужно пройти через задний двор в уже известный мне кабинет. Если майора не будет, я должен подождать.
У кафе останавливается Машкина «Пежо». Она без отца – первый плюс. Двое официантов помогают ей вынести из багажника какие-то свертки – видимо, снимки.
Я только сейчас понимаю, какая она красивая. Когда ты рядом с человеком, ты через какое-то время перестаешь видеть его красоту.
А сейчас я смотрю на нее через окно кафе и понимаю, что потерял.
Я сижу на лавочке еще около полутора часов, хотя это стоит мне больших трудов. Даю Маше время успокоиться. Появись я сразу, когда она поглощена расстановкой снимков, налаживанием света, еще черт-те чем – я только создам сумятицу.
Меня ожидает сюрприз. В Машином уголке, на половине из двадцати представленных снимков – я. Люди узнают меня.
Я встречаюсь с Машей взглядом. Диалог мы ведем молча. Чуть прищурившись и приподняв бровь, я прошу прощения. Маша в ответ холодно приподнимает свою – а разве что-то случилось?
Она первая подходит ко мне. Ее оружие – холод и безразличие. Маша общается со мной нарочито доброжелательно и снисходительно, словно я – лидер популярной лет двадцать назад группы, постаревший, обросший морщинами и животом и живущий только за счет участия в сборных концертах ретрорадиостанций.
У меня не получается пробить эту стену. Я пытаюсь извиняться, быстро выхожу из себя и начинаю обвинять Машу, шипеть на нее – а ей это, похоже, лишь доставляет удовольствие. О том, что она играет, я могу заключить лишь по тому, как она иногда закусывает нижнюю губу, словно пугаясь ответить. Она боится выйти со мной на прямой, откровенный разговор. Потому что чувствует в себе слабость. Потому что боится не устоять. Потому что все еще любит меня.
Это придает мне сил.
– Посмотри на меня. Не на свою обиду, не на нашу размолвку. Постарайся это перепрыгнуть. Стать выше. Ты ведь не случайно была со мной все это время, эти три года. За что-то ты держалась. Постарайся вспомнить – за что. Знаешь, я сейчас, перед встречей, постоянно думал, что я тебе скажу да как… А потом понял, что все мои слова идут не от любви. Я просто пытаюсь выиграть спор. Показать, что я прав. Поэтому я остановился и посмотрел на тебя. И я хочу сказать тебе только одно – я вижу девушку, которая три года назад вошла в мой клуб и в которую я сразу влюбился. Я прошу тебя, постарайся что-то рассмотреть во мне.
Маша молчит, не отводя глаз. Я проиграл. Я собираюсь уходить, когда она берет меня за руку и говорит:
– Денис, мы такие дураки.
И теплая волна облегчения омывает меня с головы до ног. Я громко выдыхаю и расслабляюсь, чувствуя себя так, словно с меня сняли чудовищную тяжесть.
– Иди сюда, Машка. – Я привлекаю Машу к себе и зарываюсь лицом в ее волосы.
– О нет… – отстраняется она.
– Что такое опять?
– Смотри. – Маша кивает в сторону группки молодежи, откуда на нас усиленно кидают косяки. – Сейчас тебя мучить начнут. Диджей Дэн! Поставь что-нибудь!
Перемена музыки этой вечеринке действительно не помешала бы. И мне сейчас хочется помиксовать, так что, скорее всего, я не откажу этим парням. Один из них, такой худой, что напоминает ожившую вешалку, идет в нашу сторону.
– Привет, Дэн. – Он немного наклоняет голову. Его тон полон почтения. – На секунду можно тебя?
– Ладно, здесь говори. – Я вижу, как парню неудобно отрывать меня от девушки, но не собираюсь облегчать ему задачу, пусть помучается.
И он говорит:
– Кокс есть? Мы бы взяли, грамма два.
Глаза Маши округляются, и она смотрит на меня с немым вопросом, но я не отвечаю на ее взгляд, а этот мудак продолжает:
– Бабки сразу. Если здесь нет, можно съездить, тачка под жопой. Просто лучше сейчас, нам надо вечер планировать…
– Слышь, иди отсюда, – тихо произношу я, стараясь не встречаться с Машей взглядом.
А этот идиот продолжает, невзирая на все мои знаки:
– Да ладно, не ломайся, все же знают, что ты банчишь. Я у тебя в «Орбите» еще брал, ты не помнишь просто.
Я хватаю его за ворот рубашки и дергаю к себе. Он не сразу понимает, что происходит, а когда понимает, улыбка сползает с его лица, а в глазах появляется испуг.
– Вали отсюда, дурачок. – Мой голос похож на шипение. – Вали отсюда, или я лицо тебе сломаю.
Гримаса страха пробегает по его лицу, как рябь по стоячей воде от внезапного порыва ветра.
– Все, все… – Он успокаивает меня поднятыми вверх ладонями.
Отходя к своим, он пытается отыграть назад и реабилитироваться перед собой за трусость. Покрутив пальцем у виска в мою сторону, он оборачивается к друзьям и театрально пожимает плечами.
Мы молчим.
– Господи, я-то какая дура… – шепчет Маша, приложив ладонь ко лбу.
– Маша, это…
– Да, да, да… – Она перебивает меня тихой скороговоркой, по-прежнему стараясь не смотреть в мою сторону, хоть мы и стоим, соприкасаясь локтями. – Конечно, это неправда, и ты сейчас мне все объяснишь, да? Денис, убирайся.
– Послушай меня…
– Убирайся из моей жизни! – кричит Маша, и тут же моя голова дергается от пощечины, в которую Маша вложила всю свою силу и гнев. Мне больно, а еще больнее становится от того, что на меня тяжелой давящей плитой опускается бесповоротность нашего разрыва.
Разговоры вокруг разом обрываются, и нас окутывает пелена чужого внимания.
Маша выбегает через кафе на улицу, я иду за ней и пытаюсь поймать ее за локоть, а Маша, невозмутимая, холодная, ироничная Маша ломается в плаче и ревет – некрасиво, с истерикой, с ниткой слюны изо рта, и мне становится ужасно гадко оттого, что я понимаю: причина этих слез – я сам. Я стал самой большой бедой для любимого человека. Маша без сил опускается на стул у выхода, а я останавливаю рукой рванувшего было к нам официанта. Опустившись перед Машей на колено, я пытаюсь взять ее руку в свою.
– Уйди, Денис, – теперь она говорит едва слышно: чтобы понять, мне приходится склониться к самым ее губам, – пожалуйста, уходи. Я умираю, когда ты рядом, я тебя ненавижу, сколько можно уже. Уйди, не ври мне больше.
Мне нечего сказать Маше. Она поднимается и неверной походкой выходит на улицу. Она перестала плакать, но не заботится даже о том, чтобы вытереть слезы – сквозь стекло кофейни я вижу, как двое прохожих – пожилая пара – оглядываются на девушку, и мужчина замедляет шаг, чтобы помочь, а жена тянет его вперед.
Маша садится в машину и сидит без движения, уставившись пустым взглядом перед собой.
Мне нечего терять. Я иду на улицу, становлюсь перед машиной и упираю руки в капот, понимая, что если сейчас отпущу ее, то буду жалеть об этом всю жизнь, до самой последней секунды.
– Я все расскажу тебе, – говорю я, – а ты меня послушаешь. Ты можешь решать потом что угодно, и если ты скажешь – я уйду, но ты должна меня выслушать. Я все расскажу тебе.
И как только я произношу эти слова, сам еще не до конца понимая их смысл, мне становится легче.
Давным-давно, сто тысяч лет, или пять месяцев назад, мы часто выезжали утром на берег. Возвращаясь из клуба, мы нарочно выбирали долгий маршрут через мост. Отогнав машину на самый краешек дороги, чтобы оставалась возможность ее объехать, мы стояли и смотрели на реку. Тогда я думал, что каждый день стоит проживать ради утра. Как давно это было.
И сейчас мы тоже стоим здесь. Утро холодное, меня бьет дрожь, а Маша холода словно не замечает. Мой рассказ растянулся почти на всю ночь, и я обрисовал Маше полную картину моей жизни в последние полгода, умолчав только об одной детали.
– Ты спал с ней? – спрашивает Маша после долгого молчания.
– С кем?.. – Я действительно не сразу понимаю, о чем идет речь. – Господи, Маша…
– Ответь мне – ты спал с ней? Ты спал с Таей?
– Нет! Ну конечно же нет…
– Тогда мы уезжаем.
– Что? Как, куда уезжаем, о чем ты…
– Немедленно. Сегодня, сейчас. Садимся на поезд и уезжаем в Москву.
– Маша, Маша. – Я пытаюсь успокоить ее. – Послушай себя, что ты говоришь. Ты Вернера не знаешь, он найдет везде…
– Да, – спокойно отвечает Маша, – ты прав, я его не знаю. И знать не хочу. Кто он такой? Он… мелочь, он дрянь, я не вижу его вообще. Денис, если ты меня любишь, мы уедем.
– А ты? – спрашиваю я.
– Если бы я тебя не любила, я бы даже не предлагала.
Все оказывается очень просто.
Мы разъезжаемся, а в половине третьего Машка сбрасывает мне эсэмэску, в которой сообщает, что купила два билета на проходящий Ростов-Москва, а это значит, что через восемнадцать часов мы растворимся с толпой, запрудившей площадь Казанского вокзала.
Я начинаю баловаться – восемнадцать часов – это сколько? Отнимаю восемнадцать часов от цифры на часах, и получается, что до той минуты, когда мы окажемся в Москве, пройдет столько же времени, сколько отделяет меня сейчас от момента, когда я зашел на Машину выставку. Всего ничего.
Нужно будет решить кучу проблем. Как-то поговорить с мамой. Дать знать Пуле и Кроту. Но сейчас все они кажутся мне разрешимыми, в то время как раньше ставили крест на попытке вырваться. Если мы будем вместе с Машей – мы со всем справимся.
Я вскрываю доски пола и извлекаю тайник. Времени и желания пересчитывать деньги нет – по моим ощущениям, здесь примерно пятьдесят тысяч долларов. Еще тридцать лежат на работе, в сейфе, еще десятка заныкана в лесу, в тайнике, плюс десятка на карточке. Я мысленно прощаюсь с тридцаткой в клубе – я не поеду туда, и с сожалением осознаю, что придется бросить и совсем новый «Пассат», с управлением которого я еще не вполне освоился.
Хватает одной спортивной сумки, чтобы собрать предыдущие двадцать четыре года моей жизни. Они уместились. Еще и место остается.
Я бросаю машину на обочине загородной дороги и ухожу в лес. Полчаса мне хватает, чтобы отрыть тайник с припрятанными в нем десяткой баксов, поддельным паспортом и стволом. Тайник я завел по настоянию Вернера. Ствол и паспорт решаю оставить здесь.
До начала новой жизни остается семнадцать часов.
Я бросаю машину на вокзальной стоянке и оставляю ключ в замке зажигания. Вот повезет кому-то. От этой мысли мне становится смешно.
Я выхожу из машины, перебрасываю через плечо сумку, закуриваю и шагаю навстречу новой жизни. На первое время денег хватит, а дальше я начну работать и рвать на шее жилы, чтобы обеспечить Машке нормальную жизнь. Мы будем просыпаться вместе и любить друг друга. Как раньше. И больше не будет тайн и недомолвок.
Я вхожу в здание вокзала и, сориентировавшись по указателям, направляюсь к выходу на перрон. Останавливаюсь у киоска, чтобы купить жвачку – Машке нравится двойная мята.
Радость распирает меня, и я даже кокетничаю с молодой девчонкой, продавщицей всякой дорожной мелочи.
– Сейчас, сейчас! – ору я в трубку на Машин звонок, и бегу к выходу, и уже вижу Машин силуэт у поезда, как вдруг чьи-то пальцы смыкаются у меня на локте.
– Денис, ты дурачок, что ли?
– Как… как вы меня нашли?
– Да какая тебе разница, как я тебя нашел? – Дудайтис крутит в руках кривую сигарету и с тоской смотрит на запрещающий курение знак. – Поставил службу за тобой, как… Давай отойдем, нечего маячить здесь под ногами.
Мы стоим у столика кафетерия в углу, перед самым выходом. Это едва ли не единственное на всем вокзале место, где можно курить. Чем Дудайтис и пользуется. Видимо, он ждал меня давно, потому что успел соскучиться по табаку: первую сигарету выкуривает жадно, в несколько длинных затяжек, и только на второй успокаивается.
– Ты понимаешь, что никуда вы не уедете? Вас Вернер в купе порежет, как свиней.
– Он не узнает…
– Как не узнает, Денис? Как не узнает, если я ему сейчас, прямо отсюда, позвоню и все скажу! Вот, мальчик Денис, к тебе засланный, сестру твою трахнувший по моему заданию, вот он в Москву сейчас удирает. Ты понимаешь, что он с тобой сделает?
– Отпустите меня!
– Да я тебя не держу, чего ты орешь? Иди, если хочешь.
Я стою. Ноги словно приросли к грязному линолеуму кафетерия. К нам подходит делегат от группки вокзальных алкашей и, прокашлявшись, просит помочь поправиться. Дудайтис коротко мотает мне головой – дай, и я послушно лезу в карман за бумажником.
– Я одного не могу понять, Денис, – шепотом продолжает майор, когда алкаш отходит. – Ну, ладно, хочешь ты потеряться, свалить, у всех бывает. Но она-то при чем здесь? Ты понимаешь, что ты ей приговор подписываешь? Ты труп, Денис, даже если Вернер тебя не найдет. Тебе теперь всю жизнь скрываться придется – от него, от меня. А это знаешь, что такое? Это поддельные документы, жизнь по съемным квартирам, ни детей не заведешь, ни семьи. Она же баба твоя, что ж ты жизнью ее не дорожишь, что ты ее подставляешь и в говно тянешь вместе с собой? Не могу, не могу понять! Объясни мне, пожалуйста!
– Я люблю ее.
– Так вот если ты ее любишь, Денис, ты имя ее забудешь. Потому что ты со всех сторон в говне, мальчик. И рядом с тобой воняет. Вернер воняет, я воняю. А она из другого мира. Даже если не убьют вас, ты все равно ей всю жизнь испохабишь. Она это через пару лет поймет и все равно от тебя уйдет. А не уйдет – в тебя вгрызется и мстить будет, и тогда – лучше бы ушла. Вы лет через пять в озлобленных уродов превратитесь, поверь мне, я такие семьи видел! Будь ты мужиком, отпусти ее!
Ничто не мешает мне пройти мимо майора. Я уверен, что он не будет меня преследовать. Да и Вернеру скорее всего не позвонит – у них не те отношения.
Равнодушный голос справочной сообщает, что до отправления моего поезда осталось пять минут. Надрывается мобильный. Дудайтис с преувеличенным безразличием изучает листок с меню.
Я подношу трубку к уху и говорю севшим от трусости слабым голосом:
– Я никуда не еду, богатая девочка. Живи сама как хочешь.
Теперь я понимаю, что потерял ее навсегда. И чувство ужасающей потери проходит наждаком по нервам. Но где-то в глубине души, глубоко настолько, что самому себе страшно порой признаться в том, что ты там видишь, я замечаю мелькнувшую мимолетно тень облегчения.
Маша садится в поезд, и он трогается. По привычке я выбираю трек, наиболее соответствующий настроению момента. Пусть это будет pac с «Don’t you trust me».
– Тебе харчо или суп-лапшу? – спрашивает Дудайтис. – Возьми харчо, они здесь хорошо готовят.
Когда вечером я прихожу в клуб, у меня приподнятое настроение. Приподнятое настолько, что я собственноручно пизжу случайно забредшего в клуб безумного колхозника, вздумавшего торговать здесь травой.
Потом устраиваю тягучий, жесткий нон-стоп-сет, чего не делал уже давно, и довожу толпу до экстатического состояния. Я выплескиваю в них всю мою усталость, весь мой страх.
Вернувшись домой, записываю на автоответчик короткое «Идите все на хуй» и падаю в кровать.
Долго реву в подушку. Отревевшись, долго смеюсь.
Ситуация упростилась. Стало легче.
ПУЛЯ
Бабок много. Реально много. Для Крота это проблема. Он уверяет, что, чем больше у тебя бабок, тем беднее ты становишься. Увеличивается количество соблазнов, растут амбиции, и ты все равно остаешься бедным мысленно – ты точно так же не можешь позволить себе вещи уровнем выше.
Не в моем случае.
Я не поддаюсь соблазнам. Я ответственен за Симку и родителей.
Мы с Симкой никогда не возвращаемся к разговору о том, что будет дальше, но вопрос этот постоянно висит в воздухе, мы чувствуем его присутствие. Что будет дальше? Я ничего не говорил Симке о своем решении. Пока незачем.
В четверг я отпрашиваюсь у Дэна, и мы втроем – матушка, Симка и я отвозим батю в клинику детоксикации. Трехнедельное лечение плюс чистка организма обойдется нам в пять косарей, но это тот случай, когда нельзя экономить.
На прошлой неделе, в среду, мать позвонила мне среди ночи и тонким, срывающимся голосом попросила поскорее приехать. Симка не отпустила меня одного, и через двадцать минут мы уже подъезжали к пятакам.
У подъезда дома стояла «скорая». Мать была не в себе, с врачом говорил я.
Ему нельзя пить. В общем, никому нельзя, но ему вдвойне. Втройне, если хотите. В этот раз мы его откачали, но в следующий – или через один – этого может и не случиться.
Он часто пьет? – Врач курил и равнодушно смотрел на меня.