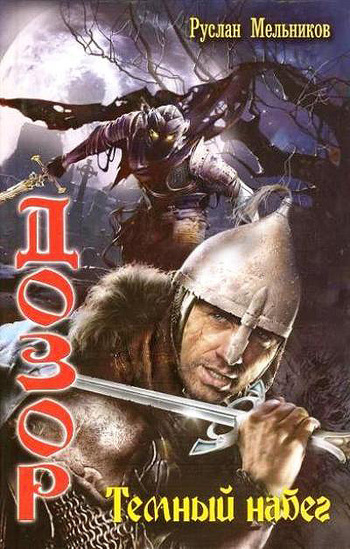Красный сион Мелихов Александр

I
Бенцион Шамир далеко не сразу признал свое поражение – признал, что он, классик израильской прозы и драматургии, не может найти нужных слов, чтоб хотя бы начать такую бесхитростную работу, как написание воспоминаний о своей же собственной жизни. Для того мира, каким он представал маленькому Бенци в первые его годы на земле, никаких слов и не требовалось – все вокруг было не просто единственным в своем роде, но даже единственно возможным. Единственно возможный Папа, единственно возможная Мама, единственно возможные сестры – смешливая Фаня и задумчивая Рахиль, единственно возможный брат Шимон, носивший за свое бесстрашие единственно возможное прозвище Казак, единственно возможный дом с коричневым овальным столом под переливающейся хрустальной люстрой, хрустальными книжными шкафами и черным резным комодом, на котором вечно поблескивали бронзовые подсвечники на шестиконечных звездах, образованных наложением двух треугольников. Шестиконечные звезды назывались могендовидами и означали, что когда-нибудь Папа, Мама, Фаня, Рахиль, Шимон и Бенци отправятся на свою древнюю родину к какому-то сказочному Сио…
А вот и нет, Сион не излучал никакой сказочности – Папа всегда говорил о будущем переезде в Палестину, в Эрец Исраэль, так же буднично, как если бы речь шла о переезде на новую квартиру в городе столь же обыкновенном, как какая-нибудь Вена, Прага, Париж, где Папа и Мама когда-то жили и учились, – интересных, но уже, конечно, не таких единственно возможных, как их миленький Билограй, Билограйчик – не большой, не маленький, а именно единственно возможный. И обращенный к младшему любимому сынишке всеми почитаемого доктора самым дружелюбным из всех своих лиц – освещавшихся при виде маленького Бенци почти такой же приязнью и надеждой, как и при лицезрении видавшего виды кожаного докторского саквояжика (одни взирали на саквояжик с надеждой, что он им поможет, другие – что он им не понадобится), приязнью и надеждой, немедленно порождавших страстное желание угостить воспитанного мальчугана в коротеньких штанишках и с бантиком на шее каким-нибудь заветным лакомством, вроде селедочки с луком, а то и фрикаделек из мацы, жаренных с яйцом на каком-то особенном пахучем масле, какого дома было не допроситься у кухарки.
В последнее время в разговорах об отъезде зазвучали, правда почему-то вполголоса, и другие страны – Америка, Канада, даже Австралия, но что-то неприятное было с ними связано, все время всплывало какое-то тревожное слово: виза, виза, виза, виза…
Как все дети, Бенци, в ту неправдоподобную пору еще не Шамир, а всего лишь Давидан, тянулся не к комфорту, а к дружелюбию, не к рассудительности, а к экстравагантности и потому постоянно забредал от центральных домов Билограя к окраинным домам и домикам у безымянной речушки, впоследствии ненадолго обретшей имя лишь благодаря упоминанию в приложениях к пакту Молотова – Риббентропа. И что из того, что сегодня Бенцион Шамир назвал бы билограйские дома, даже с красными черепичными крышами, домиками, а домики, крытые серой дранкой, – хибарами! Что из того, что стоячая речушка больше походила на канаву, затянутую бьющей в глаза среди сизой золы импровизированных помоек зеленью ряски, которую с неиссякаемым аппетитом поглощали утки, стучащие плоскими клювами, словно швейные машинки в прибрежных домишках. Все эти домики и домишки с самодельной лоснящейся мебелью, намного более интересной, чем домашняя покупная, – все это было первое и единственное, а потому лучшее в мире.
Не считая, конечно, расцветающего за невидимыми пашнями и заводами Страны Советов сказочного Красного Сиона, чье настоящее имя закадычный друг маленького Бенци сапожник Берл и сам каждый раз выговаривал немного по-новому – то Берибиджан, то Борибиджан, – чтобы спохватиться и настойчиво пригвоздить по складам: Би-ро-би-джан. Каморка Берла была особенно уютна после холодноватой просторности докторского дома – она была битком набита через много что прошедшими башмаками и сапогами, самодельными, полусъеденными ножиками, обретшими новую жизнь баночками, замысловатыми обрезками кожи, деревянными человеческими ступнями, – в самом же центре восставала из чурбака перевернутая чугунная нога, на которую Берл насаживал очередной башмак и, сгорбившись, самозабвенно вколачивал в его подметку и каблук гвоздик за гвоздиком, выхватывая их изо рта, словно жевал какую-то нескончаемую костлявую рыбу.
– Твой папа хороший человек, настоящий буржуй никогда бы не поехал из Варшавы в такую дыру, – добив очередную жертву, отирал руки Берл о свой кожаный передник, такой же желтый и растрескавшийся, как Папин саквояж, и с наслаждением распрямлялся.
И тут обнаруживалось, что он горбат, горбат, как его нос крючком – самым настоящим крючком, за который, будь Берл куклой, его можно было бы уверенно зацепить и подвесить хотя бы и за краешек его некрашеного стола.
– Твой папа очень хороший человек, с бедных евреев он старается ничего не брать. А для настоящего буржуя что еврей, что татарин, – повторял Берл после приличествующей паузы, отдающей должное душевным качествам Бенциного папы. – Я видел его отца – настоящий варшавский космополит. Его дом там, где хорошо его семье. Твой папа другой, ему нужен дом не только для своих детей, но и для всех евреев. Как и мне. Но мне легче, у меня нет детей, есть только братья. Все бедные люди всех народов братья.
– А почему ты тогда с ними все время ругаешься? – любопытствовал Бенци и получал гневный ответ: – Потому что они никак не хотят понять, что все мы братья. И у нас есть общий отец – товарищ Сталин! Он для нас такой же добрый, как для тебя твой папа. И все-таки как друг я должен открыть тебе глаза: твой папа находится в плену буржуазных предрассудков. – Берл разводил руками, пронзительно кося из-под начесанных на черные глаза косматых бровей, тоже черных, как сапожная вакса, несмотря на заметную примесь серебра.
Дальнейшее Бенци мог бы свободно излагать и сам: сионисты не понимают, что никакого единого еврейского народа нет, нет никакой единой Земли обетованной – все это буржуазная пропаганда, у трудящихся и у эксплуататоров разные родины, и родина еврейских трудящихся лежит не на Ближнем, а на Дальнем Востоке: там у самого Тихого океана, на самом краешке Страны Советов строится настоящий, пролетарский Красный Сион.
Там никто не попрекнет еврея тем, что он еврей, там люди всех национальностей живут по-братски и даже имеют право отделиться в самостоятельное государство, только это никому не нужно, потому что буржуев там нет, а пролетариям всех стран делить совершенно нечего.
– Зачем же тогда и устраивать какое-то специальное еврейское государство, если всем и так хорошо? – спрашивал подававший большие надежды маленький Бенци и получал прочувствованный ответ из-под загнутого носа: – А это похоже на то, как люди живут одной семьей, но каждый в своей комнате. В одной комнате говорят по-русски, в другой – по-еврейски, в третьей – по-татарски… Кому нравится жить среди евреев, говорить по-еврейски, петь еврейские песни – пожалуйста! А кому нравится жить среди татар – пожалуйста, пускай идет к татарам. Есть евреи, которые становятся русскими, а есть русские, которые становятся евреями, – попадешь в Бери… в Бори… в Биробиджан – сам увидишь!
Все это были не пустые фантазии. Какими-то опасными таинственными путями Берл получал регулярные весточки из тихоокеанского Красного Сиона.
– Только никому! Слышишь – даже папе! Если узнают эти фашисты, пилсудчики – все, конец! Пытки, тюрьма!
Берл прижимал к голубым змеящимся губам черный кривой палец, с заговорщицкими ужимками, которым чрезвычайно шел его горб, запирал дверь, специальной тряпкой завешивал маленькое тусклое стекло без переплета и зажигал керосиновую лампу. Затем, горбясь еще сильнее, проворно шаркал к завешенному окошку: там на узеньком подоконничке теснилось деревянное корытце с землей, из которой торчали табачные стебли пересохшего укропа.
– Богатые выращивают розы, а мы укроп! – с сатанинской ухмылкой провозглашал горбун и, забрав в жменю потрескивающие стебли, извлекал их из корытца вместе с окаменелой землей.
На дне корытца под старенькой клеенкой плющились распадающиеся газеты и брошюрки. Берл натягивал очки без дужек, заарканив двумя бечевочками свои хрящеватые уши, и благоговейно раскрывал ворсистую тетрадочку, сизую, как зола у билограйской речушки, и показывал ряды каких-то серых затылков, размытых туманом сказочности; невидимые лица были обращены в сторону такого же смазанного старичка с узенькой бородкой: видишь, почтительно тыкал в него Берл, это Калинин зачитывает декларацию об открытии Еврейской автономной области – у сионистов декларация Бальфура, а у нас декларация Калинина, это второй человек после Сталина, видишь, рабочий, а бородка, как у адвоката, там на это не смотрят – пожалуйста! Сталин – грузин, сын сапожника, Калинин – русский, сын крестьянина, Каганович – еврей, сын такого же голодранца, как я, а все – советские люди! Читай, читай, все люди должны выучить русский язык за то, что им разговаривал Ленин!
Смышленый Бенци уже и впрямь тоже неплохо читал по-русски, но то ли еще ожидало их впереди: русский язык скоро должен был сделаться языком объединившихся пролетариев всех стран, Калинин уже сейчас поверх серых голов обращался прямо к ним. Читай, читай, теребил Берл Бенчика, однако тут же его перебивал, начинал читать сам – уже практически наизусть, все громче и громче, забывая, что под дверью могут подслушивать пилсудчики.
– Видишь, видишь, писатель Бергельсон спрашивает, какую помощь Биробиджану могут оказать еврейские рабочие капиталистических стран, это прямо про нас!
Однако Калинин на заграницу больших надежд, похоже, не возлагал: евреи из-за границы могли бы разве что присоединиться к советским евреям из маленьких городков и местечек, а то в больших городах евреи за мировыми пролетарскими интересами быстро забывают о еврейских.
– Но лет через десять Бори… Бери… Биробиджан будет важнейшим, если не единственным, хранителем еврейской социалистической национальной культуры!
Наверняка сам Калинин произносил свое пророчество далеко не так торжественно, как Берл, всегда в этом месте поднимавший к низенькому потолку свой тоже горбатый пропитанный ваксой палец.
– Значит, в сорок четвертом году – в Бери… Бори… в Биробиджане, всемирной столице трудящегося еврейства!
Берл впадал в транс и читал уже окончательно на память, раскачиваясь, будто за чтением Торы.
Пусть негодные уходят, не всякий способен из местечкового, физически истрепанного человека превратиться в отважного, стойкого «колонизатора». Надо для этого переродиться. А что перерождает? Перерождает суровая, почти первобытная, природа области и большой творческий труд, который отсталому, слабому человеку не по плечам. Человек должен там быть крепким – он должен уметь сопротивляться и добровольно сносить большие трудности. Если остающееся первое поколение «колонизаторов» выдержит, то второе поколение будет крепкое. Это будут настоящие «советские» евреи, в общем такие, каких в мире не найдешь. Они должны, как первые американские ковбои, завоевывать природу, но американские ковбои были хищниками по отношению к природе и врагами трудовому человеку, а у наших трудящихся масс превалируют общественные инстинкты, которые в десятки раз более сильны. Там каждый человек работал отдельно только для себя, а у нас коллективно.
Берл приостанавливался, чтобы перевести дух, но не успевал Бенци вообразить горбатого Берла верхом на мустанге, как его уносило новое пророчество: биробиджанская еврейская национальность не будет национальностью с чертами местечковых евреев Польши, Литвы, Белоруссии, даже Украины, потому что из нее вырабатываются сейчас социалистические «колонизаторы» свободной, богатой земли с большими кулаками и крепкими зубами, которые будут родоначальниками обновленной сильной национальности в составе семьи советских народов.
– Бори… Бери… Биробиджан (ты слышишь?) мы рассматриваем (они рассматривают!) как еврейское национальное государство! Потому что евреи – это очень верная и заслужившая это своим прошлым советская национальность! Верная! А вот Николай выселял нас из фронтовой полосы только за то, что мы евреи! Ты понимаешь? Мы сделаемся такими же, как все, будем шахтерами, пахарями, солдатами – как русские, как татары!
Судьба татар в Советском Союзе представлялась Берлу особенно завидной: бывшие завоеватели, а никто их этим не попрекает – трудящиеся не отвечают за преступления угнетателей!
Но обрати внимание, что говорит товарищ Шпрах из газеты «Дер Эмес» – дер Эмес, Правда! Реакционная еврейская буржуазия всполошилась, Еврейская автономная область стала им поперек горла. Еврейские буржуазные газеты, бундовские и другие социал-фашистские газеты в Америке стараются смазать это дело. Это объясняется тем, что это постановление уже сейчас произвело громаднейшее впечатление среди еврейских рабочих масс, а также и еврейской мелкой буржуазии капиталистических стран, нечего уже говорить о такой стране, как Польша, но и в Америке и ряде других стран. Газеты, которые сколько-нибудь нейтрально относятся к Советскому Союзу, не говоря уже о братских газетах, сейчас пишут о том, что еврейские трудящиеся не только приветствуют это преобразование, ибо оно показывает им, какой нужен путь для освобождения евреев, показывает общий пример разрешения национального вопроса, но часто прямо ставят вопрос – нельзя ли как-нибудь самим перекочевать в Еврейскую область, чтобы принять участие в этом великом деле.
Товарищ Шпрах решался даже шутить перед столь высоким человеком: он рассказал про письмо какого-то польского еврея, переехавшего в Палестину: у него там квартира с двумя балконами – один с видом на Иерусалим, другой с видом на Иордан и только нет третьего – с видом на пропитание. А в Биробиджане хоть и нет первых двух, зато третий обеспечен.
С плохой квартирой человек как-то мирится, главное – еда, собственная продовольственная база, соглашался Калинин. Даже сквозь трубный глас Берла пробивались его домашние интонации.
Вот тут говорили, рассуждал этот великий человек, что за пять лет в Биробиджане больше построили, чем за пятьдесят лет в Палестине. Повторяю, я рассматриваю Биробиджан с точки зрения больших перспектив, что у евреев-пролетариев есть свое отечество – СССР и свое национальное государство, они стали нацией.
«Я не думаю, чтобы вся еврейская буржуазия за границей была бы очень недовольна. Я думаю, что все-таки известная часть ее сочувственно относится. Только злейшие враги советского строя относятся к этому враждебно. Все-таки среди еврейского населения фашистских элементов сравнительно меньше. Повторяю, насколько я себе представляю, некоторая часть еврейской буржуазии все-таки положительно относится. Потому что трудящееся еврейство относится сочувственно».
Смазанные серые затылки слушали очень внимательно, а товарищ Бранин с Автозавода пообещал обо всем рассказать рабочим.
– Я десять лет, – сказал товарищ Бранин, – работаю на заводе им т Сталина. Сейчас мы взяли переходящее Красное знамя. Промфинплан наша кузница выполнила на три дня раньше срока. Приветствую вас, дорогой Михаил Иванович. Я очень рад. Просим к нам на завод приехать.
Какие сказочные слова: ходячее Красное знамя, промфинплан…
– И ведь будь уверен – приехал! – торжествовал Берл. – Ты думаешь, какой-нибудь царский министр поехал бы к рабочим?!. Да у него бы от спеси печенка лопнула! И ты думаешь, какая-нибудь еще газета будет столько писать про еврейских рабочих и еврейских мужиков? Колхозников, – почтительно уточнял Берл. – Не про банкиров, не про заводчиков, министров, артистов, а про рабочих и колхозников? Тракторист Певзнер, пилот Цукерман, доярка Колдобская…
Имена звучали как сладостная музыка.
Натягивая на горбу ветхую серую ткань, Берл бережно раскладывал на своей железной койке распадающиеся части желтой ворсистой газеты.
– «Биробиджанская звезда»… – смаковал Берл ее название и тут же раскладывал ее идишистскую сестру: – «Биробиджанер штерн».
Обе звезды сияли из-под призыва, каждая на своем языке: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
– Знаешь, что еще мешает бедным соединиться? – прожигал Берл маленького Бенци сверкающей сапожной ваксой своих глазищ. – Семья! Все хотят устроить своих детишек и забывают общепролетарское дело. Мне легче, у меня никого не осталось. Трудящиеся всего мира моя семья. Даже мои мелкобуржуазные соседи – тоже мои родственники, только этого еще не знают. Не доросли. Но я их все равно снял на память – на свадьбе у сына Баруха-косого, из своих денег заплатил фотографу!
Под серым тюфяком, сплющенным, как собачья подстилка, почти разрывая горбом свою потертую блузу, Берл нашаривал мятый, будто жеваный, тусклый портсигар и извлекал из него картонную фотографию.
– Когда доберусь до Бори… Бери… Биробиджана, портсигар сдам в фонд Осоавиахима – это старое серебро, единственная ценная вещь во всем нашем роду! А фотографию отправлю товарищу Сталину. Видишь, что здесь написано? Да не здесь, на обороте! Читай, ты же умеешь читать по-русски! Это по-русски, просто у меня такой почерк, я же в лицеях не обучался: «Товарищу Сталину от благодарных евреев-трудящихся всего мира!»
Берл зачитывал заветное излияние своего сердца с самым что ни на есть разнеженным видом. И все-таки, если бы какой-то русский человек увидел их в эту минуту – черно-седого косматого горбуна Берла и тем-нокудрого херувимчика Бенци, – ему бы непременно вспомнилась пословица: связался черт с младенцем.
– А соседи знают? Что ты собираешься их отправить товарищу Сталину?
– Зачем им знать? Они еще не доросли. Но ничего, дорастут – сами спасибо скажут!
Евреи-трудящиеся действительно глядели довольно бодро – свадьба как-никак. Надо же, думали, что смотрят в стеклянный вылупленный глаз, а оказалось, будут смотреть в глаза самому Сталину!.. Бенци видел Сталина в обеих биробиджанских звездах – он был очень умный, но добрый и красивый, с усами почти такими же пышными, как у Пилсудского, только намного более аккуратными. Пилсудский и не захотел бы смотреть евреям в глаза. Бенци лишь через много лет пришло в голову, что на фотографии Берла нет ни хасидов с их витыми пейсами, свисающими из-под черных шляп, ни их жен в шелковых париках; Берла это тоже не смущало – видимо, он считал столь отсталую часть своего народа недостойной быть представителями трудящегося еврейства.
– Хорошо бы нас всех пропечатать в «Биробиджанской звезде»… – с сатанинским видом отдавался Берл на волю сладостных мечтаний (он вольно горбился в такие минуты, когда другие распрямляются). – Как бы туда переправить?.. Но, боюсь, пилсудчики не простят: как же, ихние, польские евреи – и в своей советской газете!..
«Биробиджанская звезда» и впрямь светила всем без разбора – и Фруминым, и Петиным, и евреям, и русским, – очевидно, тем, кто пожелал перейти в евреи. Но в самых высоких звонких сферах – обком, исполком – парили Хавкин и Либерберг, в один нежданный момент, правда, превратившиеся в главарей банды Хавкина – Либерберга, троцкистско-зиновьев-ского охвостья… Правильно, непримиримо сдвигал черные с серебром пучки своих бровей Берл и пригибался, как зубр с могучим загривком, евреи должны первыми изгонять предателей из своих рядов, чтобы никто не мог нас упрекнуть, что мы ставим национальную солидарность выше общепролетарской. Тем более что на смену разоблаченным врагам народа пришел Гирш Сухарев, еще, видно, не определившийся, куда ему пойти – в евреи или в русские. И все-таки Бенци было грустно узнавать, как много даже среди счастливых биробиджанских евреев тайных и открытых саботажников, дезорганизаторов, бракоделов, прогульщиков, головотяпов, антимеханизаторов, об-ратников, рвачей… Летунов… Летунам не место на социалистическом производстве, провозгласили стахановцы Блюма Ландман и Пинхас Бляхман, мы закрепимся на нашей любимой фабрике пожизненно. А студент Шраер и в самом деле отправился летать в аэроклуб и даже совершил прыжок с парашютом: воздух с легким свистом принял его в свои ласковые объятия. А другой студент, Школьник, отдал свою кровь товарищу, получившему ожоги, спасая из горящего техникума наглядные пособия. Школьник предлагал и кожу, но у друга хватило своей.
Дружба – вот что манило сильнее всего! В Биробиджане все дружили со всеми. Лыжники дружили с танкистами, флейтисты дружили с чекистами, смолокуры – с лесорубами, и даже в Театре имени Кагановича артисты дружно боролись с троцкистско-бухаринскими выродками: худую траву с поля вон! Оно и правда, гибнет племенная птица, пора вмешаться прокурору, – и все же Бенци не очень нравилось, когда ругаются, ему было намного приятнее, когда дружат и сочувствуют.
Его охватывала непривычная серьезность, когда «Биробиджанская звезда» своими лучами высвечивала, как фашистские изверги сеют смерть на полях Китая, Испании, Абиссинии, расправляются с беззащитным еврейским населением фашистской Германии; с ужасом и тревогой всматривались трудящиеся капиталистических стран в свое будущее, несущее им новое угнетение и новую кабалу (это было совсем не то, что каббала!), и единственной надеждой для них оставался свет Страны Советов, живущей радостной трудовой жизнью во славу и счастье всего трудового человечества!
Но в остальном-то мире что творилось! В Германии от голода ели собачье мясо, американские безработные продавали глаза, отчаявшиеся женщины убивали по пять детей разом и только уже потом себя, в японской тюрьме заключенных связывали друг с другом проволокой, продетой сквозь отверстия в щеках, а церковь давно сделалась прислужницей фашистов…
Спасения и правда можно было ждать только от Страны Советов! Понятно, почему молодежь Еврейской автономной области вместе с молодежью всей страны так радовалась отмене навязанных ей льгот, отсрочек от военной службы, мешающих ей поскорее стать в ряды защитников социалистической родины, исполнить свой священный долг.
Бенци очень нравилось слово «священный» – уж если Бога нет, пусть хотя бы что-нибудь священное останется! И волшебный философский камень никуда не делся: философский камень большевиков – сталинская Конституция. «Детище ленинско-сталинской национальной политики, – мурлыкающим голосом перечитывал Берл одно из многих имен Биробиджана. – Прообраз Всемирной Социалистической Республики».
Нет, Бенци определенно больше нравилось читать про друзей, чем про врагов. Ну, относится еврейская буржуазия с презрением к идишу – языку еврейской бедноты, – ну и пускай относится. А мы будем себе спокойненько заниматься боронованием зяби, набираться опыта на пока еще неопытной опытной станции, вместе с гольдами охотиться на лосей, тигров и белок – не пренебрегая капканами, как это делают некоторые легкомысленные удэге.
И кто был непрестанно поглощен всеми этими невероятно увлекательными делами, кому Бенци завидовал от всей души, кого он всегда перечитывал с упоением, – это был Мейлех Терлецкий. Вернее, в «Биробиджанской звезде» он подписывался «Михаил», но Берл все равно называл его Мейлехом, потому что так тот подписывался в «Биробиджанер штерн». Это, конечно, все равно, где как удобнее, так и можно зваться, – с русскими удобнее быть Михаилом, с евреями – Мейлехом. «Но мы-то с тобой евреи?..» – напористо выгибал спину Берл, хотя это и так было ясно.
Мейлех Терлецкий с евреями был евреем, с гольдами – гольдом, с нанайцами – нанайцем (в отличие от самого Бенци, по-видимому, прекрасно понимая разницу между теми и другими), с русскими – русским, с татарами – татарином, с трактористами – трактористом, с рыбаками – рыбаком, с пограничниками – пограничником. Мейлех Терлецкий воспевал всех и сам со всеми в нужную минуту всегда оказывался рядом. Если в поле выходили комбайны – первым за штурвалом сидел Мейлех Терлецкий; если рыбаки забрасывали сеть в величавые амурские волны – самая большая кетина попадала в руки Мейлеха Терлецкого; если пограничный наряд Энской погранзаставы задерживал белокитайца – в дозоре с бойцами ступал след в след Мейлех Терлецкий.
«Мы родину строим у края страны, где слышится рокот амурской волны»… «То не страна бесплодных древних грез, то не народ Кармеля и Синая»…
Этот поразительный человек и стихи умел сочинять. Он был самой влекущей и жаркой звездой обеих биробиджанских звезд – чего бы не отдал Бенци, чтоб хоть одним глазком взглянуть на эту потрясающую личность!
– Ты думаешь, биробиджанская звезда какая, шестиконечная? – тем временем пригибался к нему крючконосый Берл. – Нет, холера им в печенку! Сейчас за души евреев борются две звезды – шестиконечная и пятиконечная! И пятиконечная победит! Запомни эти башни! – Берл в стотысячный раз подносил поближе к лампе рваный почтовый конверт с грязно проштемпелеванной крупной маркой, на которой была изображена череда крошечных кремлевских башенок, увенчанных совсем уж микроскопическими красненькими звездочками. – Вот посмотришь, мы с тобой еще увидим эти звезды!
* * *
Пророчество Берла, как и положено, осуществилось в самой неожиданной форме и гораздо быстрее, чем при всем их оптимизме могли предположить оба билограйских друга. В одно ирреальное утро на противоположном бережке киснущей под изумрудной ряской речушки появились пограничные столбы с пятиконечными пламенеющими звездами, а между столбами стали непреклонно прохаживаться с винтовками через плечо невиданные прежде солдаты, на пилотках и фуражках которых вполне можно было разглядеть точно такие же, только маленькие, призывно поблескивающие красные звездочки.
Зато на улицах Билограя неведомо откуда, без всяких видимых битв и сражений возникли немцы, точно такие же, какими их впоследствии Бенци тысячи раз видел в кинохронике. Бенцион Шамир даже и не знал толком, успели ли они натворить что-нибудь особенно ужасное, – всему младшему поколению Давиданов с первого же дня настрого запретили не только выходить на улицу, но даже и подходить к зашторенным окнам. Отдельные выстрелы были слышны, но стреляли вроде бы по немногочисленным гойским собакам – своих-то у себя на родине, наверно, всех уж давно переели…
Даже до желтых могендовидов дело, кажется, не успело дойти, хотя идея, надо признать, была недурна: чего, мол, хотели, то и получите.
А буквально через несколько дней Папа в кромешной тьме разбудил Бенци и пугающе ласково предложил побыстрее одеваться, причем соглашался на несколько секунд зажечь спичку лишь в самых крайних случаях. «Ковры!.. – время от времени шепотом вскрикивала невидимая Мама. – Из Лодзи выписывали!.. А фарфор!.. Из Майсена везли!.. Может быть, не будем торопиться, может, все еще образуется?..» Пока наконец Папа не прошипел с неслыханным негодованием: «Вдумайся, что ты говоришь!.. На карте стоит жизнь наших детей, а ты вспоминаешь про какой-то хлам!»
Но все-таки Мама в темноте ухитрилась сунуть ему в саквояжик невидимый комплект столового серебра.
А еще через полчаса все семейство во главе с Папой спешило к речке, стараясь ступать беззвучно, как бойцы Энского погранотряда. Столовое серебро, правда, пыталось побрякивать на каждом шагу, но Папа, приостановившись, быстро и беззвучно раскидал его по темной невидимой пыли.
Осенняя ночь была всего лишь прохладная, но Бенци все равно неудержимо трясло мелкой дрожью, как будто он выбрался из горячей ванны в какой-то погреб. Разувшись в невидимой прибрежной золе, о брюках и юбках Давиданы уже не заботились. Речушка была мелкая, но Бенци его костюмчик обжимал где-то на уровне груди. А когда вода снова сделалась по колено, перед ними беззвучно возник настоящий пограничный наряд.
Наставив на Давиданов черные силуэты винтовок, черные силуэты пограничников неумолимыми жестами гнали их обратно. «Давай назад! Будем стрелять!» – грозно повторял главный, а Папа вполголоса взывал, умолял, убеждал, Мама сдавленно плакала, повторяя на смеси польских и русских слов: у вас тоже есть матери, у вас тоже будут дети, – но силуэты были неумолимы. Шимон-Казак уже завел что-то горделиво-обличительное, что-то вроде «вы сами не лучше…», но Мама успела оборвать его бешеным шипением.
Время шло, на черном небе, словно разгорающаяся печь, начала накаляться безжалостная заря, на пограничных фуражках стали проступать красные звездочки, а мокрые Давиданы продолжали погружаться все глубже и глубже в ил. «Пан офицер!.. – в последний раз взмолился Папа, и Бенци с последней отчаянностью поправил его: – Не пан офицер – товарищ командир!»
И ему показалось, что один из пограничников хмыкнул.
На немецком берегу послышался топот приближающегося конного разъезда. Семейство заголосило, уже не таясь. Бенци же сел прямо в воду и заплакал. Ладно, давайте, только быстро, махнул рукой главный, и Давиданы с чавканьем поспешили под спасительную сень красных звезд. Немцы на битюгах недвижно алели на противоположном берегу.
– Что, пан, опоздал? – насмешливо крикнул их начальнику русский командир.
Несмотря на еще не рассеявшийся сумрак, Бенци навсегда запомнил это сильное молодое лицо, которому плохо удавалось непривычное ироническое выражение.
Зато когда их доставили в штаб, уже были отчетливо видны все трещинки на Папином саквояжике.
* * *
В ожидании, пока высохнет их одежда, Давиданов без различия пола и размера всех обрядили в красноармейское обмундирование, а потом до самого вечера допрашивали и оптом, и в розницу. В тот день Бенци впервые в жизни увидел Папу небритым.
Более того, у Папы на всякий случай – как опасное оружие – изъяли опасную бритву. Зато – как орудие труда – оставили ланцет.
Поселили их в бескрайнем манеже, спешно покинутом стоявшим в заречном городке кавалерийским полком. Над входом в здание склонилась пара дружелюбных лошадиных морд из коричневого крашеного гипса, который маленькому Бенци в отколупнутых местах показался белым камнем.
Необозримый пол манежа был устлан толстым слоем золотой соломы, на которой, издавая наполняющее залу монотонное гудение, лежали, сидели, прохаживались обносившиеся люди – мужчины, женщины, старцы, младенцы… Цыганский табор, однажды ненадолго раскинувшийся на задворках Билограя, был лишь слабым намеком на это мрачное кишение.
Все это были в основном еврейские беженцы, такие же, как Давиданы.
Которые с невероятной быстротой и вправду сделались неотличимыми от них.
Наутро Бенци пришлось увидеть Папу не только окончательно небритым и всклокоченным, но и обсыпанным с ног до головы соломенной трухой. Остальные, разумеется, были не лучше, но им это как-то больше дозволялось, Папе же…
И Папа сам это почувствовал. Не отыскав мыла, он, стараясь не морщиться от постоянных микроскопических порезов, сколько мог тщательно на ощупь побрился ланцетом, оставив свои обычные небольшие усики. Когда он встал и принялся стряхивать с жеваного костюма набившуюся во все щели труху, мальчишка с соседнего лежбища, по возрасту что-то среднее между Бенци и Шимоном, засмеялся с еще никогда не слышанной Бенци злобной радостью и показал на Папу пальцем:
– Чарли Чаплин!
Ближайшие лежбища зашевелились, начали поворачивать головы и мрачно усмехаться. Бенци к тому времени еще не видел чаплинских фильмов, но впоследствии должен был признать меткость наблюдения: оборванец, который изо всех сил тщится выглядеть джентльменом, – Папа неосторожно принял на себя именно эту роль.
Вокруг же оказались не знавшие его простые люди, во множестве успевшие, сменив под сводами манежа лошадей, окончательно опроститься и твердо усвоить, что такая изысканность, как великодушие, им больше не по карману. Бенци был еще слишком мал, чтобы отчетливо это сформулировать, но ледяной холод в животе и мурашки под волосами с предельной ясностью открыли ему главный ужас их положения: самое страшное, когда наизлейшим врагом оказываются не враги, а товарищи по несчастью.
Шимон-Казак вскочил и хотел кинуться на наглеца, но папа его удержал. С бесконечной серьезностью и грустью он посмотрел Шимону в глаза и произнес: «Все, что ты можешь, – это сделать из одного безобразия два».
* * *
И Бенци понял, что ни папа, ни мама, ни Шимон и никто на свете не сможет больше его защитить.
С этой минуты его душа съежилась в кулачок, свернулась в крошечную спору: из всего прежде бесконечно красочного и многообразного мира он начал замечать лишь опасное и полезное – только то, что может ударить или выстрелить, да еще то, что можно съесть или чем можно согреться.
* * *
Он старался пореже выходить из манежа, даже когда это уже разрешили, а штиблетики еще не начали пропускать воду: теперь его страшил неумеренно просторный мир, даже когда дождь сменялся солнцем и под открытым небом становилось несколько теплее, чем под крышей. Набив для тепла в рукава и штанишки свежей соломы – запасы ее оказались неиссякаемы, – Бенци, съежившись, старался побыстрее прошмыгнуть по чуточку более столичным – мощеным улочкам городка, высматривая, где что плохо лежит. Плохо лежало довольно много разных полезных предметов, однако их предполагаемые хозяева внушали ему такой смертный ужас, от которого буквально подкашивались ноги, немели кончики пальцев. Особенно когда, точно с крыши сорвавшись, по булыжнику внезапно прогрохатывала телега.
Впрочем, Бенци теперь при любых незнакомых – да и знакомых тоже – звуках на всякий случай еще глубже втягивал голову в плечики.
Обычно он добредал до самого внушительного здания с огромной, в треть двухэтажного фасада, красной звездой, обросшей по периметру электрическими лампочками, и долго стоял перед ней, как будто тщетно стараясь припомнить что-то. По вечерам звезда, должно быть, испускала совершенно неземное сияние, но Бенци теперь боялся ходить в темноте, а потому вечером в городок не выбирался, хотя даже мама считала это безопасным: к шатающимся повсюду нищим беженцам все уже привыкли, и никто ничего плохого против них не предпринимал. Хотя и подавать уже не подавали – на всех не напасешься, слишком уж много их свалилось на это небогатое местечко: кроме манежа, беженцами была под завязку набита и старенькая синагога.
Все, что у них можно было купить, было уже куплено, а вшей и дизентерии своих хватало. А уж когда самые предприимчивые начали перекупать на полдороге у приезжающих на крошечный рынок окрестных крестьян яйца и капусту, чтобы перепродать их подороже… Такая вещь, как рост цен, не приветствуется ни в столицах, ни в местечках.
Справедливости ради надо, однако, отметить, что к манежу дважды в день подгоняли полевую кухню, но в каждой бригаде, на которые были разбиты обитатели манежа, тщательно следили друг за другом, чтобы никто не подошел дважды. Тем не менее довольно скоро методом сравнения Бенци предстояло убедиться, что кормили их здесь не так уж отчаянно плохо и его постоянное желание что-то съесть было наполовину тоской по чему-нибудь вкусненькому, домашнему.
Возможно, и Шимон-Казак с риском для жизни пробирался через крышу на армейский склад тоже не столько из-за нехватки калорий, сколько из-за нехватки бодрящих впечатлений: ему с его гордым нравом было труднее всего превратиться из блестящего лихого парня в унылого бездомного пса – он предпочитал сделаться волком.
Быть может, превращение в бездомного пса всего труднее давалось папе, но какие нормальные дети думают о таких вещах! Папино дело служить каменной стеной, а если стена начала осыпаться, уходить в болото, от детей требуется, самое большее, деликатно отвернуться. Папа, понимая это, и сам как-то стушевывался, старался поменьше обращать на себя внимание. И хотя он по-прежнему не откликался на кличку «Чарли» – он, еще недавно предмет всеобщей любви и даже гордости! – не слышать ее он все-таки не мог. И вместе с тем, покуда ланцет еще был в состоянии что-то сбривать, он не оставлял своих попыток хоть в какой-то мере сохранить привычный облик. Он предлагал охране и свои услуги в качестве врача для товарищей по несчастью, однако ему твердо дали понять, что буржуазные дипломы здесь не в цене. Здесь был свой медпункт.
Мама же с первых дней, казалось, напрочь забыла как о своем благородном происхождении из рода знаменитых знатоков Книги, так и о своем пребывании в гуманитарных учебных заведениях Вены и Парижа: очень скоро ее было уже не отличить от местечковых теток, супруг портных и шорников, – та же вечная недалекая озабоченность на мятом бледном лице, та же куриная хлопотливость, сосредоточенная на чем-то третьестепенном, та же готовность часами дискутировать, где больше витаминов – в луковой шелухе или в капустной кочерыжке… Папа ни разу не притронулся к шимоновским трофеям, отвергая путаные версии их происхождения, – мама же хлопотала над ними почти жизнерадостно.
Словом, мама относительно легко вписалась в новую реальность.
Сестра Фаня, которая постепенно вновь сделалась оживленной и даже смешливой, серьезно приглянулась молодому охраннику в суконном остроконечном шлеме со звездой во лбу. Под сенью этой звезды Фаня подолгу просиживала с ним в караульном помещении, осваивая русский язык, а может быть, и еще что-то, во время увольнений выходила с ним погулять в центр – видимо, тоже полюбоваться на обсиженную лампочками звезду, ибо больше смотреть там решительно было нечего, хотя тамошняя нищета была уже без претензий, с деревянными галерейками вдоль домишек, – однако ночевать возвращалась все-таки к семье. Благодаря ей семейство Давидан спало уже не на голой соломе, а на брезентовом полотнище. Бенци не помнил в точности, когда Фаня тоже выправила советский паспорт и переехала к мужу в палаточный городок: Фаню, избравшую отдельную судьбу, Бенци бессознательно перестал ощущать родным человеком. Устроилась – и хорошо, значит, можно о ней забыть – таков примерно был его тогдашний образ чувствований.
Какие-то обрывки безнадежных взрослых переливаний из пустого в порожнее у Бенциона Шамира сложились в подозрение, что и у остальных членов семьи были шансы получить советские паспорта, но папа полагал, что это раз и навсегда отнимет у них надежду когда-нибудь выбраться из Страны Советов, – вслух и прямо это не произносилось. А кроме того, папа держался за их иллюзорную защищенность статусом иностранцев.
Бенциону Шамиру это не казалось смешным, он уже давно понимал, что на свете нет ничего драгоценнее иллюзий – именно из-за чарующих иллюзий всегда проливались и будут проливаться самые полноводные реки человеческой крови. Потому-то и был так страшен мир, окруживший Бенци за пограничной речушкой, – это был мир без иллюзий, без сказок. А мир без сказок – это и есть ад.
В аду не было ничего чарующего – только скучное (полезное) и страшное (опасное). Потому-то в нем и не нашлось места для кроткой застенчивой Рахили: о тех, кто себя не навязывал, тогда легко забывали. И Бенцион Шамир никакими усилиями не мог вспомнить – какой она стала, Рахиль? Чем занималась? О чем думала эта еврейская принцесса, как ее в ласковые минуты именовал папа, и сам-то оказавшийся порядочным принцем?..
Тех, у кого обнаруживался тиф или дизентерия, увозили в неведомые края, откуда кое-кто все-таки возвращался. Но из тех, кого по ночам увозили черные силуэты с одним карманным фонариком на троих, ни разу не вернулся ни один. И все понимали, что эта болезнь – самая страшная. Наиболее подверженными ей оказались религиозные евреи: борода, пейсы, талес, склонность молиться, хоть как-то выделять иудейские праздники были чрезвычайно опасными симптомами.
С симптомами же менее тяжкими обращались в медпункт.
Почти никаких красок в памяти Бенци не осталось от тогдашней заречной жизни – все было стерто беспросветной тоской; однако красный крест на кирпичном домике главного конюха, исчезнувшего вместе с конницей, как новенький стоял в глазах Бенциона Шамира: красный крест мог соперничать пламенностью с самой красной из красных звезд. Два раза в неделю, каждый раз под новую песенку, домик отпирал полустертый временем фельдшер, до оторопи веселый в этой зоне тоски, суровости и той предсмертной грызни, когда грызутся, чтобы не повеситься.
Пациентов неунывающий эскулап выслушивал посвистывая и тут же выбрасывал рецепт. Кашель? Харкайся, пока грыжа не вырастет, тогда снова придешь – следующий! Живот болит? Пробздишься – следующий! Ухо не слышит? Меньше слышишь, крепче спишь – следующий! В глаз попало? Глаз не п… – проморгается, следующий! Голова? От головы одно хорошее средство – девять граммов, получишь у прокурора – следующий!
Рецепты выдавались всем одни и те же, и мужчинам и женщинам, однако многих защищало то, что они недостаточно глубоко знали русский язык для постижения всех нюансов фельдшерского остроумия – от которого он сам явно млел, в расстегнутом как бы белом халате раскачиваясь на стуле позади обеденного стола (письменным исчезнувший конюх не располагал).
Однако с некоторыми больными он запирался и на десять, и на двадцать минут – тоже почему-то предпочитая пару-тройку любимчиков-ортодоксов со всеми полагающими бородами, пейсами и ермолками. Шимон-Казак, изнывая от любопытства, пытался подглядеть в окно, но окна были непроницаемо забелены изнутри.
Тогда неукротимый Шимон в один из нерабочих дней, работая в привычной технике, разобрал потолок прямо над столом и заранее затаился на чердаке – так ему удалось через вполне сносную дыру пронаблюдать от начала до конца прием одного из наиболее неизлечимых страдальцев. Оказалось, что образцовый иудей совершенно свободно тараторит по-русски, по-свойски поминает с фельдшером каких-то их общих знакомых – правда, перейдя к серьезному разговору, больной доверительно перегнулся через стол. Тем не менее суть беседы реконструировать ничего не стоило.
Перлов Хаим Лейбович говорил Пинскеру Шевелю Соломоновичу и Чечик Мордуху Ерухимовичу, что мы, верующие евреи, должны держаться вместе, не брать советские паспорта, а то нас разошлют по всей России и поодиночке превратят в гоим, заставят работать по субботам и есть свинину, в этой стране верующие люди каждый день должны ждать каких-то неприятностей или даже ареста, но надо набраться терпения, и тогда нас всех рано или поздно выпроводят в Палестину.
– Выпроводим, выпроводим, – недобро посмеялся фельдшер, продолжая быстро записывать жалобы пациента. – Колыма большая, всем места хватит.
Выслушав азартный шепот Шимона, папа начал осторожно наводить справки, кто такие эти Перлов, Пинскер и Чечик, но пока он наводил их, все трое успели исчезнуть.
Папа дипломатично пустил слушок, что надо остерегаться тех, кто надолго задерживается в медпункте, однако люди продолжали исчезать: видимо, где-то там и без фельдшера знали, кто чего стоит. Доктора, которые там сидели, умели ставить диагноз, и вовсе не вступая в личные контакты.
* * *
Однажды Бенци приснилось, что он стоит среди незнакомой улицы, а вокруг с треском проносятся по булыжнику и исчезают телега за телегой, на которых, обхватив руками колени и уткнувшись в них лицом, сидят какие-то серые люди со стертыми серыми затылками. Проснувшись, он понял, что это были не телеги, а отдаленные автоматные очереди.
На немецком берегу все той же сделавшейся пограничной речушки все те же немецкие солдаты, отчетливо различимые в беспощадном ясном свете морозной зари, короткими очередями в небеса, чтобы пули не попали на дружественную советскую территорию, и остервенелыми ударами прикладов в спины и затылки под лай рвущихся с поводка еще не съеденных собак сгоняли билограйских евреев на проламывающийся лед – и тут же начинали стрелять им под ноги, побуждая бежать на советскую сторону. Жидовские комиссары, надрывался какой-то весельчак на ломаном даже для Бенци русском, это вам подарок от фюрера, вы любите жидов, вот и засуньте их себе в задний ход!
«Жидовские комиссары» в тулупах до земли и в суконных шлемах с красными звездами неподвижно стояли цепью, держа карабкающуюся на берег вопящую толпу под наведенными винтовками; их командир яростно кричал в жестяную воронку: «Давай назад!!! Будем стрелять!!! Ком цурюк!!!»
После винтовочного залпа, взбившего фонтанчики снега с землей у самых ног окончательно потерявших голову билограйских евреев, они кинулись обратно, где их встретило еще более горячее огневое приветствие. Пометавшись черным стадом в черной воде среди перекошенных сверкающих льдин, толпа человек в двести съежилась на кромке внушающего все-таки меньший ужас советского берега.
Отвергнутый обеими сторонами человеческий мусор сидел сбившись в кучу, обхватив руками колени и прижавшись к ним лицом – только матери утыкали в свои колени захлебывающихся криком младенцев.
Где-то в верхах военные и гражданские чины лихорадочно обменивались докладами и распоряжениями, а мокрые отбросы двух миров, начиная серебриться инеем, все сидели и сидели, свернувшись эмбрионами и втискиваясь друг в друга, как стадо баранов.
Бенци смотрел на эту картину из-за оцепления, лишившись не только дара речи, но и дара какого бы то ни было понимания, – он и сам был бараном в эти часы.
Вдруг до него дошло, что где-то в сбившейся черной куче сидит и Берл, и ему показалось даже, что он различает его серебрящийся горб.
– Береле!.. – изо всех сил закричал он и кинулся.
Папа удержал его и развернул лицом к своей старенькой шинели не по росту, которую ему принесла Фаня от своего жениха (мама сразу же вернулась в манеж, как только увидела, что здесь творится). Но, закашлявшись от запаха шинельного ворса (в манеже все беспрерывно кашляли на все лады), Бенци высвободился и с забытой яркостью снова увидел перед собой каменевшие спиной к нему советские тулупы, вдали за речушкой – немецкие шинели, а у берега – недвижные затылки и спины тех, кто целую вечность тому дружелюбно улыбался ему из билограйских домишек.
Дети почти уже не плакали, лишь отдельные упрямцы еще издавали едва слышное сипение.
«Смотри, смотри!» – словно приказал ему кто-то.
И запоминай.
Он совсем не испытывал страха, он совершенно спокойно мог бы кинуться на винтовки, если бы это не было настолько бесполезно.
Но смотреть зачем-то было нужно. И он смотрел.
* * *
Папа пытался увести его, но он отказался со взрослой, вызывающей уважение серьезностью.
Он должен был выстоять до конца. Чтобы запомнить все.
* * *
Но сколько же могли прожить мокрые люди на морозе?..
И тут небеса смилостивились – ясное морозное солнышко затянуло пасмурностью, начал не по сезону накрапывать дождь; сначала накрапывать, потом лить. Серебрящиеся спины и затылки снова почернели.
И чернели до темноты. А потом продолжали чернеть в свете наведенных на них автомобильных фар – чтобы в темноте никто не пробрался куда не положено.
Лишь на следующий день к вечеру сжалились и государственные небеса, кто-то где-то наконец понял, что от обременительного дара все равно не избавиться, и позволил выпустить из оцепления раненых и женщин с детьми, а для остальных распорядился на нейтральной полосе вдоль взрытой речушки натянуть армейские палатки. А уже в полной темноте к палаткам подъехала полевая кухня.
Но ни оцепление, ни фары не были убраны. Советская власть тоже не собиралась сдаваться так быстро.
И ее упорство принесло кое-какие плоды. С каждым днем от палаточного стана отделялись новые черные фигурки, которые брели вдоль пограничной канавы к отдаленному мосту, официально связывающему красную звезду с черной свастикой. Там уже приплясывала, сидела на корточках, грела руки у костерков и грызлась очередь, бесконечная в самом точном смысле этого слова, ибо те, кому было нечего сунуть дежурным чинам, были обречены ждать бесконечно. И стремительно взрослевший Бенци надолго почувствовал, какая это, в сущности, человечная вещь – взятка: даешь что-то бесполезное, вроде сережек с жемчугом или кольца с брильянтом, – и для тебя делают что-то нужное, вместо того чтобы делать что приказано.
Именно эта пьеса – «Очередь в ад», написанная молодым Бенционом Шамиром с элементами еще редкой в ту пору драмы абсурда, и принесла ему первую славу: люди хитрили и грызлись, чтобы поскорее попасть в газовую камеру. Фотография автора во фраке была помещена во многих нью-йоркских газетах после премьеры в одном бродвейском театре.
Вылитый папа, хотелось сказать тем немногим, кто помнил его отца.
* * *
В манеж Бенци вернулся воодушевленный:
– Давайте выкупим Берла!
– На какие рубли, мы давно все распродали!.. – голосом нищенки запричитала мама, и Бенци был серьезно потрясен, когда впоследствии выяснилось, что мама все-таки припрятала свое обручальное колечко.
Но ведь у Берла был еще и портсигар, старинное фамильное серебро!..
Командира оцепления Бенци выделил по фуражке со звездочкой среди суконных шишаков со звездами – и не ошибся.
– Там, у речки… – начал он почти уже без акцента, но красный командир не дал ему закончить: – Ты хочешь, чтоб я их всех отпустил, а сам сел?
И Бенци осенило, что портсигаром должен заинтересоваться фельдшер: такие веселые люди обычно не страдают излишним фанатизмом, сказал бы он, будь он постарше.
– Старинное серебро?.. – усомнился фельдшер, переставая покачиваться. – У сапожника?.. Фуфло, наверно, какое-нибудь.
Однако к оцеплению прогуляться согласился. Посвистывая.
В советских войсках уважали медицину: стоило фельдшеру что-то шепнуть командиру, как тот тут же ему козырнул.
– Как фамилия? Да не твоя, сапожника? – и Бенци похолодел: в Билограе такие изыски, как фамилия, почитались совершенно излишними.
Командир, недовольно крякнув, все-таки зашагал в своей долгополой шинели по невесомому девственному снежку к обвисшим под слоем такого же, казалось бы, невесомого снега палаткам. Бенци ясно слышал, как он, переходя от палатки к палатке, повелительно выкрикивает: «Сапожник Берл, с вещами на выход!»
И наконец – Бенци не верил своим глазам! – Берл, окончательно сгорбившийся, обросший седой щетиной, повязанный, словно женщина платком, какой-то серой тряпкой, шаркал по снегу прямо к нему, затравленно озираясь исподлобья. Он надрывно кашлял, как завзятый ветеран манежа, через два шага на третий щедро сплевывая, и на девственнейшем снегу каждый раз вспыхивала новая красная звезда.
В руках Берл держал свою чугунную ногу.
Друзья самозабвенно обнялись. Берловская щетина впилась не хуже сапожных гвоздей, но Бенци наслаждался этой болью.
Берл прервал объятие только для того, чтобы зажечь на снегу еще одну красную звезду.
– Что с тобой, что они с тобой сделали?.. – страдальчески воззвал Бенци, уверенный, впрочем, в тот миг, что самое страшное уже позади.
– Хорошенько по горбу получил от фюрера. – Берл хрипел и диковато озирался из-под платка, похожий на какую-то ужасную бородатую ведьму.
– А зачем у тебя нога?
– У богатых самое дорогое деньги, а у нас – орудия производства.
Еще одна красная звезда, еще одна…
– А как же твой укроп? – многозначительным тоном Бенци намекал на его подземный архив.
– Какой уж тут укроп… – не понял Берл.
Неужели он забыл и про Биробиджан?..
– Отставить сопли! – оборвал фельдшер и покосился на начальника оцепления. – Закурить есть? – без церемоний обратился он к Берлу.
– Не курю.
Звезда, звезда…
– А кто тебя спрашивает, куришь ты или не куришь? Портсигар есть?
– Отдай ему портсигар! – страстно прошептал Бенци в ледяное хрящеватое ухо Берла, отодвигая тряпку – оказалось, ту самую, которой Берл когда-то завешивал окошко.
Теперь они были почти одного роста.
– Портсигар?.. – вслух изумился Берл. – Я его должен отвезти в Биробиджан!
В Советской России Берл немедленно выучился правильно произносить это слово с первой попытки.
– Чего-о?!. – еще больше изумился фельдшер – и разом оборвал разговор: – Не-ет, от дураков нам ничего не надо.
И посвистывая зашагал прочь.
– Он же больной, у него кровь!.. – умоляюще закричал ему вслед Бенци, и фельдшер радостно крикнул через плечо: – Горбатого могила исправит!
Берл презрительно сплюнул, но красные звезды на снегу для презрительности пылали слишком страшно.
– Он тебе кем приходится? – мрачно спросил у Бенци начальник оцепления.
– Мы братья, – не задумываясь ответил Бенци.
– Братья?.. – Берл годился ему скорее в деды. – А, двоюродные, братаны… Лады, забирай его, только по-шустрому. И никому ни слова, понимаешь? Если кто спросит, отвечай: по особому распоряжению! Ты запомнил? По особому распоряжению!
* * *
Берл, согнувшийся в три погибели, но по-прежнему несгибаемый, нахлобучивал на чугунную ногу очередные оскалившиеся опорки, которым давно было пора обрести заслуженный покой в законной помойной яме, и все так же азартно вколачивал в них гвоздики, понадерганные из окончательной рвани, от которой отказались и беднейшие из бедных. Он по-прежнему, словно рыбьи косточки, выдергивал щетинки гвоздей из стиснутых извилистых губ, уже не голубых, а белых и сморщенных, словно пальцы после ванны. Теперь у него хватало терпения отхаркиваться и сплевывать жидкие красные звезды в специальную консервную банку, лишь израсходовав весь гвоздевой боезапас.
Жить стало легче, жить стало веселее. Если, конечно, не обращать внимания на практически никогда не стихающие сдавленные рыдания очередной матери, еще не успевшей свыкнуться со смертью очередного младенца (остальные-то с этим уже свыклись, с тем, что, покуда не подошла твоя очередь, надо как-то отвлекаться). Разваливающихся сапог и башмаков вокруг было море разливанное – не только в манеже, но и в самом городке. Бенци ожидал, что с бедных Берл не будет брать вовсе ничего (а богатые к нему почему-то не спешили), но Берл, очевидно, считал их еще недоросшими до истинно братских отношений. Считал не без оснований…
Строго говоря, папа Давидан тоже никак не мог подняться до общепролетарского дела, но Берл, по-видимому, жил по принципу «семья моего брата – моя семья», отец отвечал за сына и был оправдан его достоинствами: получаемые крохи делились на всех – Шимон, судя по его бравому и с каждым днем все более хулиганскому и «гойскому» виду, делился своей добычей далеко не так неукоснительно.
Берл же прощал политически незрелым членам своего ближнего круга даже самые досадные идейные шатания. Когда они с папой пускались в политические прения, Бенци сжимался от страха, что Берл вот-вот взорвется (папа-то никогда не взрывался…).
На ловца и зверь бежал: из общей кавалерийской уборной Берл немедленно притащил клок советской «Правды» аж еще за сентябрь. «Польское государство и его правительство фактически перестали существовать, – со значительным видом зачитывал он, водя своим горбатым носом по мятым строчкам. – Тем самым прекратили свое действие договора между , , , р и Польшей». В семействе Давидан все уже более или менее понимали по-русски, но мама совершенно перестала интересоваться чем бы то ни было за пределами ближайшего метра и ближайшего дня, Фаня и Шимон постоянно отсутствовали, а Рахиль – Рахиль отсутствовала в памяти Бенциона Шамира – так, грустная тень какая-то…
– Советское правительство, – хриплый голос Берла становился растроганным, и неотложное сплевывание в консервную банку он начинал осуществлять с предельной деликатностью, – советское правительство не может безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, остались беззащитными.
Черно-седые колтуны волос и бороды, шелушащийся клюв носа вкупе с как будто бы еще сильнее подросшим и заострившимся горбом делали Берла похожим на какого-то одичавшего лесовика, в которого непостижимым образом вселилась растроганная душа восторженного юнца.
– О евреях ни слова, – грустно указывал ему папа. – Это понятно – большим державам не стоит из-за такой мелюзги ссориться с другими большими державами… Пока у нас не будет своего государства, мы так и останемся мусором, который перебрасывают друг другу через забор.
Бенцион Шамир впоследствии даже удивлялся, насколько точными оказались слухи о том, что при советско-германском обмене населением евреям не отыскалось места среди русских, украинцев, белорусов и немцев. Собственно, этих слухов не оспаривал и Берл, но он все равно очень сердился, когда папа подводил под них теоретическую базу:
– Все понятно, мы для них никто.
– Как это «никто»?! – кипятился Берл, сверкая своими черными резными глазами, сердито отбрасывая от них черно-седые космы волос и оставляя на месте черно-седые пучки бровей. – Мы не никто, мы хозяева страны! Только мы сначала должны доказать свою преданность! А пока среди нас много врагов, много шатких элементов! Нетрудящихся! Когда мы докажем свою преданность общепролетарскому делу, мы сделаемся частью могучего народа– и тогда нас никто не посмеет тронуть!
Торжествующий алый плевок.
– Могучие народы в тяжелую минуту всегда согласятся принести нас в жертву, – грустно вздыхал папа. – Если бы даже Сталин нас любил, у него все равно нашлись бы дела поважнее.
– Для Сталина все важны, – как ребенка начинал утешать его Берл и сплевывал в банку с таким видом, словно опускал крупную монету в папину копилку. – Для отца все дети важны, и большие и маленькие. Но Сталин сейчас не может выказать нам свою заботу открыто. Большевиков и так обвиняют, что ими управляют евреи, они должны этот козырь выбить из рук фашистской пропаганды. А в самом Советском Союзе евреи процветают!
Горделивое сплевывание.
Берл помнил неисчислимое количество еврейских комкоров, комдивов, наркомов, обкомов, санупров, худруков, начкадров, песенников, хозяйственников…
– Но остались ли они евреями? – тщетно пытался остановить водопад громких имен папа. – Что хорошо для людей, то может быть убийственно для народа. Для его мечты. Может быть, мы как народ только сейчас по-настоящему начинаем возрождаться. Может быть, ужасы, которые с нами происходят и еще произойдут, послужат каким-то страшным уроком, может быть, наши мучения не напрасны… Кто знает, может быть, мы сделаемся той страшной легендой, которая сплотит и поднимет еврейский дух?.. Породит новую общую мечту?.. Может быть, в этом наша историческая роль? Может быть, кто-то из-за нас не захочет искать успеха в среде более сильных народов, а пожелает спасать остатки своего народа, служить его мечте?..
– Кто бы спорил? – Берл наконец начинал улыбаться своими длинными белыми губами. – Всем умным людям уже давно ясно, как нужно спасать еврейский народ. И где. В Советском Союзе! В Красном Сионе! В Биробиджане. Вы увидите – нас всех скоро туда отправят. Тех, кто выдержит проверку, выкажет пролетарскую стойкость. Нам нужно только очиститься от антисоветских и клерикальных элементов. Вы посмотрите, они и здесь раскачиваются, обматываются, выискивают, в какой стороне их любимый буржуазный Сион!..
– Антисоветские элементы твои друзья, по-моему, больше всех плодят сами… – замечал папа как бы про себя (вообще-то с Берлом они уже держались по-свойски). – А что до клерикальных… Еврейская культура вся проникнута религией, все обряды, все ритуалы, все предания… Даже кухня… Я, к несчастью моему, не верую в Бога. Но я понимаю, что если из еврейской культуры изъять все, в чем присутствует религия, то не останется ничего. Просто ничего.
– В Биробиджане мы создадим новую, социалистическую еврейскую культуру! Какая и не снилась эксплуататорским классам! Нам только нужно выдержать испытание на стойкость. И мы его выдержим!
И Берл нежно спустил в консервную банку подзадержавшуюся кровавую слизь, а потом любовно посверлил папу из-под черно-седых косм мудрым, прямо-таки сталинским взглядом с ленинской хитринкой (Бенци уже насмотрелся ленинских портретов и даже успел узнать, что именно хитринка является одним из главных атрибутов ленинского обаяния):
– Я уже написал товарищу Сталину. Я написал: испытайте нас и тех, кто выдержит, можете смело отправлять в Биробиджан.