От грозы к буре Елманов Валерий
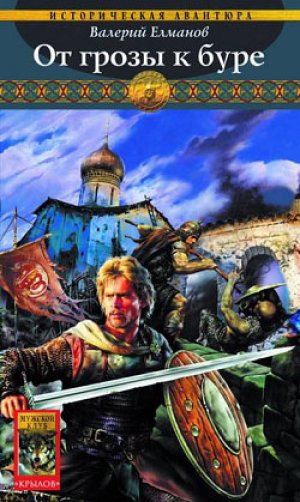
– Они, – кивнул Франсуа в сторону остальных переселенцев, – мочь дать тебе это слово. Мы – нет, – и пояснил чуточку жалостливо и снисходительно, как несмышленышу: – У нас обет. Мы обязаны это делать. Всегда.
– А обет снять нельзя? – осведомился Константин, напряженно размышляя в поисках выхода из ситуации, казавшейся весьма простой, а на деле очень и очень неоднозначной. – Мне бы очень не хотелось омрачать нашу встречу и первые хорошие приятные впечатления от нее обещанием строгих наказаний.
– Обет дан нам по своя воля, – твердо ответил Франсуа.
– Добровольно, – помог с переводом Исаак.
– Так есть – добровольно, – старательно, почти по складам выговорил следом за купцом проповедник катаров. – Мы нельзя отступить. У нас долг перед наш бог. Лучше убить сразу. Мы не есть бой.
– Они не будут противиться, – пояснил Исаак, почему-то перейдя на шепот.
– Так есть, – подтвердил Франсуа и, высоко вскинув голову, начал что-то торжественно произносить.
– Нами руководит Христос, и мы должны воздать ему хвалу и за зло, и за добро, ниспосылаемые им, и принять их смиренно, ибо он может нас поддержать на том правом основании, что мы хотим жить и умереть в его вере[39], – старательно переводил Исаак.
«Ну, теперь началось», – устало вздохнул Константин.
– Ибо мы верим в бога, предостерегающего нас от заблуждений, сотворившего небо и землю и заставившего ее плодоносить и цвести, создавшего солнце и луну для освещения мира, и мужчину и женщину, и вдохнувшего жизнь в душу, и вошедшего в чрево девы Марии для выполнения закона, и в того, кто претерпел пытку плоти своей, дабы спасти грешников, и отдал свою бесценную кровь, дабы озарить тьму, и явился принести себя в жертву отцу своему и духу святому, – бубнил купец.
«Когда же эта муть закончится?» – окончательно затосковал князь, но Франсуа не унимался, и Исаак продолжал переводить его слова.
– Благодаря принятию и осуществлению святого крещения, благодаря любви и повиновению святой церкви мы вправе завоевать любовь Христа, – произнес купец и уставился на Франсуа, который наконец-то замолчал.
– Теперь ты видеть, что мы никак не мочь, – произнес тот уже на русском языке.
В толпе переселенцев кто-то истерично вскрикнул, но тут же испуганно осекся.
– Я не хочу вас казнить, – покачал головой Константин. – Мне думается, что вместо этого нам надо как следует подумать, и выход обязательно найдется. Я имею в виду такой, который одновременно подошел бы и мне, и вам.
– Выход не есть такой, – вновь снисходительно улыбнулся князю Франсуа. – Либо твой, либо мой. Мы обязаны нести слово про наш бог – ты не хочешь. Как можно найти так, чтоб было хорошо все? Я не есть знать, – сокрушенно развел руками Франсуа.
Было видно, что он искренне сочувствует князю, но…
– Та-ак, – протянул Константин задумчиво. – Ну, ладно. А хотя бы на пару дней воздержаться от своих проповедей вы сможете? – И со вздохом подумал, что очередную дату отъезда, которую он, наивный, считал конечной и железной, придется в очередной раз откладывать.
Впрочем, черт с ней, с датой. Два-три дня все равно ничего не решают, лишь бы найти достойный выход из этой непростой ситуации.
– Пару? – переспросил Франсуа.
– Два дня, – сердито пояснил Константин.
– Два – да, – неуверенно произнес Франсуа. – А после? Ведь все равно быть так же. Лучше сейчас. – И он вновь обреченно замолчал.
«Ишь ты, чего захотел, – зло засопел Константин. – Тоже мне, мученик отыскался. Вон как на тот свет захотелось – аж глазенки заблестели у паршивца. А вот фиг тебе. Перебьешься со смертью».
– Выход можно найти всегда, – произнес он громко, чтобы слышали все переселенцы. – Только кое-кому очень хочется поскорее надеть на голову мученический венец – и совершенно нет желания вместо этого сесть и как следует подумать. Ну и ладно, – убавил он голос. – Я и один чего-нибудь надумаю.
Правда, хорошая идея пришла ему в голову далеко не сразу, а лишь к исходу второго дня, и помогли ему в этом, как ни удивительно, дары Данило Кобяковича. Точнее, даже не сами дары, а живой довесок к ним.
Словом, попался ему на глаза один из половецких пастухов, который обратился к князю за какой-то своей нуждой. Когда Константин выяснял, что же ему все-таки понадобилось от него, обратил внимание на простенький медный крест, болтавшийся у половца на груди.
Дело в том, что хан, желая как можно лучше угодить своему шурину, отрядил в пастухи только тех, кто принял христианство и прошел обряд крещения. В степи это просто – взял и окрестился, если священник под рукой имеется. А вот дальше… Дальше они вели себя точно так же, как и до обряда. Словом, в христианах эти ребята только числились. Тут-то Константина и осенило.
– Слушай, Франсуа, – тут же решил он поделиться соображениями с миссионером, оказавшимся как раз поблизости. – А ведь я придумал выход, который одинаково подойдет для нас обоих.
Тот вежливо склонил голову, давая понять, что готов выслушать любую ахинею, которой сейчас разродится князь, хотя лично он сам не верит в то, что выход действительно найден, к тому же взаимоприемлемый. Впрочем, он все равно готов покориться любому княжескому приговору, как бы ни был тот несправедлив. Все переселенцы, которые в этот момент оказались рядом, тоже навострили уши.
– Ведь ты не давал обета, что будешь нести свет своей веры именно русичам, верно? – начал Константин с небольшой прелюдии.
– Нет. Нам с Якоби все равно. У всех люди равно нужда в вера, только они не всегда знать это, – твердо ответил Франсуа.
– Вот и чудесно, – заулыбался Константин. – Я тебе сейчас покажу несколько человек, у которых, правда, на груди есть христианский крест, но на самом деле они ничегошеньки не знают. Очень темные люди. Даже вашу любимую молитву «Отче наш» они пересказать по памяти не смогут.
– Она не любимая – она единственная, равно как и истинное евангелие есть только одно – от Иоанна[40], – строго поправил князя миссионер.
– Если ты думаешь, что я сейчас вступлю с тобой в богословский диспут, то заблуждаешься, – заметил Константин. – Всякий может верить так, как его душе угодно. Мне все равно. Так вот, у них даже крест на груди далеко не каждый носит.
– Крест не носить – это правильно[41], – горячо поддержал Франсуа неведомых темных людей. – Оно – казнь. – Он замешкался, подыскивая нужное слово. – Они думать верно, – выжал он наконец из себя.
– Я понял тебя. Орудие казни учителя, по-твоему, носить нельзя и кланяться ему негоже, – кивнул Константин.
– Так они язычники, что ли?! – громко возмутился один из дружинников, тоже оказавшийся поблизости.
– А ты помолчи, – сердито одернул его Константин, но потом, смягчившись, пояснил: – Просто вера у них иная, вот и все.
– Латиняне[42], что ли? – не унимался любознательный дружинник.
– Латинян они терпеть не могут.
– Ну, тогда ладно, – благодушно махнул он рукой и побрел дальше, к дому Леща.
– Главное не в этом, – продолжил Константин излагать свою мысль. – Тут другое важно. Никто из них не видел света вашей веры, которую можете принести им вы с Якоби. И я дозволяю вам проповедовать среди них столько, сколько душе вашей угодно. Начните пока с малого. Здесь их у меня примерно с десяток. Вот ими и займитесь, а заодно языку половецкому подучитесь. Как только освоитесь, почувствуете, что окончательно обратили их в свою веру, так они сами вас к себе в орду отвезут.
– Плыть на корабль? – тоскливо вздохнул Франсуа, а Якоби почему-то и вовсе позеленел.
– Зачем плыть?.. Ну, разве что совсем недолго и по реке. На тот берег Дона перемахнете с ними, а дальше сушей. Да тут рядом. Разумеется, вначале вы дадите мне слово, что среди русичей проповедовать не будете.
– Но только до тех пор, пока они все не перейти в истинный вера, – уточнил Франсуа и тут же осведомился: – А потом мы получать это право?
– Потом… – задумчиво протянул Константин, быстренько прикидывая в уме, насколько вероятна возможность обращения всех половецких орд в истинную веру этой тщедушной и тощей французской парочкой. Придя к выводу, что она очень близка к нулю, радостно выпалил:
– Тогда я разрешу нести свет вашей веры дальше.
Еще чуть поразмыслив, Константин все-таки допустил ничтожно малую возможность того, что эти одержимые, благодаря своему фанатизму и невероятно удачному для них стечению обстоятельств, действительно могут управиться со всеми половцами, и внес на всякий случай оговорку:
– Но вначале вы разыскиваете меня, я проверяю результаты титанического труда… или нет, я просто поверю вам на слово, после чего – о! – я тут же нахожу вам еще одно местечко, – вовремя вспомнил он про дикие племена в междуречье Волги и Урала, то есть – тьфу ты! – Яика, или как он там именуется ныне.
– Корабль, плыть? – с тоской спросил снова позеленевший Якоби.
– Да что тебе так поплавать-то приспичило? – с досадой отмахнулся Константин. – Тоже все рядышком. Причем настолько близко, что вас потом эти темные, которые просветлеют, прямиком к другим темным доставят.
– А потом? – не унимался Франсуа.
Константин с уважением посмотрел на неугомонного проповедника «истинного божьего слова» и тихо заметил:
– Ты и с этими за сто лет не управишься. Но если уж вдруг и с ними все так быстро получится, то можете быть спокойны – без работы я вас не оставлю. У нас на Руси этих мест с темными народами столько, что если вы вдвоем будете даже триста лет проповедовать – и то не успеете.
Он произвел в уме немудреные подсчеты. «Значит, потом их к прибалтийским дикарям, всяким там эстам, литам, латам, земгалам, литовцам, пруссам, жмуди, оттуда к северу – пермяки, водь, чудь, весь… Да-а-а…»
– Неправильно я подсчитал, – заметил князь. – Не меньше пятисот лет. Точно-точно, – подтвердил он, заметив легкий скепсис на лице Якоби.
– Ну а потом-то можно и прийти к русичи, – заупрямился Франсуа.
– Через пятьсот лет?
– Нет, сразу, как только мы закончим с ними со всеми, – с уверенностью пояснил миссионер.
– Потом дозволяю, – великодушно разрешил Константин. – А до этого к ним ни ногой. Даете слово?
– Даем, – дружно отозвались оба.
– Ты нам верить? – озабоченно спросил Франсуа. – Мы все равно не мочь давать клятва, и если ты нам не верить, то…
– Конечно же, верю. Вы народ честный, – продолжал улыбаться князь и шутливо погрозил им пальцем. – Только не филонить!.. Уж проповедовать, так проповедовать, без отдыха и перекуров, тьфу ты, словом, чтоб работали по двадцать пять часов в сутки.
– Сутки есть не столько… – снова замялся с подбором слов дотошный Франсуа, но Константин сразу замахал на него руками.
– Знаю я, знаю, – и посоветовал: – А вы вставайте на час раньше, – чем окончательно поставил их в тупик.
Впрочем, размышляли они над загадочной мудростью, высказанной под конец князем, недолго. Глаза их радостно горели тем вдохновенным светом, какой бывает лишь у людей, без остатка поглощенных одной идеей и вдруг узнавших, что теперь им ничто не препятствует попытаться осуществить ее на практике.
«Фанатики, – сделал вывод Константин. – Как есть фанатики. Ну и ладно. Теперь это дело не мое, а половцев и конкретно хана Данилы Кобяковича. Хотя стоп! А за каким шутом мы будем подсылать этих дезорганизаторов боевого духа к нашему многоуважаемому шурину? Нет, мои миленькие. Эти пастухи вас, голубчиков, не куда-нибудь, а прямиком к Юрию Кончаковичу отправят. Вот пускай он теперь с вами и отдувается».
Константин так развеселился, что приподнятое жизнерадостное настроение от столь удачно решенной проблемы не покидало его на протяжении всего обратного пути домой.
Конечно, примешивалось некоторое легкое чувство беспокойства. «Как там без меня? Господи, хоть на сей раз могу я приехать и не окунуться, как в ушат, в очередные беды и горести, которые снова приключились в мое отсутствие», – взмолился он к небесам. Однако небеса молчали, очевидно готовя очередной подвох.
Впрочем, поначалу все шло как нельзя лучше. Уже подплыв к Ряжску и сделав там небольшой передых, князь узнал, что все везде в порядке, а на границах тишина. Конечно, они, находясь на самой южной окраине, почти возле границы, могли и не знать о чем-то таком, что приключилось буквально накануне, однако и в Рязани тоже не произошло ничего из ряда вон выходящего.
Это Константин понял, едва добрался до столицы. При виде родного города и толпы встречающих на пристани князь чуть не прослезился. «Вот поди ж ты – всего-то месяц, ну пусть полтора, отсутствовал, а как соскучился», – удивился он сам себе.
Но самое главное было то, что в первом ряду на старых дощатых мостках стоял воевода Вячеслав собственной персоной, да еще в окружении нескольких тысяцких. «Теперь-то уж точно ясно, что все в порядке, – сделал Константин вполне логичный вывод. – Неужто и впрямь небо молитвы мои услышало?»
И в самом деле получалось, что можно малость и передохнуть, раз даже соседи-черниговцы молчали. Пусть злобно, затаив ярость и ненависть, но ведь молчали же. Правда, именно там за время отсутствия Константина как раз и произошли некоторые неприятные для Рязанского княжества перемены. Княжеский престол умершего Глеба Святославовича занял его брат Мстислав, тот самый, который и был инициатором убийства всего рязанского посольства. Ждать от него можно было лишь гадостей, но каких именно – тут оставалось только гадать и… готовиться к самому неприятному.
После обстоятельного доклада своего воеводы и веселого пиршества по случаю возвращения Константин совсем развеселился. Не смутил его и разговор с Вячеславом, который состоялся уже на следующий день.
* * *
И тако рьяно князь Константин ереси потакаша всякой, что учаша из иных стран еретиков звати, кои в радости великой на Русь текли рекою смрадною.
Из Суздальско-Филаретовской летописи 1236 года.Издание Российской академии наук. СПб., 1817
* * *
И бысть оные людишки числом невелики, аще пользы от их во мнози на Руси сталось.
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 года.Издание Российской академии наук. СПб., 1760
* * *
Откуда пришла волна переселенцев – мы знаем, но вот каким образом они узнали про пустующие земли, – точно неведомо. Историки Ю. А. Потапов и В. Н. Мездрик делают совершенно неверный вывод, будто их позвали на Русь специальные эмиссары князя Константина, ссылаясь при этом на соответствующий отрывок одной из летописи.
При всем моем уважении к рязанскому князю, думается, что тут они перехватили через край. Для этого он должен был бы обладать столь широкими взглядами на религию, кои по меньшей мере свойственны разве что человеку XVIII столетия, а то и нашему современнику из XIX века, уж очень смелым решением это было. Другое дело, что переселенцы-катары, спасаясь от репрессий, просто узнали от купцов-единоверцев про пустующие благодатные земли и, пребывая в отчаянии от бесконечных преследований, решили нанять корабли…
Иное дело, что князь Константин, узнав о том, что кто-то уже поселился на этих землях, впоследствии мастерски использовал это обстоятельство. Желая овладеть низовьем Дона, он взял их, не устрашившись осуждения со стороны православного духовенства, под свое крыло.
Правда, непонятно, каким именно образом они смогли договориться с половцами, чтобы те их не трогали. А ведь факт остается фактом – на протяжении долгого времени это было абсолютно мирное сосуществование двух разных народов с диаметрально противоположным укладом жизни и резко отличными друг от друга верованиями.
О. А. Албул. Наиболее полная история российской государственности.СПб., 1830. Т. 2, с. 155.
Глава 3
Змеиный клубок
О, нам явивший кровь, господь, отмсти!
Пусть небо громом поразит убийцу,
Иль пусть земля разверзнется под ним,
Пожрет его, кто, наущенный адом,
Безвинной кровью землю напоил.
В. Шекспир
– Княже! Я так мыслю, что с этим гадюшником надо что-то делать.
Намек Вячеслава на соседей-князей, зачастивших за последние месяцы с визитами к Ярославу Всеволодовичу, был прозрачным, как ключевая вода из родника.
– Он в своем княжестве, – вздохнул Константин. – И властен творить в нем что угодно.
– Которое ты ему по простоте душевной подарил, – уточнил воевода. – Нет, я все понимаю – любовь там у тебя и прочие амуры в кустах свищут, но сердцем чую – в копеечку они тебе обойдутся.
– Амуры не свищут. Амуры стреляют, – буркнул князь.
– Точно! – восхитился Вячеслав. – В самое яблочко ты, княже, угодил. Этот как раз вот-вот стрелять начнет. Причем не один, а со всей толпой. А народу у них там – о-го-го. А у меня всего две дивизии полного состава, из которых полторы – сырье необученное.
– Они что – тупее наших? Ты рязанских столько же по времени учил, даже меньше, а Ярослава все равно раздолбал зимой в первый раз.
– Совершенству нет предела, – туманно заметил воевода и честно сознался: – Уму непостижимо, как мы ту сечу выиграли. Хорошо, что с двумя рвами додумались, в которые Ярослав сотни три ухнул, если не больше. И с полком засадным ты вовремя подсуетился. Но если в целом брать, то наших тоже еще гонять и гонять надо. Сам видишь, что я сейчас согласно твоим ценным указаниям конницу наращиваю, а людей-то в нее откуда брать? Из пехоты. Значит, одно усиливается, а другое ослабляется.
– Ты практические показные занятия делай, – посоветовал Константин. – Самых лучших и смышленых из пехоты подергай, на них отработай все новое, а остальным показывай, к чему стремиться надо.
– Мысль хорошая, – с уважением заметил Вячеслав. – Знаешь, Костя, если бы ты всякой ерундой не занимался типа политики, то из тебя неплохой военный получился бы. Я бы тебя хоть сейчас в дружину сотником поставил.
– А повыше? – усмехнулся князь.
– Ну, для этого ты молодой еще. Тебя предварительно погонять с месячишко надо, а там, глядишь, и повысить в чине можно, – обнадежил Вячеслав.
– Спасибо за радужные перспективы, – вздохнул Константин.
– Да любой каприз за твои гривны, княже, – бодро откликнулся воевода и повторил вопрос: – А с гадюшником-то что делать будем?
– У тебя самого идеи есть?
– Ни одной, – обескураженно развел руками Вячеслав.
– Вот и у меня такое же обилие. Значит, ждать будем.
– Вслепую? – хмыкнул воевода. – Как говорила моя мамочка Клавдия Гавриловна, там, где зрячий даже не запнется, слепец может запросто разбить голову, а оно нам надо?
– Мы не слепые. Там Любомир вовсю трудится, – напомнил Константин.
– Что-то я начинаю разочаровываться в нашем Штирлице, – скептически заметил Вячеслав. – По-моему, папаша Ярослав Мюллерович обыгрывает его вчистую.
– Время терпит, – успокоил его князь. – Ты выгляни в окошко.
– А чего туда заглядывать, – пренебрежительно махнул рукой воевода. – Даже у тебя во дворе, невзирая на дощатый настил, грязь непролазная. Да и окошки мутноватые наш Эдисон состряпал – не больно-то полюбуешься.
– Правильно, грязь. Как и положено в апреле месяце на Руси. Потому и говорю, что время терпит. Наши люди за новостями укатили, а обратно выехать не могут – паводок хоть и закончился, а земля-то до сих пор как кисель. Пусть подъедут, тогда и будем прикидывать, что к чему да почем. Я не думаю, что они раньше лета на что-нибудь решатся. Значит, успеем.
Под словом «они» Константин подразумевал целую коалицию князей, которая начала группироваться вокруг Ярослава – последнего из оставшихся в живых сыновей Всеволода Большое Гнездо.
Казалось бы, всего-то десять лет миновало с тех пор, как всесильный Всеволод командовал чуть ли не всей Русью. Его длинные руки ставили своих князей не только в Рязани. Они дотягивались аж до Галицкого княжества, расположенного на юго-западной окраине страны. Но страшно неумолим бег времени. Чуть остановился, зазевался за пирами да охотами, не понял, что нужно делать, и все. Пиши пропало.
Если бы не было Константина Орешкина и его друзей, то его сын Юрий Всеволодович продержался бы на своем престоле еще почти двадцать лет. Сидел бы и глупо радовался то поражению южнорусских князей под Калкой, то бедам Волжской Булгарии, из сожженных городов которой к нему в Ростов, Владимир, Суздаль шел оставшийся в живых мастеровой люд, то трагедии Рязани – пускай ее Батыйка жжет, а то возгордились не по чину. А уж потом так же глупо погиб бы, утягивая за собой в общую братскую могилу все свои дружины и необученное ополчение. Бездарная жизнь прервалась бы такой же закономерной смертью.
В этой истории погиб он несколько раньше, но вреда от этого для Руси не было, хотя и про пользу тоже говорить вроде бы рановато. Будет она или нет – должно показать время.
В коалицию, во всяком случае, по последним данным, которые были получены еще перед весенней распутицей, входили практически все многочисленные правители Черниговского и Новгород-Северского княжеств, то есть западные соседи Константина, озлившиеся на рязанского князя за гибель своих сыновей и братьев.
Буйное племя Олега Святославовича, внука Ярослава Мудрого, такое прощать не собиралось. От немедленного вторжения Константина уберегло лишь то обстоятельство, что старейший из князей, сидевший на Черниговском столе, Глеб Святославович, правнук Олега Святославовича, потрясенный гибелью сына Мстислава, как его ни дергали, все равно не решался ни на что конкретное, а затем и вовсе скончался этой весной. Его смерть вызвала столько хлопот, связанных с очередным переделом наследства, что окончательно урядились князья лишь совсем недавно. На Черниговском столе уселся брат Глеба, Мстислав Святославович. Его место занял младший брат – Олег. Своему сыну Дмитрию Мстислав, пользуясь правом старшинства, дал в удел небольшой город Козельск с десятком-другим селищ. Второго, Святослава, наделил градом Карачевым, Андрею достался Мценск, который поначалу предполагалось выделить Гавриилу, но тот был зарублен в яростной сшибке близ селища Залесье дружинниками рязанского князя.
Мстислав, невзирая на гибель сразу двух сыновей – любимого старшего и столь же любимого младшего, не горячился. Он один из всей родни погибших на похоронах слезинки не выронил, только желваками на скулах недобро поигрывал.
Он же и стал второй причиной, по которой нападения сразу не произошло, но ничего хорошего для Константина это не сулило. Если в небе малые тучки разразятся дождиком, так то для урожая не беда, а польза. Худо, когда они медлят, в стаю собираясь. А она, свинцовая, почти фиолетовая, тяжело нависая над полями, уже не дождичком – градом страшным грозит обернуться, норовя все побить и изничтожить.
Мстислав именно такую тучу вокруг себя и собирал. Потому он после тризны поминальной и удержал князя Новгород-Северского Изяслава Владимировича от немедленных, но опрометчивых действий. А ведь тот, повинуясь гневным призывам своей матери Свободы Кончаковны, родной сестры самого могучего половецкого хана Юрия Кончаковича, уже порывался дружину свою, соединив с черниговской, вести на Рязань, мстить за Всеволода – брата повешенного.
– Осильнел рязанец не в меру, – сказал Мстислав угрюмо своему троюродному племяннику. – Если бы у него под рукой лишь рязанские да пронские дружины были – одно. Нынче же под его стягом и муромские полки, и со всей Владимирской Руси. Нашими сотнями его не одолеть. А то будет как деду твоему[43].
– Оставлять?! – горячился Изяслав. – Такое оставлять?! Да меня мать проклянет!
– И правильно сделает, – неожиданно согласился Мстислав. – Я не о том сейчас. Вот ты про мать сказывал. Это хорошо. Стало быть, один у нас есть подсобник – брат ее Юрий Кончакович. Он же не только тебе, он и брату твоему уй[44]. Но это же не все. Вот давай прямо сейчас вместе пройдемся по родам нашим и вспомянем – за кого еще дочери наши, тетки да бабки замуж повыходили.
– Изрядно народу наберется, – уважительно глядя на Мстислава, заметил Изяслав.
– А для начала вспомни, на ком твой стрый женат был?[45]
– Ну, на Ярославне Рюриковне. Ты, поди, про Олега хочешь сказать, – догадался Изяслав. – О том и я сам думал. Его-то мы непременно возьмем, только дружина курская невелика[46].
– Оно и так понятно, что Олег за братана[47] оместником пойдет, – отмахнулся нетерпеливо Мстислав. – А я про мать его Ярославу хотел сказать. Нынче в Смоленске ее брат Владимир Рюрикович сидит. Нешто он не подсобит в святом деле? А с ними вместе вяземцы и Давыд Мстиславич Торопецкий тоже пойдут. Главное же – про Ярослава Всеволодовича не забывай, который в Переяславле сидит. Ох и злобен он на Константина Рязанского.
– Он нынче не больно-то силен, – пренебрежительно отмахнулся Изяслав.
– С княжества его и впрямь много полков не собрать, – согласился Мстислав. – Однако и от такой подмоги отказываться не след. К тому же хоть он ныне ратной силой не силен, зато родство его дорогого стоит. Вспомни-ка, чей он зять?
– Удатный! – ахнул новгород-северский князь и даже по лбу себя кулаком стукнул с досады. – Как же это я сам сразу о нем не подумал?!
– Во-от, – поучительно протянул Мстислав. – А у Удатного потомков мужского пола ныне вовсе не осталось[48]. Одна надежда на дочек да на зятьев, чтоб хоть внуков дождаться. Раз он ныне в Галиче, значит, еще одно княжество рать выставит. А другой его зять, Даниил, Владимиро-Волынскими землями владеет. Опять добавка, да не одна. Тут тебе и Бельзский князь Александр, и Холмский князь, и Луцкий, где Ингварь сидит. Сам же Удатный не раз из беды Новгород выручал, когда там княжил. Стоит ему только кликнуть, как те мигом отзовутся. А помимо того, про киевского князя Мстислава Романовича не забудь. Это ведь его дочь Агафья за старшим Всеволодовичем замужем была. Как же он своим внучатам, несправедливо обиженным, не подсобит. Да не он один – старший его сын Святослав как раз сейчас на новгородский стол сел.
– Еще бы полоцких да турово-пинских князей заманить, и вся Русь воедино встанет, – мечтательно произнес Изяслав.
– Непременно подманим, – уверенно заявил Мстислав и недобро улыбнулся. – Им подсобить от литвинов надобно, да от немцев отбиться, что в Риге засели. Если пообещаем, что ныне дружно на рязанца ударим, а там сразу им на выручку придем – все как один откликнутся. И Витебский, и Минский, и Городненский, и Друцкие с Борисовскими – все потянутся. Оно, конечно, брат есть брат, но у меня и вовсе сыновей убили, да каких!.. Такое не прощают. Но и на рожон безрассудно лезть негоже. Так и голову сломить недолго. Я уж пожил, хотя к своим пяти с половиной десяткам еще полтора-два добавил бы. Но все ж не так страшно в ирий уходить. Однако до того очень мне охота самого убийцу на веревку вздеть. Лучше всего прямо на воротах Рязани стольной, да деньков на пять, чтоб провялился на солнышке, а уж опосля собакам кинуть. Но для этого, – он назидательно поднял указательный палец вверх, – всем воедино встать надобно, – и, сжав кулак, сурово погрозил им неведомо кому на небесах. – Всем! – грозно повторил он.
О многом и со многими Мстислав Святославович перемолвился самолично еще до весенней распутицы. Успел он и в Переяславле Южном побывать, и в Киев прокатился, и по всем остальным княжествам гонцов разослал. Не пожалев времени, добрался он и до Мстислава Удалого, который только-только забрал Галич из-под власти венгерского царевича Коломана, разбив его воевод вместе с польскими полками.
– О том, что сталось с зятем Ярославом, мне ведомо, – хмуро ответил новоявленный князь Галича. – Но тут еще Константина понять можно. Уж больно зятек у меня задиристый – сам виноват. А вот о том, что рязанец князей на дубах развешивает, впервой от тебя услыхал.
– А ежели он так со своими, со Святославичами, обошелся, то что от него ждать, когда ему Мономашичи в руки попадут?[49] Их и вовсе собакам кинет, – в тон ему поддакнул черниговский князь.
– Негоже так-то, – продолжая хмуриться, согласился Удатный.
– И опять же Юрьевичей[50] изобидел, – подливал масло в огонь Мстислав Святославович. – Ладно там Ярослав или даже Юрий. А покойный Константин нравом был смирен. Сам на Рязань не хаживал и полки братьям тоже не давал. А ныне как изгои[51] сидят три братца, все мал мала меньше, в южном Переяславле, а в вотчинах их пришлые рязанцы порядки свои наводят. Разве ж такое по правде, по старине?!
Ох, знал черниговский князь любовь Мстислава Удалого к справедливости, к древним дедовским обычаям и установлениям. Знал и играл ныне на этой слабой струнке, норовя добиться окончательного бесповоротного согласия на совместные действия. Честен князь Галицкий. Даст слово и уж тут никуда не денется. Как бы потом обстоятельства ни сложились – все равно его сдержит.
– За твоей дружиной со всей Руси полки пойдут, потому как ведают: где Удатный, там и победа, – польстил Мстислав Святославич собеседнику.
Это была еще одна струнка. И до этого некоторым удавалось сыграть на честолюбии Галицкого князя, но так тонко, как черниговец ныне, пожалуй, навряд ли кто сумел бы это сделать.
Одно только и препятствовало ныне замыслу отца, норовящему отомстить за смерть сына. О том Мстислав Святославович не ведал. Препятствие же это заключалось в грамотке, которую Удатный получил с неделю назад от своей дочери Ростиславы.
Писала она в ней, что ныне они на новом месте обосновались, в Переяславле-Южном, вот только насколько прочно – одному Богу ведомо, потому что нрав буйный Ярослава ее батюшке хорошо известен. Думается ей, что едва он на ноги встанет окончательно, так тут же непременно сызнова против рязанского князя Константина козни учнет строить, да и черниговцев с новгород-север-цами подбивать на это же.
Хотя сам Константин поступил достойно. Ярослава еле живого с битвы под Коломной он вывез во Владимир и дальше взаперти его не держал, отпустил с миром. Притом не посмотрел и на то, что муж ее перед отъездом крест целовать напрочь отказался, и не обещал, что он под ним, Константином, земли своей искать не будет. Прочих княжичей малолетних тоже ничем не обижал. Пока они во Владимире были, никак не утеснял, а ежели бы не заболел тяжко, то непременно сам приехал бы проводить. Но и без него людишки рязанские не озоровали и никаких обид не чинили, а, напротив, помогали всяко и в сборах, и по дороге до черниговских земель.
И вот теперь очень уж не согласовывались все слова этой грамотки с поведением Константина, который, по словам Мстислава Святославича, только за то, что князья приехали подсобить черниговскому попу окрестить закоренелых язычников, приказал всех четверых повесить. Ну никак одно с другим не сходилось. Вот и медлил Удатный, пообещав твердо только одно: что он сразу после весенней распутицы непременно приедет в Киев на княжеский совет, где надо будет все окончательно обговорить, потому что так сразу решать негоже.
«Опять же поглядим, может, и миром все уладим», – хотел было он добавить, однако, приглядевшись к бледно-восковому, будто из домовины только что вынули, лицу своего собеседника, говорить этого не стал.
Одни только глаза жили на этом лице, а в них неукротимый огонь полыхал. Галицкий князь в людях разбирался плохо, хуже некуда. Ловкий враг, который бойко языком владел, при личной встрече его запросто улестить мог, но тут даже Удатный понял, что никакие слова о замирении не помогут. Нет таких слов на свете, не придумали их люди. А те, что имеются, даже не бесполезными окажутся, а и вовсе вредными.
Пока сердце человека ненавистью кипит, торопиться нельзя. Это как раскаленный котел с глухой крышкой ключевой водой остужать. В лучшем случае крышку паром вышибет, в худшем – посудину разорвет. Тут одна надежда на время. Только оно в состоянии сердечную боль пригасить, а ненависть кипящую осторожно остудить. Но и то не всегда этот лекарь выручает, так что уж тут про человека-то говорить. Так что при расставании Мстислав Удатный иное сказал, уклончиво примирительное:
– У меня, ты и сам поди ведаешь, такая же беда по осени приключилась. К тому же Василий и вовсе единственным был. Потому понимаю я тебя не умом, а сердцем, и все силы приложу, чтобы боль твою утишить.
– Вот только винить в его смерти тебе некого. Василия господь прибрал. Моих же по злой воле рязанца казнили, будто татей каких, – непримиримо, почти враждебно возразил Мстислав Святославович.
– Зато твои за веру святую пострадали. Стало быть, непременно в раю ныне пребывают, – попробовал было утешить Удатный.
– На небесах всевышнему видней, кому и за что по справедливости воздать. Мы же на земле живем и убийцу подлого здесь судить должны, – сурово ответил черниговский князь, сжигаемый ненавистью.
А лекарю-времени и впрямь оставалось только руками развести. Ничуть не притушили прошедшие месяцы боли утраты. Столь же гневным был Мстислав Святославович и на княжеском совете в Киеве.
Именно благодаря ему пребывающие в колебаниях князья стали склоняться в сторону совместного всеобщего похода на Рязань. Окончательно же утвердились они в своем мнении, послушав беглого попика, которого рязанским дружинам так и не удалось поймать. Зело хитер был тот, повествуя о своих мытарствах и скитаниях. По сути не сказал он ни одного слова лжи. А к чему обман, когда в иных случаях можно правду так вывернуть наизнанку, что она больше зла натворит, чем ложь явная. Даже еще лучше получится, ведь уличить во вранье никто не сможет. Шли они зачем – во святую веру народец темный окрестить. Почему черниговцы с новгород-северцами? Так ведь епархия-то черниговская. Выходит, кого рязанец защищал? Верно, язычников поганых.
От таких слов чуть ли не каждому из князей, сидящих на совете, не по себе стало. Озноб по коже пробежал, хотя на самом деле в гриднице даже не тепло – жарко было. Уж очень хозяин палат, Мстислав Романович Киевский, к старости холод возненавидел, вот и велел холопам постараться на славу, дорогих гостей уважить.
Но как тут плечами не передернуть, не поежиться, когда не было на Руси такого, чтобы сам князь в ереси обвинялся прилюдно. Иные, вроде того же Святополка Окаянного[52], и вовсе до братоубийства докатились, да не до одного. Однако каждый два перста к голове прикладывал усердно, молился истово и уж в чем-чем, но в язычестве поганом никого из сидящих князей до этой поры не обвиняли.
Потому и загудела тревожно гридница обилием голосов, среди которых было и изрядное количество сомневающихся в истинности сказанного. Не то чтобы ложь изрекли уста отца Варфоломея, а просто погорячился поп. Скорее всего, князь за своих людей вступился, как ему и должно было поступить. А разве в такие минуты думаешь, кто они там по вере. Так что нет в этом ничего предосудительного.
Но тут как раз поднялся владыка Владимирский и Суздальский Симон. Ага, вот он-то сейчас и скажет, что со зла попик такое и ляпнул. Уж кому-кому, а епископу Владимирскому должно быть видно, что не повинен Константин в столь тяжком грехе. Вновь тихо стало в гриднице, все в слух обратились.
Симон же не спешил. Медленно снял с груди золотой тяжелый крест, неторопливо поднес к губам, поцеловал и, высоко вздымая над головой, провозгласил зычно:
– Подтверждаю сие…
Глава 4
Каинова печать
Известно, какова в русской земле война, поднятая за веру: нет силы сильнее веры. Непреоборима и грозна она, как нерукотворная скала среди бурного, вечно изменчивого моря.
Н. В. Гоголь
Поначалу владимирский епископ, представ перед митрополитом Матфеем, ограничился только жалобами на князя Константина. Но старик был здоровьем слаб и мечтал лишь об одном – прожить остаток лет в мире и покое.
К тому же что он мог сделать, если каждый новый князь вправе подтвердить прежние жалованные грамотки или отказаться это сделать. Действительно, до этого времени никто не отказывался и все только подтверждали. Но право-то они имели, хотя им и не пользовались.
Матфей не спорил с тем, что это был прецедент, да еще весьма опасный своей соблазнительностью для прочих князей. А с другой стороны – как с таким бороться? Грамоту отписать, в которой пожурить его, на жадность попенять?
А есть ли у него жадность-то? Коль была бы – не выкупал бы он частицы креста господнего за многие тысячи гривен, а выкупив – святыни в Киев ни за что бы не прислал, лишь одну у себя в Рязани оставив. Так что и тут вопрос спорный. Получалось, что и вовсе попрекнуть его нечем.
От церкви самого отлучить, как епископ настаивал? Это и вовсе перебор. Только из-за одних селищ монастырских с рязанцем свару начинать не просто глупо, а даже как-то непристойно. Получится, что тем самым они не княжескую – свою жадность выкажут. Хорошо ли это? Достойно ли?
Раздосадованный Симон, так ничего и не добившись, поехал назад через Переяславль-Южный. Как раз несколькими днями ранее туда привезли детей Константина и Юрия, а также еще болящего Ярослава.
О чем с ним епископ говорил – никто не знает. Тайной их беседа была. Известно только одно – оживился после нее князь, даже повеселел малость. В ту пору он как раз и принялся подзуживать черниговских и новгород-северских князей, чтобы они набеги устраивали на окраины рязанские. А тут прямо одно к одному – князьям этим попик изгнанный повстречался. В точности по пословице – на ловца и зверь бежит. Вот тебе и причина богоугодная отыскалась, а стало быть, уважительная.
Епископ же, вернувшись наконец к рождеству к себе во Владимир, узнал о том, как князь не только самовольно залез в монастырские тюрьмы, но и в его личной, епископской, двери для всех настежь распахнул.
Чего же далее от такого ждать? Чтобы он самого Симона куда спровадил?!
Шалишь, княже, мы еще повоюем. Тут тебе не Рязань, а епископ Владимирский не Арсений Рязанский, который последний год почитай полутрупом был.
И снова выехал Симон в Киев. На сей раз жалобы у него посерьезнее были. Одно дело, когда имущество монастырское отнимают, смердов забирают. Это все дела хозяйские. Ныне другое. Тут князь уже не в своем праве – на духовное посягнул, еретиков принялся из оков освобождать.
Право же это, что весьма немаловажно, не церковью – пращуром князя Константина утверждено, и грамота на это соответствующая имеется. В ней же черным по белому сказано, что помимо наследственных дел, семейных, блудодейных и прочего разврата церковному суду подлежат и еретики.
Все это он поначалу изложил князю Константину, выехав к нему в Переяславль-Залесский, где тот пока находился. Беседу с ним Симон закончил строго:
– На нас, служителей божьих, возложено тягостное сие дело. И в грамотке самого Владимира Красное Солнышко опять же указано, что ведовство, чародеяние, волхование, зеленничество, тако же кто неподобно церковь содеет, или кто под овином молится, или во ржи, или под рощением, или у воды, надлежит нам разбирать, а князьям, боярам и судьям в то вступаться нельзя. Ты же, князь, вступился. Я тебя не виню – не слыхал ты про изреченное пращуром твоим или забыл про оное. Понимаю, дел много. Теперь же о сем ведай. – И окинул суровым взглядом сидящего перед ним слабого от болезни князя, прикидывая, что бы такое с него содрать подороже, когда он каяться начнет.
Совесть у епископа была чиста. Не для себя он – для церкви Христовой старался. Сейчас, как он прикидывал, князя додавить легче всего будет – вон какой бледный и пальцы дрожат. Если не от испуга сдастся, то от немощи. Когда тело не в порядке, человек и духом слаб. Тут уж одно к одному цепляется, ибо тело и душа в единстве обретаются. Но князь неожиданно оказался стоек.
– А кому решать, владыка, еретик человек или нет? – кротко спросил он у Симона.
Епископ даже растерялся поначалу.
– То есть как кому, – возмутился он. – Церкви.
– О том в грамоте ничего не сказано, – нахально заявил князь. – Подлежат суду церковному те, кто не словом, а делом что-либо против церкви сотворил. Хотя и это, как я полагаю, не церковь судить должна, а тот, против которого само деяние направлено.
– И кто же это, по-твоему, княже?
– Бог, – коротко ответил Константин.
– Но нашими руками, – внес поправку Симон.
– Только не вашими, – усмехнулся князь. – В писании как сказано: «Не судите, да не судимы будете». Это ведь ко всем христианам относится, но к вам – в первую очередь. Почто ж вы заветы господа нашего не выполняете?
– По-твоему выходит, что и вовсе все суды отменить надо или язычников поганых в судьи поставить, – отрезал епископ, со злорадством наблюдая, как его собеседник вытирает платком испарину, выступившую у него на лице.
«Дожму, – подумал он уверенно. – С кем решил в богословии тягаться. Нет уж, княже, шалишь».
– Мы – власть светская. Нас не на небесах в князья саживали. Да и сами мы на земле живем. Приходится от заповедей отступать. И судим, и убиваем иногда. Что делать, грешны, – сокрушенно развел Константин руками. – С вас же иной спрос. Вы прямые служители Христа. Вам и от буковки малой отступать не положено, а уж от слов, где яснее ясного заповедано, тем паче негоже.
– Надо ли это понимать так, что ты, князь, и впредь еретикам, волхвам и прочим язычникам будешь заступу свою давать? – спросил со всей откровенностью епископ.
Так спросил, что положительного ответа дать нельзя было. Значит, князь сейчас согласится с ним. Вот тебе ниточка и потянется. Один раз отшатнулся, отступил, тут его лишь додавить останется. Главное – навалившись, передыху ему не дать. Но князь хитер оказался. Ответил совсем не так, как ожидал Симон.
– Я обязан по долгу своему княжескому всем справедливый суд дать. Всем, владыка, без исключения. Потому вначале мои люди твердо знать должны, что перед ними злобный еретик, кой не только умышляет пакость какую-нибудь учинить, но уже и сотворил ее. За умысел, делом не подкрепленный, карать негоже, зато волхву, который зло сотворил, не может быть никакой заступы.
«Ой лукав ты, князь, – подумал епископ с невольным уважением. – Ну, погоди. Я ж тебя все едино в бараний рог согну».
– Волхв уже тогда зло творит, когда кровь людскую своим идолищам поганым в жертву приносит, – произнес Симон веско.
– Ты зрил где такое? Тогда скажи, – предложил Константин. – Нынче же мои люди его в железа закуют. Прямо сейчас их отправлю имать злодея.
– Ну а если он просто своим богам молится, то разве не подлежит суду за это?
– Так ведь бог един, – простодушно произнес князь. – Раз волхв богу молится, значит, какому – да нашему же, христианскому. Пусть он даже сам того не знает, но ведь нам-то с тобой, владыка, это хорошо ведомо, верно?
– Должен ли я так тебя понимать, что ты от деяний своих не отступишься ныне и повелений своих не отменишь? – решил одним ударом поставить все точки над «i» епископ.
– Правильно понимаешь, – кивнул князь. – Вначале я или мои люди решат, еретик ли он, а уж потом… – Он, не договорив, снова вытер платком мокрый лоб и, указывая на печь, которая выходила своей задней стороной в его небольшую светелку, пожаловался: – Душновато здесь, владыка, и жарко очень.
«По сравнению с огнем адским, кой тебя ждет, здесь холодно совсем», – чуть не сорвалось с языка епископа, но он сдержался, напомнил только:
– Проклят будет пращуром твоим князем Володимером в сей век и в будущий всяк, кто обидит суд церковный или отнимет что у него. Это тебе тоже ведомо?






