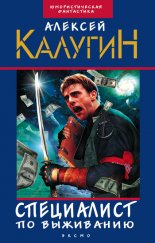Архив Штемлер Илья
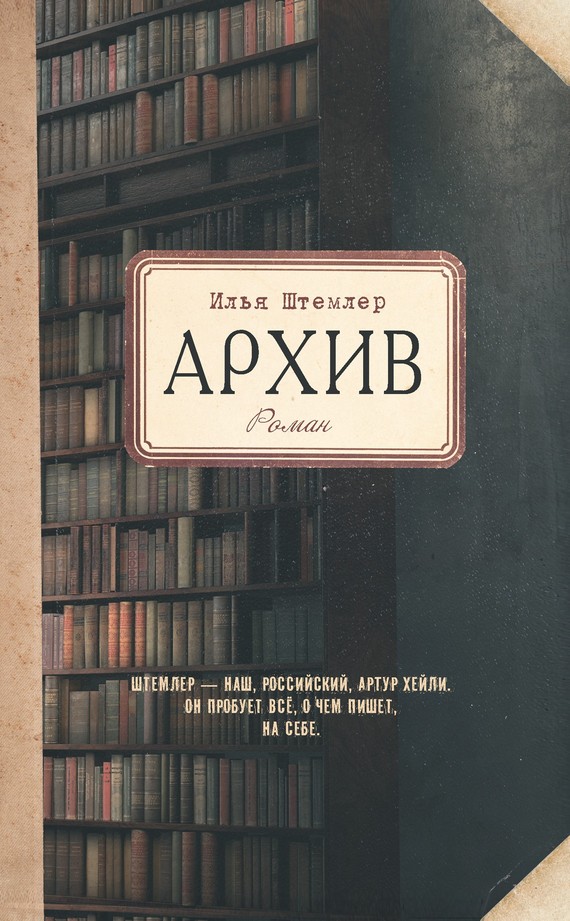
– А ты молчи, придурочный! – истерично выкрикнула Шереметьева. – Мне стыдно, что я работаю с такими, как ты и твоя хозяйка… Да, да… Если мы, каждый из нас, не решимся на самую высокую правду, все погибнет. Не только от Гальпериных, но и от Тимофеевых…
– Правильно! – закричали жидковато в зале. – Верно, Шереметьева! Пусть уезжают к своей Стене Плача. Не перевелись еще у нас специалисты…
А шум нарастал… Кто-то даже встал на сиденье, чтобы лучше видеть. Или понять. Мирошук и Шелкопрядов кричали в зал, пытаясь успокоить… Многие из сидящих с испугом и изумлением оглядывали своих орущих соседей, которых они впервые вообще видели в архиве…
Сквозь толпу к столу президиума продирался полноватый мужчина в синем рабочем халате.
– Посторонись! – кричал он хриплым, уже знакомым голосом, словно профессиональный носильщик. – Посторонись! – проходя мимо Брусницына, мужчина неуклюже наступил на отставленную в проход ногу Анатолия Семеновича…
Брусницын поморщился и с некоторым недоумением проводил взглядом настырного мужчину, признавая в нем вспомогательного рабочего Ефима Хомякова… Вот тебе на! Неужели и он собирается митинговать?
Брусницын вытер о брюки вспотевшие ладони… Надо решиться, думал он, если уж и этот… Иначе все может полететь к черту! Надо заявить о себе. Прямо и решительно. Иначе его не заметят, могут выдвинуть другого человека, хотя бы из института Истории могут пригласить. Кто теперь будет считаться с мнением бывшего заместителя по науке Гальперина? Никто! Надо действовать решительно… А ладони вновь покрылись потом, липким и холодным.
Брусницын вновь вытянул в проход ногу для удобства и полез в карман брюк, вытащил кошелек. То поднимая глаза, чтобы следить за происходящим у стола президиума, но вновь опуская, он считал деньги. Хорошо, что Зоя оставила ему двадцать пять рублей, отнести долг родителям. И своих было в заначке семь рублей. В сумме – тридцать два рубля… Надо еще одиннадцать, эх, черт… Такое может быть раз в жизни…
Тем временем Хомяков вскочил на возвышение.
– В чем дело?! – выкрикнул Мирошук. – Вам-то что здесь нужно?
– Скажу, скажу, – пообещал Хомяков и обернулся к залу.
Круглое лицо пылало фанатичным азартом… Все собрание он сдерживал себя. Иногда прорывало, и он выкрикивал что-то своим хриплым голосом. «Ну зачем тебе? – укорял он себя. – Жизнь тебя учила, дурака. Погонят из архива и все тут!» И лишится он варгасовской премии. Нет, после этого не погонят, перечил другой голос, испугаются. Таких везде пугаются. Гальперина – погонят, а меня – нет. Напрасно эта крикуха, Тимофеева, дунула отсюда, было бы ей уроком, а то небось считает меня последним человеком… Хомяков уже сталкивался по работе с начальницей, она ему выдала за небрежную транспортировку, грозила выгнать. Это воспоминание еще больше подтолкнуло Хомякова. Не выгонит теперь, не посмеет. У Хомякова будет верный козырь. Ве-е-рный! Испытанный годами! Ему, как недоучке истфака педагогического института, это известно. Конечно, Хомяков мог плюнуть и растереть, ну их! В тени спокойней, не обожжет. Да и сердце вот-вот выскочит, так весь и обмирает… Но ничего не мог с собой поделать Хомяков, Ефим Степанович. Ноги сами тянули его к председательскому столу.
– Вот что, – начал он ловить свои снующие мысли. – Не мог я усидеть на месте, когда такое происходит. С души воротит. Я человек маленький, вожу в тележке документы… Но душа обливается кровью. Как же так, а? Товарищи! Оказывается, родственники заместителя директора по науке живут «за бугром», как он выразился. А у самого под рукой несметные богатства наши, российские, бесценные документы? А?!
– Верно говорит работяга, – поддержали в зале. – Думать надо, товарищи!
Гальперин смотрел на возникшего вдруг у стола человека. На его распухшее бледное лицо, на розовую плешь, что проявилась под короткими сивыми волосами, на зоб, тестом наползающий на синий рабочий халат… Мысль, что сверлила Гальперина тогда, в кабинете директора, вновь торкнула память… Постой, постой! Конечно, именно… синий халат. Тот, добросовестный санитар из морга Второй Градской больницы, был в таком же синем халате, когда хоронили мать Кольки Никитина, старого гальперинского дружка.
– Послушайте! – перебил Гальперин. – А вы не работали в морге? А?! Вторая Градская больница!
Лицо Хомякова стало еще бледнее.
– Да. Ну и что? – ответил Хомяков.
– Я и смотрю, знакомая харя, – Гальперин был верен себе, не выбирал особенно слов. – Работали в морге, спроваживали покойников. А теперь вот собрались и меня спровадить… Не рано ли, приятель?
Зал с любопытством внимал разговору. Мало профессий, которые в душе человека вызвали бы такое отстранение, как та, чем занимался в прошлом Хомяков. Что-то сместилось в общей атмосфере. Даже крикуны из стаи доктора наук Альпина-Альперовича почувствовали явную неловкость.
Анатолий Брусницын приподнялся с места и, согнувшись, потянулся к Колесникову.
– Женька, одолжи одиннадцать рублей, а? Будь другом, – шепнул он тому на ухо.
Колесников скосил хмельные глаза, он ничего не понимал – какие деньги? Что тот, сдурел? Нашел время! И вновь уставился на возвышение в конце зала.
– Прошу тебя, мне надо. Срочно! – молил Брусницын.
– Ну ты, ей-богу! – шепотом сердился Колесников. – Где я тебе возьму?
– Ну дай, умоляю, хоть сколько.
У Колесникова оставалось рублей семь, а до получки еще неделя.
– Завтра верну, клянусь жизнью. С утра, – сипел Брусницын.
Колесников уловил особую интонацию этой, неуместной сейчас, просьбы. Так Брусницын никогда не говорил… Не отводя глаз от трибуны, Колесников полез в карман и сразу нащупал деньги, благо кошелек его никогда не отягощал.
Брусницын цапнул мятые рубли и, согнувшись, вернулся на место. Пересчитал – семь рублей. Итого, тридцать девять. Еще надо четыре рубля. Четыре рубля, от которых зависит так много… Брусницын вертел головой, искал, у кого бы стрельнуть?!
Тишина в зале его чем-то встревожила. Он поднял глаза, увидел по-прежнему стоящего со стороны Гальперина этого Хомякова. Но разобраться в ситуации не успел, услышал за спиной чей-то сдавленный шепот:
– Хана Илье Борисовичу. Раз уж гробокопатели пошли в атаку.
– Они давно в атаке, – согласился другой голос. – Выбьют Гальперина, как пить дать. А жаль.
Этот разговор штопором ввинтился в мозг Брусницына, изгоняя остатки сомнений. Но где взять четыре рубля?! Проклятая нищенская контора!
И тут его взгляд упал на Ксению… Та стояла неподалеку, разметав по стене спутанные льняные волосы. На тесно прижатых к груди руках висела сумочка. Затуманенные большие глаза, казалось, закрыли собой все лицо. А губы, крупные, мужские, словно заживающий шрам… Что, если попросить у нее?! В подобной ситуации мысль эта выглядела неприличной до безумия и, как всякое безумие, оправдывалась состоянием, а состояние у Анатолия Брусницына сейчас было и впрямь близко к безумию.
Он вскочил с места и сделал несколько шагов.
– Извините, – прошептал он. – Вы меня помните?
Ксения машинально перевела взгляд огромных, но странно спокойных, даже отчужденных глаз на Брусницына.
Дергая плечами и запинаясь, Брусницын изложил свою просьбу. Ксения вначале не поняла. Потом таким же заторможенным, сомнамбулическим движением она достала из сумки какую-то бумажку и протянула не глядя Брусницыну.
Едва поблагодарив, Брусницын мельком распознал купюру и сложил пятерку с остальными деньгами. Все! Набрал…
Его дальнейшие действия были точно вверены иным силам, близким тем, что толкали его к наглухо захлопнутым дверям. Он чувствовал лихорадку, воспаление головы. И, отдавая отчет своим поступкам, был не в силах им сопротивляться, как покоряется судьбе измученный и павший духом утопающий.
Илья Борисович Гальперин не сразу и сообразил, что между ним и Хомяковым возникла фигура руководителя группы каталога Анатолия Семеновича Брусницына. Гальперин перегнулся, продолжая что-то выговаривать Хомякову… И тут увидел, как Брусницын положил на край стола какие-то деньги.
Гальперин умолк, в недоумении переводя взгляд на Брусницына. Тот стоял, худощавый, сутулый, с еще более поникшими покатыми плечами. Казалось, крупная голова насажена на острие пики…
– Что это? – удивленно спросил Мирошук при полной тишине зала.
– Я… Это долг… Я был должен Гальперину сорок три рубля, – произнес Брусницын с паузами, но довольно громко. – Вся эта история… Мне все это неприятно… Я не могу быть должником такого человека, – он умолк.
– Да… – буркнул Мирошук. – Нашли время и место, ничего не скажешь.
И вновь тишина.
Гальперин протянул тяжелые руки, подобрал деньги. Усмехнулся своим маленьким детским ртом, если можно принять за усмешку судорожное движение губ.
– А вы… Анатолий Семенович… довольно обязательный молодой человек, – произнес Гальперин и, отбросив деньги, вскинул руки, закрыв растопыренными пальцами свое лицо.
Так он и сидел, закрыв лицо руками.
Брусницын сошел с возвышения, всем телом слушая зал.
Зал безмолвствовал.
Проходя мимо Колесникова, он тронул ладонью его острое плечо. Колесников не шевельнулся, глядя в пол.
Еще немного – и Брусницын доберется до своего места.
И тут Ксения оттолкнулась спиной от стены, шагнула Брусницыну навстречу и коротко, без размаха, по-мужски, сжатым кулаком ударила Брусницына в лицо.
Тот охнул, вцепился в спинку стула и завалился на свое место.
Глава третья
1
Поздним вечером, когда окончательно остановилась и без того полусонная архивная жизнь, когда, готовясь к ночи, из всех коридоров, ниш и приделов бывшего монастыря, подобно теплому туману, выползала тишина и когда каждый шаг, даже самый осторожный, вламывался выстрелом, Захар Савельевич Мирошук отправился домой. К жене Марии, что весь вечер названивала и кричала, что ей надо идти к больной сестре, что у соседей сверху прорвалась вода и, возможно, потечет к ним; чтоб, проходя по Речному, не забыл в гастрономе купить майонез.
Мирошук не прикасался бы к телефону, но каждый раз ему казалось, что звонит Гальперин, а оказывался голос, знакомый Мирошуку уже более четверти века.
Гальперин так и не позвонил, хотя Мирошук просил его об этом, сказал, что будет ждать. Самому же позвонить Гальперину рука не поднималась.
Миновав узкую горловину перехода, Мирошук вступил в помещение, где несколько часов назад закончилось собрание. Остановился у дощатого возвышения и привалился плечом к фанерной перегородке.
Хаотично сдвинутые стулья с прямыми спинками напоминали возбужденных людей, сидящих в зале, а откинутые сиденья – подобие разинутых в крике ртов… Все это миражом рисовалось перед глазами Захара Савельевича, отзываясь в душе тоскливой, неясной виной…
Он взобрался на возвышение, сел на свое, некогда председательское место. Воображение хранило недавнюю баталию, и в то же время пустой зал своей покорностью словно удовлетворял тщеславие Мирошука. Было бы так в жизни, вздохнул про себя директор. Нет, шумят, чего-то требуют, кроют друг друга, ярятся. Сколько дрязг приходилось разбирать на бывшей работе, в коммунальном хозяйстве! Думал – в архиве его ждет спокойная жизнь, все в прошлом, нечего делить. Ан нет! Оказывается, не тише, чем в коммунхозе. И даже словами теми же бросаются, а ведь, казалось, люди образованные!
Мирошук еще раз вздохнул, припомнил, как однажды от ревизионной комиссии исполкома ему довелось присутствовать на собрании работников культуры. У многих выступающих к тому же были профессионально поставленные голоса… Неделю после этого Мирошук в себя не мог прийти… Разные люди, а когда сцепятся – словно одной краской всех окрашивает. И вправду, вышли мы все из народа, дети семьи трудовой… Видно, в гневе все это и проявляется. Или сущность людская такова?! Как-то у Гальперина на столе Мирошук увидел записную книжку. Добротную, в темно-коричневом сафьяновом переплете с вензелем. Дневник барона Врангеля, того самого, голубых кровей. Стал читать, в глазах зарябило от некоторых страниц. Очень прогневала барона собственная супруга, разбила какой-то фамильный бокал. Ох и выдал ей барон в дневнике, куда там участники сегодняшнего собрания! Не выбирал слов его превосходительство…
И вновь мысли Мирошука вернулись к Гальперину. Может, переломить себя, позвонить самому?
Собрание, которому, казалось, не будет конца, как-то сразу завершилось. Признаться, Мирошук толком и не понял, что произошло. Шум, крики. Толкотня в проходе. Куда-то вдруг исчез Гальперин. Порученец Шелкопрядов так и не выступил, потому как люди покидали зал, никого нельзя было задержать. Позже Мирошук узнал, что какая-то женщина съездила Брусницыну по физиономии…
Мирошук сидел в кабинете, просматривал перечень сданных в спецхран документов из архива Управления внутренних дел и ждал, что придут, расскажут, как это обычно бывает, – кто-нибудь да заглянет, словно случайно, чтобы донести до ушей директора новость. Но так никто и не зашел…
Мирошук спустился с деревянного возвышения. Подумал, что надо наконец соорудить на этом месте нормальную сцену, с занавесом, с транспарантами, с бюстом вождя в глубине. Надо, чтобы люди чувствовали строгость. А то рассаживаются, как на завалинке, вытягивают шеи, если хотят что-то разглядеть, возникает суета, отсюда – беспокойство. И вообще, он затянул с ремонтом. Стыдно признаться – свой человек в исполкоме, а не может пробить косметический ремонт! Конечно, после его ухода из системы никто его и в грош не ставит. Но ничего, Мирошук еще вернется на орбиту, не напрасно хранит до сих пор пропуск в исполкомовскую столовую…
Сегодняшнее собрание внесло в душу Мирошука смуту и давно не испытываемую печаль.
У пятого ряда, где особенно перемешались стулья, Мирошук остановился. Надо бы немного подровнять, нехорошо, как в детском саду. Он ухватил за спинку и подлокотник ближайший стул и спрямил, подгоняя к ровной линии. Взгляд его, скользнув к подножью, приметил какой-то предмет, сжатый двумя боковинами. Раздвинув стулья, Мирошук увидел женскую сумочку с оборванным ремешком. Он подобрал находку, стряхнул подлипшую пыль с темно-коричневого кожзаменителя. Сумочка была из недорогих. Да и содержание на вид довольно тощее… Это ж надо, подумал Мирошук, в такой раж впали, что и пропажу не заметили. Или искали, не нашли? Надо сдать дежурному, на вахту… Он открыл сумочку. Деньги Мирошук узрел сразу – тридцать рублей, и все пятерками. Зеркальце. Ключи. Затертая коробочка с косметикой… Мирошук перебирал содержимое, извлек удостоверение, раскрыл. С фотографии глядело живое женское лицо, довольно миловидное, а волосы просто хороши – светлые, длинные, прямые. Удостоверение принадлежало аспирантке Варенцовой Ксении Васильевне. Кого только не было на собрании, подумал Мирошук, возвращая удостоверение в сумку. И тут палец его нащупал фотографию. В первое мгновение Мирошук не поверил глазам – Гальперин? Конечно, Гальперин! И главное – в галстуке. Пожалуй, это изумило Мирошука не меньше, чем сама фотография. За время совместной работы он никогда не видел Гальперина в галстуке. Так вот чья эта сумка, подумал Мирошук и вновь потянулся к удостоверению. Раскрыл. Сблизил фотографии. Рядом с милым женским лицом Гальперин, в своем галстуке, казалось, выглядел моложаво и даже кокетливо… А ведь старше меня почти на шесть лет, подумал Мирошук. Он продолжал рассматривать обе фотографии. И каким-то сложным ходом проецировал отношения этих двух людей на свою судьбу. Если толстый и пожилой Гальперин мог сразить сердце такой аспиранточки, то ему, мужчине в самом соку, директору архива, и сам бог велел, сколько приходят к нему молодых женщин за допуском к работе с фондами?! А некоторые из них вообще красавицы. Поговоришь с иной – и одинока, и хороша собой, и материально обеспечена, никаких забот – ухаживай напропалую. «Дед вот не терялся, не то что я», – Мирошук сейчас думал о Гальперине с особым уважением, замешенным на сладкой мужской солидарности, он хотел сейчас сближения и откровения с Гальпериным.
Захваченный колесом «тяготения», он испытывал еще большую горечь и за свою робость, за то, что не проявил характер, не заверил подпись Гальперина без этого собрания, без оглядки на вышестоящее руководство. Не обратись он к ним за советом, те бы и ухом не повели, даже и рады были бы, что их обошли стороной в таком скользком вопросе.
– Сколько можно себя втаптывать в грязь?! – вслух произнес Мирошук.
Хмурые монастырские потолки возвращали ему слова, будто они исходили с небес, наполняя гордыней душу. Он сейчас был доволен собой. Он давно подметил, что многие из тех, кто вел себя независимо и своенравно, казалось, и физически как-то меняются. Прямо на глазах. Это случалось редко, за всю свою жизнь Мирошук сталкивался с двумя-тремя случаями, но запомнил… Он еще ничего не предпринял из задуманного, но сама мысль о допустимости такого шага спрямляла его сутулую спину.
Мирошук спустился в служебную проходную.
Дежурный милиционер читал газету. Сегодня дежурил не тот кавказец с газельими глазами, а другой, вялый, добродушный, родом из Каховки, со смешной фамилией – Колыхалло. Электрический чайник стоял на табурете и лупил упругим столбом пара. Мирошук выдернул из розетки шнур и с укоризной посмотрел на дежурного.
– Вы мне весь архив плесенью покроете.
– Так вин тихо фурчит, зараза, – дежурный опустил газету, – тут статью печатають. Люди клад нашли и сдали государству. Хде они таких людей шукают, не знаю? Только, мобыть, через прессу?
– Сами милиционер, а удивляетесь.
– Так то и дивлюсь, потому что милиционер, – Колыхалло смотрел на директора чистым взглядом.
– Вы вот что… Я сумочку нашел в зале, – произнес Мирошук. – Появится хозяйка – отдайте. Там тридцать рублей денег, удостоверение… ну и прочее, – Мирошук запнулся, подумал, наверняка дежурный проверит содержимое, увидит фотографию Гальперина, пойдут сплетни…
– Хох, и вы клад нашли? Ну дают! – хлопнул Колыхалло по широким бокам и засмеялся, выкатив здоровые белые зубы. – Передам, отчего ж не передать?
– Нет, пожалуй, я сам, – у Мирошука созрела идея. – Просто, если придет кто, спросит. Фамилия ее Варенцова. Ксения Васильевна. Скажите – сумка у директора, в полной сохранности.
– Чё? Не доверяете? – обиделся Колыхалло. – Тот раз ваша секретарша шум подняла, мол, дежурные у нее чай сперли.
– Бросьте, бросьте. У меня план изменился. Надо повидать эту женщину, и все, – проговорил Мирощук.
– Воля ваша, – кивнул милиционер. – Скажу, если надойдет.
– И ладно. А чайник так не оставляйте. Самый враг архива – плесень.
– Тю! Шо он там дает за эту плесень? Весь монастырь цветет, ремонту треба. А тут чайник, с гулькин нос… Послежу, если на то ваше желание.
Мирошук попрощался с дежурным за руку, пожелал спокойной ночи и вышел.
После ярко освещенной служебки вечер ослепил темнотой. Мирошук постоял, дожидаясь, пока обретут очертания контуры улицы. И тут заметил маячившую невдалеке чем-то знакомую фигуру. То ли цвет непокрытых волос проявлял рыжину в проступившей белесости вечерней улицы.
– Колесников, что ли? – опознал Мирошук.
– Колесников, – нехотя подтвердил Колесников и без особого усердия шагнул навстречу.
– Что вы тут делаете?
– Боюсь завтра на работу опоздать, – буркнул Колесников.
– А? Похвально, – серьезно ответил Мирошук. – Ждете кого? Все вроде разошлись.
– Жду, – помедлив, ответил Колесников. – Договорились.
– Ждите, ждите, – Мирошук помялся. Порыв, что овладел им в безмолвном зале, продолжал распирать душу благородством, в то же время гордыня сдерживала его, как бы набрасывая уздечку. – Вы не знаете, что там произошло, на собрании… Я так и не понял.
– Я тоже не разобрался, – уклонился Колесников.
– Жаль, – поморщился Мирошук. – А насчет ваших претензий, Евгений Федорович, мы подумаем на дирекции. Софья Кондратьевна человек хоть и горячий, но здравомыслящий.
Колесников не поблагодарил, лишь сдержанно кивнул, мол, слышу, посмотрим, не в первый раз обещают.
Мирошук надулся и, не простившись, отошел.
Фонари уже распустили свои прозрачные юбки, и улицы обрели привычный вечерний облик – с магазинами, толпой, транспортом.
«А может быть, пустое все это? – червячком шевельнулась мысль в голове Мирошука. – Не валять дурака – сесть сейчас в трамвай и домой, а?!»
Мирошук знал, что Гальперин живет в каком-то из двух девятиэтажных домов, еще довоенной застройки, что выходили фасадом на площадь Труда. Вспомнил, что Гальперин не раз поминал магазин в первом этаже своего дома. Действительно, в первом этаже ближайшего дома размещался гастроном. Мирошук миновал арку и очутился в просторном дворе, часть которого захламили ящики, бочки, коробки и прочая дребедень.
Мирошук решил подойти к освещенному подъезду и достать наконец записную книжку, где значился адрес Гальперина. И тут он увидел рядом с подъездом машину «скорой помощи». Совершенно убежденный, что «скорая» вызвана к Гальперину, он замер в растерянности, невольным движением забираясь в тень, что падала от широкого козырька. Еще эта сумочка, что уродливо оттопыривала карман плаща… Мирошук простоял несколько минут.
Раздался стук дверей, из подъезда вышли два молодых человека в белых халатах, с чемоданчиками в руках. Громко переговариваясь и смеясь, они направились к машине. Остановились, достали сигареты. Мирощук, пользуясь заминкой, шагнул к молодым людям.
– Простите… Вас вызывали к Гальперину? Илье Борисовичу? Что-нибудь серьезное?
Один из врачей высек огонь из зажигалки, протянул зажигалку товарищу, прикурил сам, мельком оглядел Мирошука и ответил:
– Все в порядке, папаша. Все в порядке!
Подобрав полы халатов, молодые люди поочередно влезли в машину. Подмигивая поворотным сигналом, словно раздувая щеку, машина круто взяла с места и вырулила по дуге к арке ворот.
У дверей лифта собралось довольно много людей, и Мирошук решил подняться по лестнице, да и невысоко – четвертый этаж.
С каждой ступенькой его ноги тяжелели, а движения становились вялыми. Пыл, с которым он сюда шел, угасал, а о благородном порыве напоминала лишь сумочка, что камнем оттягивала карман и при движении задевала рукав плаща, вызывая раздражение.
Мысль, что, казалось, червячком проникла в мозг, занимала Мирошука все больше и больше, набухая подобно дождевому червю, и теперь, на лестнице, где-то между вторым и третьим этажом, полностью подчинила себе сознание. Нет, никаких не может быть случайностей. Наивно думать, что всем все «без разницы». Если все происходит так, как происходит, стало быть, кому-то это нужно. Все предопределено в этом мире, и не ему ломать это предопределение.
Маленькая дамская сумочка, казалось, росла в кармане. Вот она уже прорвала ткань и, увеличиваясь в размерах, превращалась в громоздкий неудобный баул.
Мирошук повернулся и решительно зашагал по лестнице вниз, перескакивая ступеньки и обкладывая себя нелестными словами. А баул, нет, уже не баул, а чемодан, казалось, путался в ногах, больно бил углами по коленям.
Вся эта затея выглядела настолько наивно и глупо, что Мирошук мог определить цвет этого фантастического чемодана, казалось, чемодан шаркает по стене подъезда, оставляя темно-коричневые струпья кожимита.
Очутившись внизу, Мирошук толкнул дверь подъезда, выскочил во двор и, обегая, словно капканы, пустые ящики и бочки, бросился к арке и вон, на улицу.
2
Колесников пересек мостовую, встал спиной к каменной балюстраде набережной. Ему почудилось, что в освещенных угловых окнах третьего этажа мелькнула тень. На самом деле никакой тени быть не могло, в этом он давно убедился, а стоял просто так, не зная, куда себя деть. С уходом директора из помещения архива можно определенно сказать: кроме дежурного милиционера и кота Базилио, ни одной живой души. А свет в комнате Чемодановой горел, потому как его забыли выключить.
От реки пахло плесенью, сырой, морозной, предваряющей скорый ледостав. Утром лужи остужала льдистая корка.
Колесников зиму не любил, возникали проблемы с теплой одеждой. Бр-р-р… Подняв молнию куртки, он достал из кармана вельветовую кепку, упрятал под нее свои вихры и пошел вдоль парапета. Несколько раз он еще обернулся на светящиеся окна третьего этажа. Добрался до львов, что слепо пялились в черную воду реки, тронул ладонью холодный камень хвоста, попрощался и свернул на Речной проспект.
Несколько раз он останавливался у автомата, набирал домашний телефон Чемодановой, и каждый раз ему отвечали, что ее нет.
Куда же она могла подеваться?! И вообще, как он ее проглядел? Он не думал о том, что она избегала общения, вернее гнал это от себя, продолжая звонить… Решил, надо взять себя в руки, позвонить из дома. Хорошо бы тетка где-нибудь задержалась, а то будет потом переспрашивать каждую фразу – кому звонил, зачем? Разве поговоришь в такой обстановке? Колесников давно мечтал поставить в своей комнате второй аппарат, да сдерживался. Сам аппарат он бы еще раздобыл, хотя бы списанный, у мастеров, незадорого, но боялся, что тетка станет подслушивать разговоры, мало ему и без того скандалов.
Колесников вступил на площадку своего этажа и, припав к двери, приложил ухо. Обычно, если у тетки собирались гости, все слышалось сквозь дверь. На этот раз тихо. Может, у тетки «банный» день, а он запамятовал. Тетка работала кем-то в бане, через два дня на третий. Работала она там всего неделю, и Колесников еще не успел уяснить график.
Настроение поднялось, он даже замурлыкал под нос какой-то мотивчик. Но едва открыл дверь, как увидел в тусклом абрисе кухни теткин силуэт. Та сидела у стола и что-то писала, случай сам по себе довольно редкий.
– Пришел? Наконец-то… Что вам там сегодня, карантин устроили? – буркнула она, не поднимая глаз от бумаги.
– Собрание было, – нехотя ответил Колесников, вешая куртку на гвоздь.
– Сними туфли, я пол мыла, – объявила тетка.
Колесников удивился. Не иначе как хочет кого-то заманить в гости. Скидывая кроссовки, Колесников тоскливо взглянул на телефон. Продел ноги в шлепанцы и прошел на кухню. С утра в его кастрюле оставались пельмени. Он полез в холодильник, кастрюля была на месте. Тут же мерзла непочатая бутылка водки, наверняка кого-то ждут.
– Холодильником не хлопай, голова болит, – упредила тетка и, помолчав, спросила: – Как лучше написать? Тазиком или шайкой?
Колесников пожал плечами, бросил вопросительный взгляд на тетку. Широкоплечая, в трикотажном тренировочном костюме, тетка Кира сидела словно ученица за уроками. Окрашенные в лимонный цвет волосы крутыми кольцами прятали глаза, нависали над плоским лбом, коконом обвивали кулак, что подпирал упругую щеку. А губы, пухлые, с четким красивым рисунком и капризно опущенными уголками, еще больше довершали сходство тетки с ученицей.
– Можно тазиком, можно и шайкой. Смотря в каком случае, – ответил Колесников.
Тетка поведала, что администратор бани ее невзлюбил и накатал докладную, что она якобы ударила «моющуюся» по спине из хулиганских побуждений. И тетка сейчас составляла объяснительную записку. В отделение напустили свежего пара, при котором не то что человека, собственного пупка не видно. Да, произошло столкновение, в результате которого «моющаяся» поскользнулась и расквасила себе нос. «Чем я ее задела? Такая толстая, тросами не своротишь. А тут упала и орет: «Убили!» Чем же я ее так? Тазиком, шайкой? Такая корова!»
– Тогда корытом, – посоветовал Колесников. – Мол, корыто тяжелое, в руках не удержалось.
– Верно! – обрадовалась тетка. – Верно. Не удержалось в руках. Сама поскользнулась и задела эту халду. – И она шустро побежала ручкой по бумаге.
– Мне никто не звонил? – спросил Колесников.
– Звонил. Брусницын, твой приятель. Спрашивал.
Просил позвонить.
Вот с кем Колесников не хотел сейчас разговаривать.
– Ну а больше никто?
– Кому ты нужен? Не мешай.
Колесников и сам знал, что звонить ему некому. Правда, в последнее время зачастила Тая, все задавала какие-то чепуховые вопросы по хранилищу. Он понимал, не вопросы интересовали Таю… И все же она молодец, как повернула собрание, смелая барышня, но Тая постоянно чем-то его смешила.
Спичек, как всегда, у плиты не оказалось, тетка вечно их куда-то засовывала, но у Колесникова, в спорных случаях, была своя заначка, на крыше пенала, под самым потолком, куда тетка не дотягивалась… Он зажег газ, достал из холодильника кастрюлю.
– Вижу, сегодня грядет большой праздник, – буркнул он. – Гостей ждете, мадам?
– И тебе поднесу, не спрячешься, трезвенник.
– Куда же я от вас спрячусь? – не без горечи вздохнул Колесников. – Только не очень густо для серьезной компании.
– Михаил придет, – пояснила тетка. – Он пустым не приходит.
Михаил был тот самый колченогий железнодорожник, из-за которого как-то в квартиру ввалились дознаватели из милиции.
– Пятнадцать суток оттрубил Михаил. Надо отметить, – тетка перестала писать, в нерешительности водя пером над бумагой. – Как правильно? Корыто или карыто?
– Корыто, – подсказал Колесников. – А за что его, милягу кривоногого.
– В морду дал кому-то. Чуть срок не влепили, за хулиганство, еле отмазался, – тетка взглянула на племянника из-под нависших куделей.
– Корыто, корыто, – повторил Колесников.
– Да знаю, – огрызнулась тетка. – Тебя хотела проверить, – и принялась дописывать объяснительную.
Несколько минут они молчали, занятые своим делом. Колесников не то чтобы любил пельмени, он привык к ним, как привыкают к воде, зачастую не обращая внимания на вкус. Жаль только – горчица кончилась.
Отцедив через дуршлаг, Колесников перекинул пельмени в тарелку, намереваясь уйти к себе в комнату.
– Оставайся тут, – произнесла тетка и отодвинула бумагу.
Колесников привык есть в своей комнате. Но в тоне тетки он уловил беспокойство. Да и вся она сегодня казалась какой-то непривычной.
Колесников сел, отрезал хлеб, придвинул тарелку. Пельмени скользили, увертывались от вилки, словно живые.
– Я, наверно, замуж выйду, – проговорила тетка.
Очередная пельменина выскочила из тарелки и шмякнулась чуть ли не посреди стола. Но тетка промолчала, даже засмеялась. Зубы у нее были красивые, ровные, один к одному. Единственно схожее, что она имела со своей сестрой, покойной матерью Колесникова. Вообще, тетка вся удалась в отца, второго мужа бабушки Аделаиды. Колесников помнил того человека, шумного и озабоченного старика, хоть тот и умер, когда Колесникову было лет семь.
Приподнявшись, Колесников ухватил пельменину пальцами и вернул в тарелку.
– Поздравляю! – прогундел он. – Новость, прямо скажу… ошеломляющая.
– Не бойся. Я к нему перееду жить. Выписываться не стану, а так. Разонравится – вернусь, – прервала тетка. – У него квартирка очень даже. Не то что наша конюшня.
«Конюшня. Сама и сделала», – подумал Колесников, но промолчал, потрясенный новостью. Неужели и вправду ему замаячила другая жизнь? Он почувствовал, как набухли веки, и судорожно сжал скулы, чтобы унять неуместные слезы. Плакса, укорял он себя.
– Да ты чего, Женька, чего? Вот те на, – еще больше растравляла тетка. – Вот дурачок. Выложишь свои книги, никто тебя не попрекнет.
– Да ладно, – Колесников уже справился с собой. – Была у нас семья. Бабушка, твой отец. Моя мама, я… Жили не так уж чтобы хорошо, но как-то… А теперь я радуюсь, что остаюсь один…
– Сам виноват, – тихо и печально проговорила тетка. – Женился бы, привел жену. Жили бы сейчас одни… А то все я да я. Знаешь мой характер. Такая уж уродилась, сама другой раз жалею… Ладно, разъедемся и станем не-разлей-вода, посмотришь. Еще позовешь назад тетю Киру.
Колесников усмехнулся.
– Да! Забыла сказать, – вспомнила тетка. – Звонили с почты, спрашивали тебя. У них там завал с телеграммами. Кто-то заболел, разносить некому.
– Ну их! – отмахнулся Колесников. – Устал.
– А то пойди, выручи… Я пока на стол соберу. Михаил придет, сядем как люди, отметим.
Может, и впрямь сбегать, подумал Колесников, час-полтора похожу, платят, правда, не жирно, да главный доход от получателей – кто полтинником одаривал, а другой и рубль кинет… Колесников посмотрел на часы. Начало девятого, к десяти он обернется.
– Ладно, схожу, – решил он и поднялся. – Чай с вами попью. Если кто позвонит, не забудь, передай.
Воротился Колесников домой, как и рассчитывал, к десяти. То, что в квартире стоит дым коромыслом, он понял уже на площадке. Звуки, обычно повергающие его в уныние, на этот раз манили и возбуждали, еще бы – такая новость!
Михаил сидел босой, в брюках, в сетчатой майке, сквозь которую просвечивала сизая птица с письмом в клюве. Колесников не первый раз видел эту наколку и всегда удивлялся – на письме значился домашний адрес Михаила. «Это старый, – объяснял каждому Михаил. – Кольнул сдуру, на тот случай, если сам объяснить не смогу». Тем самым он не раз вводил в заблуждение молодцов из вытрезвителя, гоняя их по ложному следу.
– А… Родственничек явился, – обрадовался Михаил, оглядывая стол, на котором высилось несколько бутылок. – Садись, дорогой. Выпьем, закусим.
Тетка Кира, одетая в свое лучшее платье из желтого крепа, с кудрями цвета лимона и в туфлях на высоких каблуках, рядом с полураздетым Михаилом смотрелась как большая янтарная роза рядом с еловой шишкой.
– Садись, Женька, распускай пояс, ешь-пей, – приладилась тетка. – Самообслуживайся.
Колесников с охотой присел на придвинутый табурет, между теткой и Михаилом. Это кажется, что разносить телеграммы дело простое, тяжесть от ног подбиралась к пояснице, особенно ныло в икрах.
– Вот, брат, – красное, распаренное лицо Михаила улыбалось наподобие гуттаперчевой маски. – Прозвенел я пятнадцать суток и решил – все, надо завязывать, – он щедро лил водку в граненый вокзальный стакан. – А что мне надо? Заработки, твоим профессорам и не снилось. Квартира. Два ковра…
– И третий есть, забыл? – поправила тетка. – В колидоре.
– Это так, палас. В Ташкенте на утюг обменял… Ладно, считай, три ковра.
– Три, три, – упрямилась тетка. – Холодильник. Телек цветной.
– Ага. Трубку недавно сменил, совсем как новый, – продолжал Михаил. – Но я не об том…
– Вы мне что, приданое перечисляете? – Колесников положил на тарелку колбасу. Давно такой он не видел.
– Ага. Приданое, – обрадовался Михаил. – А что? Отсюда ничего не возьмем. А что у тебя взять? Циклопедии твои? Так их грузовиком не поднять… Словом, все! Крышка! Завязал Мишка, где твоя улыбка! Жаль, детей своих пропил. Врачи говорят, не получится, как ни тужься.
Тетка шутливо стукнула Михаила по загривку.
– А что? Возьмем на воспитание, а? Верно, Кира?
– Мне еще тебя надо воспитать, – ответила тетка. – Сделаю из тебя человека, Мишаня, сделаю… А иначе – переколешь свой адресок.
– На что? – Михаил опустил глаза. Птица с конвертом в клюве выглядывала из-под сетки, словно из клетки.
– На… «С приветом с того света!» – ответила тетка.
– Ишь ты! – радовался Михаил. – Пей, Женька, пока живы! За тетку, за меня. Ты – парень хороший, только несовременный, но ничего, поживешь один, обкатаешься.
Колесников хлебнул водки, словно компота. Поморщился, передернул плечами.
– Пей как человек! – возмутился Михаил. – Не позорь водку.
Колесников покачал головой и, выдохнув, сделал два больших глотка, ополовинил стакан.
– Вот! А притворялся, – радостно уличил Михаил, глядя на жуткую гримасу своего новоиспеченного родственника.
Михаил был ровесником тетки, не так давно, до отсидки, в квартире шумно справляли его сорокапятилетие, – но держался с двадцатисемилетним Колесниковым как товарищ. И подчеркивал это. Поначалу, при первом знакомстве, он еще как-то робел, особенно когда попал в комнату Колесникова, увидел его книги, картотеку… Потом освоился, привык. А сейчас вообще чувствовал превосходство, ничего, что едва закончил семилетку, зато школу прошел, этому слабогрудому фитилю и не снилось.
Колесников перевел дух. В голове поднимались теплые волны, тяжестью падали на глаза. Требовалось усилие, чтобы размежить веки. Сегодняшний день был особенно насыщен. И еще эта водка…
– Ешь больше. И сильно челюстями дави, помогает, – Михаил отхватил кусок колбасы, демонстрируя, как перехитрить хмельную дрему. – И разговаривай больше.
– Иди к себе! – по-доброму решила тетка. – А то совсем с лица сошел, устал за день в своем архиве.