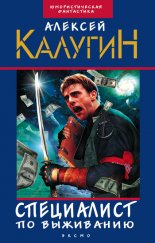Архив Штемлер Илья
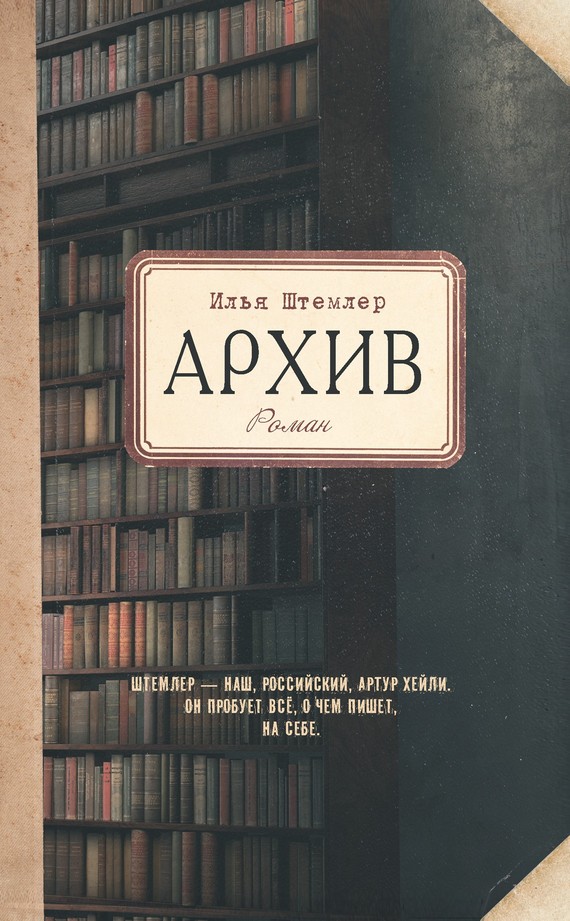
– Ты, Будимирка, на меня криком не кричи, я тебе не жена. А то плюну на все, катитесь к чертям собачьим. Верно старичок тот сказал: кинут они тебя, Дарья. Используют и кинут, – Дарья Никитична, для страховки, вложила свои сокровенные мысли в уста краеведа. – А то раскипятился, раскричался на родную тетку, словно на врага. Или, думаешь, я слепая-глухая… – Дарья Никитична резко умолкла, испуганно таращась на племянника. Она явно хотела что-то добавить, но одумалась.
– Я спрашиваю – интересовался твой знакомый чем-нибудь в моем кабинете, смотрел что на столе? Или нет? – В сильном гневе Варгасов и не обратил внимания на внезапный испуг тетки. – Да или нет?!
– Ну… любопытствовал. Ведь он дотошный, знай себе глазеет, – Дарья Никитична уже взяла себя в руки и смотрела на посеревшего племянника невинными глазами. – Порадовался он за тебя, говорит, образованный человек твой племянник. Такой не пропадет…
Варгасов лихорадочно вспоминал – чем мог бы привлечь внимание на его столе искушенный взгляд, вроде ничем. В доме-то он ничего не хранит, только какая-нибудь мелочь. А так, все увезено за город, в надежное место… Он тронул ладонью борт пиджака, услышал живой хруст конверта, что передал ему Брусницын.
– А в ящики мои не заглядывал?! – ему показалось, что тетка насмехается над ним.
– Не заглядывал, не заглядывал! – выкрикнула Дарья Никитична. – Ты бы лучше долг мне вернул, вот что!
– Какой долг? – опешил Варгасов.
– Какой, какой… Забыл уже? Восемнадцать рублей одалживал.
– Я?! – еще пуще изумился Варгасов.
– А кто же? Шесть лет должен. Считай, пени наросли. Конечно, берешь чужие, а отдаешь свои.
– Припоминаю, припоминаю… На улице у тебя перехватил, припоминаю, – поводил головой Варгасов в каком-то детском ликовании.
– Гони долг, Будимирка, не миллионерша я.
Варгасов смотрел на тетку, в ее круглые куриные глаза, на задиристый нос, пуговкой, и рассмеялся.
– Ну и память у тебя, Дарья Никитична! – смеялся Варгасов. Он чувствовал, что ничего опасного в визите нет, чистое совпадение, напрасно Брусницын устроил истерику.
Вообще, каким-то перепуганным, даже болезненно перепуганным, показался Брусницын. Его можно понять. Варгасов всего мог ждать, но записку, написанную рукой Толстого? Состояние, которое помещается в портмоне.
– Сколько, говоришь? Восемнадцать рублей? – Варгасов благодушно достал кошелек. – Вот тебе двадцать пять. С учетом пени, – он положил деньги на стол. – И еще, тетка, прошу тебя… Никого сюда не приводи. А если невтерпеж, выбери время, когда я буду дома.
– Между прочим, и у меня пока есть свой дом, Будимир Леонидович, – так же мирно ответила Дарья Никитична. – Хоть ты все оттуда и поспешил вывезти, отрезать ход.
Варгасов положил на тарелку три сырника, облил сметаной, пододвинул сахарницу. Сметана пожелтела, набухая крупинками сахарного песка…
Губы Варгасова пошли кривой благодушной улыбкой. Он видел отбитый кафель над мойкой, видел сырое пятно у потолка и ловил себя на мысли, что ему уже не придется ремонтировать кухню. Он примеривал себя к другой жизни, непонятной, странной и увлекательной. Способной вдохнуть кислород в его опустошенное существование. Он покажет тамошним деловым людям, что значит русская предприимчивость, не опутанная мертвящей системой, завернет дела. Здесь он походил на вольную птицу в клетке, там расправит крылья. Попробует себя в деле, которым занимается здесь, в строительстве.
Дарья Никитична подобрала деньги, аккуратно сложила и спрятала в карман фартука. Боком посмотрела на жующего племянника.
– Вот что, Будимир… Не поеду я с вами, – произнесла она тихо. – Тут помру, тут и похоронят, рядом с мужем и сыном. Верни обратно мои вещи, съеду я от вас. Никакого попечительства мне не надо.
Варгасов, не пряча улыбки, продолжал жевать сырники, игриво, исподлобья, глядя на Дарью Никитичну.
– Бу-бу-бу, – передразнил он тетку. – Я вот думаю, почему ты так меня не любишь?
– А за что тебя любить? – Дарья Никитична всплеснула руками. – Годами знать не хотел жену родного дяди. Ни в праздники, ни в будни… А тут – вспомнил, что она немка наполовину, что…
– Бу-бу-бу, – прервал Варгасов, продолжая улыбаться.
– Перестань, не маленький. Вези обратно. А то я скандал подниму, плохо ты меня знаешь, Будимир.
– Ну ладно… Что я тебе скажу, тетя Дарья. Ты женщина умная, расчетливая, все понимаешь, недаром в тебе кровь немецкая… Законы обратной силы не имеют, вопрос с попечительством уже решен, вот-вот бумаги получу, это первое. Есть и второе – ты, тетушка, мне палки в колеса не ставь. И меня ты плохо знаешь. Многое поставил я на карту, всю жизнь, считай, свою поставил. И Ольгину… А для меня преграды нет. Была бы ты помоложе, знала б, кем в этом городе проходил твой племянничек Будимирка… Я тебя, тетушка, не стращаю. Но помни – хоть в гробу, но вывезу. Ясно?!
Варгасов с силой оттолкнул тарелку, встал и вышел из кухни.
Дарья Никитична сидела ссутулившись, сжав старческие бледные кулачки, усыпанные серыми пигментными пятнышками. Да, она плохо знала своего племянника Будимирку. Только и он не очень хорошо знал свою тетку, Дарью Никитичну, хоть и носил с ней одну фамилию. Ох как он плохо знал свою тетку.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Глава первая
1
Время, разделенное на годы, переползает через головы людей, оставляя на лицах зарубки морщин, меняя линзы очков, рассыпая по плечам вялые ломкие волосы.
Софья Кондратьевна Тимофеева присела у двери и смотрела на Гальперина. Крепко сдал Илья Борисович за последнее время. Разница в возрасте между ними небольшая, но Софья Кондратьевна считала себя ученицей Гальперина. В давние времена, когда судьба их повязала общим делом – созданием архивного каталога, – молодость Гальперина иссушала ее сердце. Немало ночей она провела с мыслями о голубоглазом и темноволосом Илье Борисовиче, так резко встряхнувшем своим присутствием сонный архивный уют. Скажи он слово, Софья Кондратьевна не задумываясь оставила бы своего Костюшу. Гальперин же не принимал всерьез восторженную толстушку Софьюшку, она была не во вкусе молодого человека, пресыщенного женским вниманием. Постепенно их отношения проросли таким взаимным пониманием, когда исключалось всяческое влечение, кроме бескорыстно душевного, что возникает между братом и сестрой. У них не было никаких тайн друг от друга. Но и это время миновало. С годами они стали отстраненней. Тимофееву поглотили заботы семьи, а Гальперину просто нечем было уже удивлять.
– Ну? – произнесла Тимофеева. – Я тут сижу, а тем временем, возможно, еще подвезли документы из Городского суда. Под лестницей все почти забито. Вот несчастье, свалились они на мою голову.
– Уступила Софьюшка, уступила, – отрешенно обронил Гальперин.
– Уступила. Если вы помалкивали, – с обидой ответила Тимофеева. – И вообще, я вам скажу, Илья Борисович, по совести…
Гальперин перевел на Тимофееву тяжелый воспаленный взгляд. Что она ему скажет?
– Ладно. В другой раз. Еще обидитесь, – вздохнула Тимофеева.
– Обижусь, Софья, – обронил серьезно Гальперин. – Знаю, в чем ты можешь меня попрекнуть, знаю…
А случилось вот что…
Архив Городского суда затопило водой, ночью прорвало магистраль. И Управление не нашло иного выхода, как приказать Мирошуку приютить пострадавшие документы. Временно, пока откачают воду. Но верно говорят – нет ничего более постоянного, чем временное. Мирошук, испытывая страх за свою недавнюю невольную конфронтацию, не посмел перечить начальству и отдал указание Тимофеевой разместить пострадавшие документы. Та на дыбы! «Да вы что?! Только от хлебного точильщика избавились. Из последних сил поддерживаем режим в хранилище, а вы хотите завести плесень? Не говоря о том, что нет свободных площадей!» Мирошук не отступал. Но и Тимофеева не сдавалась, криком стояла на своем… А Управление наседало – гибнут документы. Тогда Тимофеева предложила свой вариант – разместить документы Городского суда в кладовой № 8 спецхрана. Там никого не бывает, все опломбировано, так что документы можно россыпью сложить в проходах. Но при одном условии – в спецхран завезут папки, что хранили в архиве Городского суда на высоких полатях, которые не пострадали от воды. А освободившиеся места используют под просушку поврежденных документов… «Иначе я категорически не согласна! – заявила Тимофеева. – Режим хранения нарушать не буду!» На том и порешили, хотя и предстояла двойная работа, но что поделаешь с этой психованой, в Управлении махнули рукой и дали добро, Уповая на то, что Городской суд – организация специфическая. Поднимут в своих камерах арестантиков – тех, кто пятнадцать суток отбывает, мается, – вмиг перекидают документы.
Не останься тогда Тимофеева одна, если поддержал бы ее Гальперин, то не пришлось бы распатронивать спецхран, одолели бы Управление.
– Ладно, Софья, – буркнул Гальперин. – Давай о другом. Что там с сундуком Колесникова? Надо с ним разобраться наконец… Там весьма любопытные документы. Если я тебе покажу, ты ахнешь. Только надо приглядеться, не фальшивые ли.
– Что за документы? – встрепенулась Тимофеева.
Гальперин помолчал – сказать, нет? Пока воздержится. Угораздило же его тогда поведать этому стервецу Брусницыну. Сейчас он погодит, не станет в колокола бухать.
– Позже, Софья, позже, – решил Гальперин.
– А что сундук? – проговорила Тимофеева. – Женя им занимается, сам по себе. Обнаружил письма художников-авангардистов… Я делаю вид, что не замечаю.
– И правильно. Раз не можешь через себя перешагнуть.
– Уйду на пенсию, пусть и делают что хотят, – Тимофеева поморщилась. Любое напоминание о злосчастном сундуке стоило ей нервов.
– Какая пенсия? Погляди на себя – кровь с молоком. А зубы вообще как у девчонки.
– Тебе завидно, – подхватила Тимофеева. – Что-то ты, Илья, и впрямь неважно выглядишь. Опять живешь, как студент в общежитии?
Гальперин нахмурился. На эту тему разговаривать не хотелось.
– Так мы ничего не решили? – он резко перевел разговор.
– Что решать? – ответила Тимофеева. – Выписывай дела этого… Янссона на себя. Я их и выдам. Или пусть Мирошук затребует на свою фамилию.
– Не Янссона, а Зотова, – поправил Гальперин. – Я тебе еще раз повторяю – не хотелось бы втягивать директора. Тот и так извелся от страха, а ты его на спецхран науськиваешь. Помрет ведь…
– Слышала уже, слышала, – Тимофеева поднялась. – Как угодно – вы с ним начальство, имеете власть над спецхраном… Тем более я уже сняла сигнализацию в восьмой кладовой, пока завезу документы из Городского суда.
– Вот и хорошо, – без особого воодушевления проговорил Гальперин.
Весь сыр-бор загорелся вчера, когда в кабинет Гальперина пришла Чемоданова. Ей нужны были документы Медицинского департамента, что попали вместе с делами Жандармского управления на специальное хранение сразу же после революции. Да так там и лежат, точно на дне океана. Каждый раз эта непоседа Чемоданова втягивала архив в какую-нибудь историю. Будь исследователь гражданином СССР, и то дело непростое, требуется запрос, разрешение Управления, нередко и согласие «компетентных» органов. А тут вообще – человек приехал из Швеции. Но Чемоданова не отступала К Мирошуку, небось, не пошла, знала, что при слове «спецхран» Мирошук становится невменяем. А может быть, и напрасно не пошла? В последнее время поведение директора стало непонятным. Ореол бунтаря, человека радикальных убеждений чем-то приглянулся директору. Он даже двигался по архиву как-то иначе, закинув голову и развернув плечи. Ступал твердо, горделиво, точно конь на выездке…
Тимофеева поднялась. Ее некрасивое, но какое-то опрятное лицо выражало недоумение. Она так и не поняла, для чего ее вызвали, и главное срочно. Да и обида не прошла, та, давняя, когда Гальперин ее одернул перед всеми сотрудниками, на собрании. И даже не извинился. Второго такого эгоиста еще поискать надо.
– Зачем ты меня позвал, не понимаю, – произнесла Тимофеева с раздражением. – Тебя что-то смущает? Действуй по закону. Пусть приносит ходатайство из посольства Швеции… А вообще-то я этой Чемодановой выдам – кто-кто, а она-то знает, что все не просто. И ставит тебя в глупое положение.
Гальперин смотрел на стол полуприкрытыми глазами.
– Боюсь я, Софья, – произнес он, едва раздвигая тонкие губы слабого маленького рта. – Страх в меня вселился. Неуверенность какая-то. Сам не знаю… Чувствую зависимость от всех. От директора, от тебя, от Шереметьевой… даже от Чемодановой.
– Что ты говоришь, Илья? – Тимофеева шагнула к столу и наклонилась, упираясь локтями в случайные бумаги. – Какая зависимость? От меня, от Нины Чемодановой… Смешно даже, – она опустилась на близкий стул. Так в молчании сидят сердобольные женщины, желая в сострадании пересидеть чужую беду, помочь своим присутствием.
– Ладно, иди, Софья, я слабину дал, – проговорил Гальперин. – Иди. Сам решу что-нибудь.
Казалось бы, в его положении разумней всего соблюдать букву закона и тем самым оградить себя от возможных упреков в злоупотреблении служебным положением. Но нет! Его угнетало другое. То, что горше всего бередит совесть: его репутация в глазах тех, кто… рядом. Ведь близкие его покинули. Где Ксения? Где Аркадий? В опустевшей квартире бродит одиночество и старость… Остались лишь те, с кем он, в сущности, и жил рядом долгие годы, – его сотрудники. Поведение некоторых из них тогда, на собрании, ему казалось наваждением, о котором каждый из них в душе сожалеет. И потому Гальперин находил им оправдание. Он их прощал! В нем просыпалась душа предков, воплощенная с древнейших времен в Книге книг – Ветхом завете и особенно в своде законов Моисея. Именно она, эта душа, помогла его народу выжить, не растерять себя на тысячелетних каторжных дорогах жизни. Что Гальперину как историку было хорошо известно. Он часто об этом размышлял в последнее время… Сознавая, что он во многом грешен, Гальперин старался сопоставить свою греховность с общечеловеческим грехом, тем самым сгладить и собственную вину.
За долгие годы общения Тимофеева хорошо изучила Гальперина. Поэтому она и предложила воспользоваться тем, что вскрыта восьмая кладовая, где содержались документы специального хранения, и просмотреть материал, что относился к деятельности Медицинского департамента. Судя по описи, там нет и трехсот страниц. Для таких опытных людей, как Чемоданова и Колесников, это раз плюнуть. Сядут на подоконник, перелистают…
– Только не стоит распространяться про эту диверсию, – заключила Тимофеева. – Начнут судачить…
– Для этого я тебя и позвал, Софьюшка, – облегченно улыбнулся Гальперин. – Ты всегда найдешь выход.
– Выход, – пробурчала Тимофеева. – Толкаешь меня на нарушение, а сам в стороне, хитрец.
Покинув кабинет, Тимофеева вышла на лестничную площадку. Перегнувшись над перилами, высмотрела дежурившего милиционера.
– Остатки привезли, нет? – крикнула она в колодезную сырость лестничного пролета.
Пока сержант Мустафаев собирался с ответом, Тимофеевой на месте уже не было, видно, сама определила, что новую партию документов пока не привезли.
А сверху, выше на три этажа от площадки, где только что стояла Тимофеева, доносилась перебранка – там работали маляры под бдительным оком самого директора архива Мирошука. Как показал опыт – ослабление досмотра и так затянуло начавшийся еще в прошлом месяце косметический ремонт.
Временами Мирошук скатывался вниз в заляпанном известью синем халате и прошмыгивал в подвал, где размещался штаб бригады, к сиднем сидящему там бригадиру. И до ушей Мустафаева доносилась перебранка директора архива с руководителем ремонтных работ.
Каждый раз появление директора вгоняло в панику дежурного милиционера. Заслышав на лестнице нарастающий лошадиный скок, Мустафаев торопливо задвигал ящик стола, в котором таилась раскрытая папка, взятая наугад из обширной свалки уже доставленной ранее в архив партии документов. По указанию Тимофеевой, документы пока складывались под лестницу, – надо было подготовить место в восьмой кладовой спецхрана, – благо маляры вынесли из-под лестницы свои причиндалы…
Вскоре в проеме подвала показался пыхтящий недовольный прораб в сопровождении настырного Мирошука.
– Как нам снаружи дожить краску?! И не только одно окно – мы все окна распахнем и дверь на балкон, – ворчал прораб. – Ишь, какой умный! Советует напылять. Нельзя напылять: вся краска уйдет на ветер. Плати из своего кармана, тогда и напыляй.
– Так они же не могут даже шпаклевать! – кричал в ухо прорабу Мирошук. – Работнички! У них мастерок из рук падает на голову прохожих.
Переругиваясь, они взбирались по лестнице. На гомон из кабинета выбежала Тамара-секретарша:
– Захар Савельевич, звонили из управления, искали вас.
Мирошук притих, втянул голову в костлявые плечи и жалобно зыркнул на Тамару.
– Чего им надо? Из горсуда дела поступают, скажи. Две машины приняли, скажи.
– Я сказала. Но они просили вас позвонить. Срочно… Плюньте вы на этих халтурщиков, идите звонить.
– Ладно, успею, – решил Мирошук. – Я делом занят. Все! – и поспешил следом за прорабом, прокричав напоследок Тамаре, что позже позвонит, пусть не очень они там, в управлении…
Раз вкусив сладость молвы о себе как о человеке независимых взглядов, Мирошук старался не растерять эту невесть откуда свалившуюся на него репутацию. За несколько дней, каких там дней – часов! За несколько часов следующего дня он буквально преобразился. Подписал заявление в райсовет сразу двум сотрудникам на улучшение жилплощади, отдал распоряжение завхозу Огурцовой навести порядок в местах общественного пользования, вплоть до вывешивания раз в три дня свежего полотенца, поставил на месткоме вопрос о прикреплении сотрудников архива к Гастроному № 2, где давно уже паслись люди из райкома и исполкома. А в ответ на ошарашенную реакцию членов месткома заявил широко и смело: «А, плевать! Откажут, напишем письмо повыше!…» Отменил ежедневную утреннюю поверку руководителей отделов на готовность к работе. И наконец вызвал Колесникова, признал критику в свой адрес и объявил во всеуслышание, что изыщет возможность прибавить с будущего года зарплату молодым сотрудникам со стажем не менее пяти лет. Но самое невероятное – просто чистая психбольница – Мирошук составил ходатайство о ликвидации в помещении архива традиционного пункта голосования на выдвижение депутатов во всевозможные Советы, в связи со спецификой хранения документов. А на замечание, что это политический выпад, громко скаламбурил в совершенно несвойственной ему манере: «Надо защищать память народа от беспамятства бюрократов!» – такое можно произнести только раз в жизни!… Единственно, когда в репутации своей Мирошук допустил трещинку, это в случае с архивом Городского суда, у которого затопило хранилище. Но спасибо Тимофеевой – умница, нашла выход, хоть и потрепала нервы крепко.
Да, Мирошук и впрямь уверовал в свое предназначение и очень важничал и дома, и среди знакомых. Конечно, он не преминул рассказать о том, что произошло в управлении, скромно помянув свою строптивость. Однако такое поведение давалось Мирошуку нелегко. Каждый день он ждал звонка из управления с грозным уличающим окриком. Но звонка все не было… Мирошука это озадачивало – неужели не заметили, что он не подписал «обязательство о неразглашении»? Ясность, как всегда, внесла жена Мария, особа с вечно влажным носом и сырыми глазками. «Успокойся наконец! Думаешь, они заметили, что ты не подписался? Глупости. Они знают, что ты должен был подписаться. И все! Этого достаточно! Им и в голову не может прийти, что ты взял и не подписался, если должен. Так что успокойся. Никогда не забывай, где ты живешь, тогда проживешь до ста лет».
Мудрость Марии иной раз придавливала Мирошука. И он ее тихо ненавидел. Особенно ночью, когда усталость и позднее время загоняли его в спальню. Как он ни хитрил: то зашуршит газетой, то включит телевизор, то отправится на кухню пить чай, а все равно – спальню не миновать… И как он ни ловчил, как ни тянул резину, Мария таилась и ждала. Тихо, точно труп. Даже через одеяло пробивало холодом. Мирошук всерьез уверовал, что она произошла не от обезьяны, как он, Мирошук, а от лягушки. Такова и мать ее была – всю жизнь хвасталась, что у нее не портятся продукты… И родить Мария не могла, видимо, из-за своей температуры. А что у такой могло народиться? Только снежок… Вот в уме ей не откажешь. Видно, все тепло ушло в ехидство и колкости. Так что мудрость жены усугубляла тихую ненависть к ней, вызывая бунтарские мысли о том, что ему, при теперешней репутации, никак нельзя обойтись без любовной интрижки. Намек Тамаре-секретарше закончился конкретным предупреждением, что она женщина строгая, мать двоих незаконнорожденных пацанов, и это ей надоело. Отношения могут быть только серьезными. Прикинув, что на такую должность с таким окладом мало кто пойдет, Мирошук оставил секретаршу в покое. Подумывал он и о завхозе Татьяне Огурцовой, да у той такая фигура, что кажется – все уже позади и надо готовить деньги на аборт. Пришлось улиткой уползти в раковину и завидовать тюфяку Гальперину… Впрочем, о Гальперине Мирошук думал всегда. Понимая, что его собственный успех держится до тех пор, пока Гальперин занимает кабинет заместителя по науке, он лелеял мечту о том, чтобы там, наверху, забыли о Гальперине. И старался не выставлять своего зама, следуя четкому указанию Марии: «Не вспоминай. И они не вспомнят».
И сейчас, подталкивая неуклюжего прораба, Мирошук подумывал о том, какое неудобство быть таким грузным. Поэтому прораб и отсиживается в подвале, не заглядывает на пятый этаж, где девчонки-маляры творят что хотят. Пожалуй, этот прораб потяжелее даже Гальперина… Опять Гальперин.
– Что надо, что надо?! – упирался прораб, словно его вели на казнь. – Тридцать лет грунтую, шпаклюю и крашу. Спросите самого товарища Зубрилина, он скажет, как я крашу. А что шпаклевка валится, так мы ее олифой разгоняем, такая нынче олифа. А у вас даже пожрать негде людям.
Наконец голоса удалились. Сержант Мусгафаев хотел было вернуться к увлекательному чтению какого-то жуткого судебного разбирательства, как с улицы в помещение архива проникла старая женщина.
– Бабушка? – недовольно проговорил Мустафа-ев. – Опять сюда обедать пришли?! – хорошей памятью обладал сержант, вспомнил обстоятельства первого появления в архиве Дарьи Никитичны. – Так и не получили свою справку?
– Получила, получила. Угомонись, – ворчливо отозвалась Дарья Никитична. – Чемоданова здесь, нет? – она с опаской прошла взглядом по казенной площади архивного предбанника.
– Здесь, здесь. Рабочий день не кончился.
– Может, позовешь ее?
– Сейчас не могу. Аврал. Все в хранилище, – важно ответил сержант. – Новые документы в архив поступают, место готовят. Видишь, сколько привезли? – он указал на горы документов, сложенных под лестницей. – Посиди, куда тебе торопиться, раз дело есть, – позволил он великодушно и склонился над выдвинутым ящиком.
Дарья Никитична села на знакомую скамью и положила на колени сумку с горбатым свертком из вощеной бумаги – пирожки, что она напекла для Чемодановой. Если вдруг явится этот тать Хомяков, она всегда отбре-хается, мол, явилась в архив исключительно для того, чтобы отблагодарить Чемоданову пирожками за проявленное ею усердие…
Мысль о том, чтобы сокрушить коварный план племянника Будимирки увезти ее из России ради своего блага, пришла Дарье Никитичне в тот момент, когда племянник пригрозил ей насильничанием. Что, дескать, он вывезет старую тетку, живой или мертвой. А в том, что Будимирка слов на ветер не бросает, Дарья Никитична не сомневалась – как он насел, чтобы тетка дала согласие на попечительство. Не мытьем, так катаньем – придушит и не дрогнет. Испугалась тогда Дарья Никитична, отступила. И, признаться, любопытно ей было – как там живут, за границей, может, и вылечат распроклятый диабет? Уверил ее Будимирка, что вылечат, там великие доки собрались по лечебной части. Словом, уломал ее племянничек. Но потом ее глаза открылись, видела отношение к себе этой стервозы Ольги и все поняла. А последний разговор с Будимиром окончательно утвердил во мнении, что надо спасаться. Только руки у Дарьи Никитичны были бессильны до тех пор, как по пьяни Ефимка Хомяков разоткровенничался с ней на кухне, что таскает Буди-мирке из архива всякие бумажки, которые за границей могут оказаться в цене. «Так что не беспокойся, тетя Дарья, не помрешь там с голоду, у племянника будет чем поддержать тебя, на улице не оставит, попомнишь еще там Ефима Хомякова, благодетеля!» Хоть и пропустила тогда мимо ушей пьяное бахвальство, да в памяти оно запало. И продержалось до поры, сгодилось. Этим она Будимиркину затею и приструнит, раз он такой нахал и подлец. Пусть власть на него управу найдет, а ее дело подсказать. Если он так с теткой обращается, ради эгоизма своего фамильного, то и она не станет молчать. Сколько горя и унижения натерпелся покойный ее муж от старшего своего братца Леонида, отца Будимирки. Можно сказать, он и погиб по его милости. Зрение было ни к черту, а он на фронт просился и выпросился – мобилизовали его. Не могу, говорит, перед Родиной стыдно, что старший брательник в тылу обогащается в лихолетье военное, – Ленька к складу пристроился, поперек себя толще стал, прохиндей. Даже орден какой-то купил, навесил себе. Хочу, говорит, кровью искупить срам семейный. И искупил. В первом же бою, под Ленинградом, его и пришили, видно недоглядел чего-то, очкарик. А потом и сына Сережу судьба подстерегла… А Ленькиному семейству хоть бы хны. Вышли из войны целыми и с мошной. Так хотя бы подумали о вдовице, помогли чем-нибудь. Куда там! И знать не хотели, наоборот. Хорошо, хоть Будимирка долг отдал…
Так, распаляя себя и подбадривая, Дарья Никитична сидела в служебной проходной, прижимая к животу сверток.
А может, милиционеру рассказать о каверзе, что совершает Ефим Хомяков в пользу племянника, а? Почему бы и нет? Он тут страж, его забота следить за теми, кто что выносит из архива, с него спрос. Пусть Хомякова и возьмет за шкирятник. А что?! А то сидит тут, как попка…
Дарья Никитична не решалась, да и с чего же начать? Еще испугается милиционер – как же, мимо него таскают, а он? Может, и прикроет сообщение, чтобы себя не подводить… С виду, правда, милиционер парень честный, с Кавказа, что ли? Нос горбатый, и волос черный. Там они все горячие, чего доброго и придушит Хомякова. Не годится, надо, чтобы власть добралась до Будимирки, а так какой прок от всей затеи?
Дарья Никитична притворно кашлянула: сержант и ухом не повел, глядя в ящик стола.
– Где же ваша кошка? – спросила Дарья Никитична.
Мустафаев поднял на старуху обалдевший взор.
– А? Кот у нас. Дон Базилио… Шатается где-нибудь, – и вновь упал взором в ящик.
Сорвалась беседа… Дарья Никитична робела. Оказывается, не так просто управиться с затеей, это дома ей казалось все просто, когда видела ненавистного племянника, слышала визг его супруги Ольги. А коснулось дела – пожалуйста, язык стал липкий, еле ворочается, и жар глаза застилает… И сидеть здесь не очень-то спокойно, того и гляди, нагрянет Ефимка со своей телегой, коситься будет.
Дарья Никитична прошуршала жесткой бумагой, теребя сверток. А если Чемоданова не спустится? Надо было позвонить ей по телефону, условиться о встрече… И вообще, можно было по телефону все дело и закончить, да боялась старая – вдруг Ефимка Хомяков повиснет на проводе, мало ли, в одном помещении работают.
С улицы раздался шум подъехавшего автомобиля. В мутном стекле тамбурной двери появился грязно-желтый верх милицейского газика. Вскоре в архив ввалилась ватага – милиционер и трое молодцов, наголо подстриженных, в мятых пиджаках и замызганных рубашках.
Мустафаев задвинул ящик стола и резво поднялся на ноги.
– Приехали?! – крикнул он навстречу новому милиционеру.
– Давай! Принимай остаток, – ответил тот. – Я людей прихватил, пусть потаскают, а то бездельничают в камере.
Арестанты равнодушно озирались. У одного в губах торчала спичка, придавая стриженой физиономии бандитский вид.
Дарья Никитична заерзала. Неужто настоящие арестантики? И с надеждой поглядела на хилого милиционера.
– Под лестницу складывайте, – подсказал Мустафаев. – В общую кучу.
– А мне сказали, куда-то на этаж надо поднимать, – вставил милиционер.
– Пока место не готово, – ответил Мустафаев. – А там посмотрим.
– Так мы что – за один срок два раза таскать будем? – лениво произнес тот, со спичкой. – Не дело, начальник.
– Давай, давай! – прикрикнул милиционер. – Поговори мне еще. В вонючей камере сидеть лучше?
– Так там мы отбываем, а тут работаем, – рассудил один из арестантов, худощавый парень со смуглым цыганским лицом.
– Не рассуждать, принимайтесь за работу, – приказал милиционер.
Арестанты продолжали озираться, задержав взгляд на присмиревшей старушенции, а тот, со спичкой, даже подмигнул ей разбойным глазом. Наконец приступили к работе. Двое подносили с улицы документы, третий их укладывал. Милиционер сел с другого конца скамьи, наблюдать. Мустафаев вернулся к столу, но ящик не выдвигал, пережидал.
– Слышь, Цыган, – произнес тот, со спичкой, видно и впрямь цыганом был худощавый. – Придет время, и нас похерят в архиве, чтобы ни одна собака не узнала.
– Ну, мы еще побегаем на воле. Можно подумать… Ты против них муха на палочке, – ответил Цыган, поднося дела. – Укладывай ровно, а то повалятся.
– По оплате и работа, – вступил третий, пожилой арестант с синей избитой физиономией.
Дарья Никитична придвинулась поближе к милиционеру, так спокойней. Перевела дух и спросила шепотом:
– За что же их?
Милиционер важно молчал, прикрыв глаза. Отозвался тот, со спичкой в зубах.
– Я, бабка, троих пришил. Утюгом, – процедил он, перекатывая спичку. – А четвертого не успел, он сам копыта отбросил. А мне впаяли и за четвертого. Где справедливость?
– Тогда тебе добрать надо, чтобы по совести, – подначил Цыган. – И случай подходящий, бабушка и так еле дышит от страха.
Арестанты заржали. Дарья Никитична обомлела. Еще бы, от таких чего угодно можно ждать. И милиционер-тюхтяй, сидит себе рядом, помалкивает. Спит, что ли?
– Ты, мать, не дрейфь, – сжалился пожилой арестант, улыбаясь битой мордой. – Мы безвредные, пятнадцатисуточники. Мелкое хулиганство. А то валяют дурака, тебя пугают. Не дрейфь.
И Дарья Никитична встречно улыбнулась, потеплело на душе.
– Эх ты, – вздохнул Цыган. – Испортил кино. Штабеля дел под лестницей разрослись, загораживая проход. Работа шла к концу.
– Слушай-ка, родимый, – позвала Дарья Никитична пожилого. – Пойди сюда, прими угощение.
Битый арестант остановился, глядя, как старушка, прошуршав в пакете, вытянула пирожок.
– Бери свободно, – подталкивала Дарья Никитична.
– Ну, мы не из застенчивых, – перебил тот, со спичкой, и, шагнув к Дарье Никитичне, цепко перехватил угощение. И тут же, целиком, пихнул в рот.
Дарья Никитична засмеялась. Раздала каждому по пирожку, и милиционеру досталось, и Мустафаеву.
– Вот вам и оплата, – довольно щебетала старушка, ласково улыбаясь арестантикам, и произнесла под настроение: – У меня тоже племянник сидел… Варгасов, слышали, нет?
Арестанты наморщили лбы.
– Это какой Варгасов? – отозвался пожилой. – Не управляющий ли Дачным строительным трестом?
– Он самый, – обрадовалась Дарья Никитична.
– Так я же у него в стропалях служил… Ну, мать, такой мог себе целую тюрьму купить. И сидеть в свое удовольствие, – брезгливо проговорил пожилой. – С нами его не ровняй.
– Гусь свинье не товарищ, – заключил Цыган.
Арестанты продолжили работу. А Дарья Никитична почувствовала неловкость и обиду. Ах ты, сукин сын, Будимирка! Даже сесть путем не мог, чтобы не совестно было людям в глаза глядеть… Занятая обидой, она проглядела, как с лестницы, тяжело ступая, спустился плотный мужчина в тесном пальто, под которым угадывался объемистый живот. В руках толстяк держал облезлый кусок меха, в котором можно признать шапку. Это был Гальперин.
Мустафаев уважительно поднялся навстречу.
– Ну как, Полифем? – пророкотал Гальперин, правда, без привычного вкусного раската. – Идет служба? Да, я смотрю, тут широкое народное представительство, – он оглядел Дарью Никитичну, перевел взгляд на арестантов.
– Что, галерники, работаете?! Таскаете кирпичики нашей истории? – голос Гальперина звучал безобидно, даже участливо.
– Истории и географии, – сбалагурил бойкий на язык Цыган.
Гальперин довольно засмеялся, колыхнув животом.
– Это вы верно определили, юноша. – И оборотившись к Мустафаеву, спросил: – Директора не видели?
Мустафаев пальцем ткнул в потолок.
– Понятно. При деле… Передайте, что я отправился в Публичную библиотеку. И сегодня не вернусь, – переждав очередную арестантскую ходку, Гальперин шагнул за порог.
– Кто это? – спросил Цыган.
– Заместитель директора, – ответил Мустафаев.
Дарью Никитичну подбросило. Вот кто ей нужен! Не милиционер и Чемоданова, а этот толстяк с сырым просторным лицом и унылым носом, заместитель директора архива.
Проворно сползнув со скамьи, она сунула остаток гостинцев в сумку и, не простившись, шмыгнула за порог.
Гальперин шел, переваливаясь на медленных ногах, отчего тесное пальто ходило ходуном от плеч до подола. Шапку он так и не надел, подставляя свежему воздуху редкие сивые волосы… За годы близости с Ксенией, как ни странно, он не удосужился узнать ее адрес в Уфе. И теперь направился в Публичную библиотеку, где надеялся разыскать адрес по читательскому формуляру.
Мысль о том, что Ксения оставила его, казалось, материализуется в мозгу, физическим грузом клоня голову вниз, выгибая шею… Особенно в последнее время, когда каждый грядущий день накатывался с неотвратимостью рока, тая в себе какую-то зловещую перспективу. Чем это объяснить, он не знал, но чувствовал. Он лишился сна, и ночами нередко в квартире раздавалось поскрипывание рассохшихся паркетин. Аркадия он вернуть не мог. Он не мог все повернуть вспять – страх перед лишениями, на которые он себя обрекал в этом случае, не проходил. А вот Ксения… Как жить без ее милого голоса, ее взгляда, ее рук, таких сильных и нежных. Не может так статься, чтобы вчера он ей был нужен, а сегодня – забыт. Надо написать письмо, позвонить, а то и самому съездить в Уфу.
Гальперин остановился и принялся расстегивать верхние пуговицы пальто. Если с силой нажать пальцами чуть ниже левой ключицы, тяжесть в сердце притупляется, видно, проявляют себя какие-то нервные узлы… Он просунул ладонь за обшлага, а взгляд тем временем оглядел старушку, что остановилась в нескольких шагах от него. Ту самую, которая сидела в архиве. Старушка что-то шептала блеклыми губами… «За мной идет, что ли?» – подумал Гальперин.
Автобус собирал пассажиров, пока водитель просматривал газету. Гальперин поднялся на площадку и почувствовал под боком утлую голову той самой старушки.
– Преследуете вы меня, что ли? – проговорил он без особого радушия.
Дарья Никитична потерянно кивнула. Обращение Гальперина положило конец ее робости и сомнениям.
– Да, товарищ, – с готовностью согласилась она. – Поговорить бы надо.
Гальперин поморщился. Он не любил подобные прихваты, они ничего не сулили, кроме просьб и претензий. Особенно от стариков, точно те ищут в архиве себе вторую жизнь.
Автобус натуженно заурчал и двинулся в путь.
Возня с билетами, тряска, гул и собственные заботы отвлекли Гальперина. И присесть некуда, повсюду над креслами торчали жеваные лица пожилых людей, словно распустили на каникулы областной дом престарелых…
«Завезет куда-нибудь, ей-богу, выбирайся потом», – думала с тоской Дарья Никитична, еще раз недобро помянув про себя племянничка, и, приподнявшись на носках, крикнула в крупное, поросшее мхом ухо Гальперина – далеко ли тот собрался?
– До площади Энергетиков, – Гальперин вздрогнул от неожиданности.
– Это где? – Дарья Никитична плохо разбиралась в новых названиях. – Там, где памятник коню?
– Коню? – озадаченно переспросил Гальперин и засмеялся. Он вспомнил, что на старинном здании Публичной библиотеки, в глубокой нише, чудом сохранился горельеф с изображением лошадиной морды и торса седока с отшибленной головой. – Коню?! Это памятник крупнейшему реформатору России, Его Величеству императору Александру Второму, матушка… Коню…
Дарья Никитична приободрилась. Смеется, это хорошо, теперь она от него не отвяжется, пока все не расскажет…
– А что он такого сделал? – хитровато потрафила Гальперину старушенция.
– Ну… Хотя бы отменил крепостное право, – добродушно отозвался Гальперин.
– Ничего он не отменил, – отрезала Дарья Никитична. – Крепостное право до сих пор имеется. У кого есть крепость, у того и право.
Пассажиры автобуса одобрительно помалкивали, словно догадывались об огорчениях, что доставлял Будимирка своей престарелой тетке…
2
Янссон шел и думал. То, что произошло на кафедре фармакологии медицинского института, казалось самым невероятным из всего, с чем он сталкивался на своей первозданной родине за время торопливых наездов.
К скудным магазинам, темным ночным улицам и мрачноватым лицам он привык. Его не удивляла и дорогостоящая гостиница с водопроводом, отсутствие воды в котором с одиннадцати утра и до шести вечера объяснялось ремонтом, словно это была не обыкновенная система труб, а капризный электронный организм… Но чем объяснить, что принципиально новый метод синтеза для получения препарата с особо избирательным действием на сосуды головного мозга встретил активное недовольство у всех пятерых крупных фармакологов города? Этого Янссон понять не мог! А один, розовощекий, с гусарскими усами, ведущий специалист завода лекарственных препаратов даже заявил: мол, вы у себя, в Швеции, изготовьте сам препарат, проведите все стадии испытания, а потом уж нам и дарите! Янссон изумился: «Помилуйте, господа… Я совершенно бесплатно передаю в дар России сердцевину препарата. Требуются лишь дублирующие испытания, чтобы сравнить с теми, еще дореволюционными результатами. Ну, и разработка промышленной технологии… Вы платите валюту за девинкан и кавинтон. Наш же, кавинкан, объединяет лучшие свойства этих лекарств. Он менее токсичен, ибо производится из трав, не оказывает побочных действий. Да если мы выпустим его на рынок, это же сенсация в лечении расстройств мозгового кровообращения после инсультов, травм и даже атеросклеротических болезней. Я не понимаю, господа! Мы решили на семейном совете сделать подарок своей родине… Я не понимаю вас, господа. Ведь препарат уже практиковался в России, с отменным результатом. Только в малых объемах, рассчитанных на дедушкиных пациентов на Васильевском острове Петрограда… Надо только найти промышленный эквивалент».
Размышляя, Янссон убыстрял шаг.
– Не забывайте, Николай Павлович, я иду рядом с вами, – Чемоданова едва поспевала.
– Ах, извините, – Янссон смирил шаг. – Может быть, они меня не так поняли? – он посмотрел на Чемоданову жалостливым взором. – Может быть, я волновался и плохо излагал мысли?
– Вы говорили по-русски лучше них, Николай Павлович, – Чемоданова взяла Янссона под руку и подумала, что напрасно она всех столкнула лбами в архиве. Читала документы, прячась у стены с Женькой Колесниковым от посторонних взглядов. – Жаль, что столько попортили нервов из-за спецхрана.
– Что вы, Нина Васильевна. Именно то, что обнаружили в спецхране, и дало основание сослаться на практическое применение препарата в военном госпитале, на Васильевском острове, – горестно произнес Янссон. – Просто мне кажется, в старой России люди были умнее… Или ответственнее, что ли.
Маленькая злая луна светила ярко и пронзительно, съедая белым светом ближайшие звезды. А тени от луны – длинные, ломкие – полосовали стены. Круглые часы на кронштейне в стене дома походили на птицу, прильнувшую к ветке, клювом указывающую на без четверти девять… Сколько же времени они провели на этом совещании, если началось оно около семи вечера? Почти два часа пустых разговоров.
Чемоданова там сгорала со стыда. Хотелось стукнуть кулаком и крикнуть: «Да перестаньте вы юлить! Скажите честно: у нас свои шкурные интересы. Нам ваши подарки, господин Янссон, как зубная боль. Не звонок из министерства, мы бы вас на порог не пустили».
– Отчего у них там такой запах? – спросила Чемоданова.
– Запах? Мыши, крысы… морские свинки, – угрюмо ответил Янссон. – Обычный запах фармолабо-ратории.
– Чуть было не задохнулась в этом зверинце, – с нажимом проговорила Чемоданова.
– Я видел… вы так переживали, – вздохнул Янссон.
В кепи, отороченном мехом, и длинном, расклешенном книзу пальто он походил на перевернутый восклицательный знак. Чемоданова пыталась втолковать гостю истинные, на ее взгляд, причины, вызвавшие такую неприязнь. Вспомнила свою историю с вологодским маслом. Тогда она тоже ворошила архивы, разыскивая документы, а в итоге чуть было не лишилась работы… «Вы, со своим кавинканом, наверняка подставляете ножку какой-нибудь диссертации или плановой работе, или просто предлагаете какую-то заботу, а заботиться лень».
Распалясь разговором, они шли, не замечая пути. Чемоданову эта тема выводила из себя. Так живешь себе и живешь, а как столкнешься… Янссон слушал внимательно, с нескрываемой обидой.
У дверей с табличкой «Детский сад № 6» возились с замком две женщины в тулупах. Из поставленных на асфальт пухлых сумок торчало несколько палок колбасы.
– Ты контрольку вложила? – спросила одна из них, подозрительно глядя на Чемоданову и Янссона.
– А как же! Только не подписала. Ручку забыла на кухне, – ответила вторая. – Ну и хрен с ней, с подписью. Ты чего, Маш?
– Ходют тут всякие… Иностранец, что ли? Мужик, точно чучело.
– Тише ты, может, они по-русски понимают. Чемоданова обернулась и проговорила:
– Понимаем, бабоньки, понимаем.
– Ну и ладно, – без тени смущения ответила та, что управлялась с замком.
Женщины подняли свои сумки и, покато изогнув плечи под тяжестью груза, двинулись вдоль пустующей улицы.