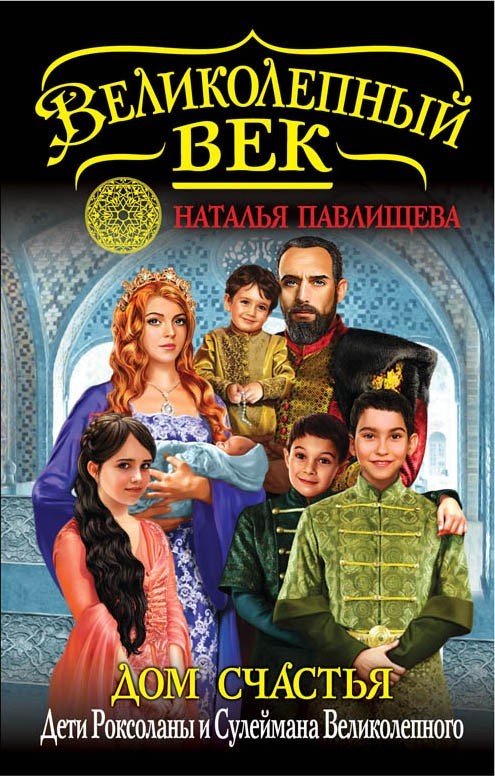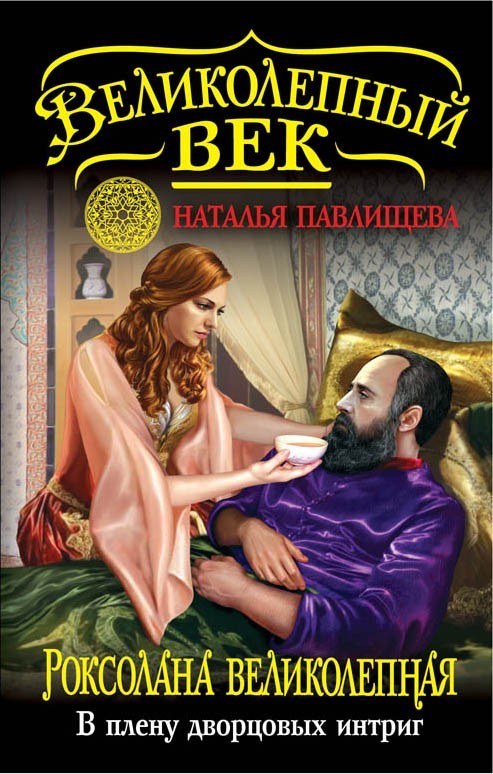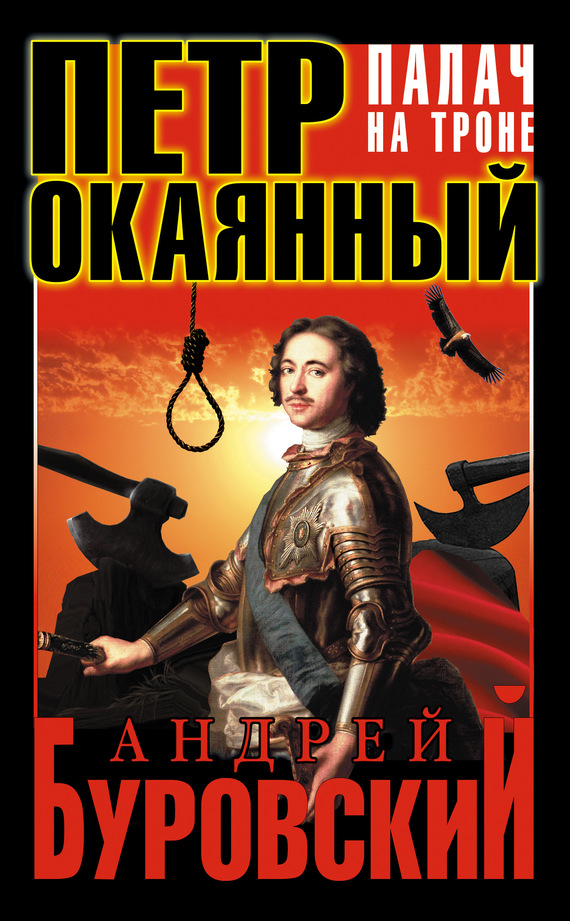Охотники за сокровищами. Нацистские воры, хранители памятников и крупнейшая в истории операция по спасению мирового наследия Эдсел Роберт

– И ты потребовал ее себе, да?
– Я ее нашел, – просто ответил Стаут.
Этот человек изменил музейную консервацию при помощи одного библиотечного карточного каталога. Он не стал бы тратить свое время на жалобы и просьбы, когда вокруг было столько ресурсов.
«Стаут был прирожденным лидером, – писал Крейг Хью Смит, присоединившийся к хранителям позже. – Тихий, скромный, бескорыстный человек, но в то же время сильный, глубокий мыслитель и потрясающий новатор. Он не бросался словами, выражался ярко и точно. Ему верили и хотели делать все так, как он задумал».
Именно Джордж Стаут созвал эту встречу и, как любой хороший руководитель (хотя официально он никому из них не был начальником), сделал это вовсе не для того, чтобы обменяться впечатлениями. Он прибыл в Нормандию 4 июля, став одним из первых хранителей на континенте, и за прошедшие шесть недель объехал больше достопримечательностей и спас больше памятников, чем кто-либо из них. Он прибыл в Сен-Ло не ради оваций, не ради жалоб. Он прибыл, чтобы определить проблемы и найти пути их решения.
Не хватает табличек «Вход воспрещен»? Роример проследит, чтобы напечатали еще 500. В Нормандии случались перебои с электричеством, но у армии была типография в Шербуре, которая работала даже по ночам. А пока все будут писать объявления от руки.
Солдаты и гражданские не обращают внимания на написанные от руки объявления? И тут у Стаута готово решение: обносите важные места белой саперной лентой. Ни один солдат не сунется туда, где будто бы сказано: «Осторожно: мины!»
Одной из главных рекомендаций штаба ПИИА было просить о развешивании объявлений французов, чтобы союзники не выглядели оккупантами. Роример предложил использовать детей. Их легко уговорить, а в качестве вознаграждения чаще всего достаточно жвачки или дольки шоколада.
– Местные работники культуры тоже годятся, – сказал он. – Если выдавать им четкие инструкции и поощрять, они способны выполнить самые сложные задачи.
Что до фотокамер, то все сошлись на том, что без них работать невозможно, но пока придется потерпеть.
Еще одной большой проблемой была связь. На выездах хранители оставались в одиночестве и никак не могли связаться со штабом или передать информацию друг другу. Их официальные рапорты достигали адресатов спустя недели и годились только для архива. Сколько раз после трудных и опасных часов в дороге они прибывали на место, чтобы обнаружить, что охраняемый памятник уже осмотрен и сфотографирован, а реставрационные работы в самом разгаре. А что, если, пока хранитель на выезде, случится внезапная контратака немцев?
– Хуже всех англичане, – буркнул Роример, которого порядком достали беспорядочные блуждания британского хранителя лорда Метьюэна. – Они не соблюдают границы. И никакой связи нет.
– Британцы работают над этим, – ответил Лафарж.
– Что касается рапортов, – предложил Стаут, – давайте, когда отправляем их командованию, делать дополнительные копии друг для друга.
Они заговорили об ассистентах. Стаут все так же считал, что каждому из них в армии нужен хотя бы один квалифицированный помощник, а лучше – резерв специалистов в штабе, из которых они могли бы выбирать.
Тяжелее всего они переживали отсутствие транспорта. У Лафаржа был свой видавший виды драндулет, у Стаута – «Фольксваген» без крыши, но все остальные тратили бесценные часы на поиск попуток, а потом застревали на окольных путях.
– У армии на все один ответ, – ворчал Роример. – Комиссия Робертса в Вашингтоне должна была заранее озаботиться вопросами организации и оборудования.
– А в комиссии Робертса отвечают, что армия не позволяет вмешиваться в их дела, – ответил Стаут, тем самым обобщив ситуацию, в которой находился отряд. И все же никогда не терявшие оптимизма Хэммет и Стаут сумели назначить на 16 августа встречу с командованием 12-й армии США, где собирались обсудить все проблемы.
Поговорив о главном, они принялись делиться впечатлениями. Сошлись на том, что, несмотря на все трудности, им удалось добиться успеха. Им повезло: и территория досталась небольшая, и в Нормандии, при всей ее красоте, было не так уж много требующих охраны памятников. Для старта это место было идеальным. Они прекрасно понимали, что в будущем придется работать гораздо больше, но пока могли быть довольны собой. Доблестные и мужественные французы были им благодарны. Солдаты внимательно относились к французской культуре. Главные проблемы шли сверху – армейская бюрократия попросту отказывалась поддерживать миссию. Но командование передовой относилось к хранителям с большим уважением, пусть они и мешали им воевать. И это лишний раз укрепляло уверенность Стаута в том, что только работая на передовой, можно чего-то достигнуть.
Так что у них оставалась всего одна реальная беда – немцы. Чем больше хранители узнавали о них, тем мрачнее становились. Немцы устраивали центры обороны в церквях. Складировали оружие там, где жили женщины и дети. Сжигали дома, разрушали все вокруг – иногда в стратегических целях, но чаще всего просто от злобы. Говорили, что их командиры стреляют в собственных солдат, если те пытаются отступать. Порывшись в своих вещах, Джеймс Роример достал визитку. На одной ее стороне значилось: Д. А. Агостини, представитель французского культурного департамента, город Кутанс. На другой стороне было написано: «Подтверждаю, что немецкие солдаты используют машины Красного Креста для мародерства и что ими зачастую руководят офицеры».
– Зловещее предупреждение, – произнес Джордж Стаут.
Он озвучил то, о чем все думали, так что никто даже не дал себе труда выразить свое согласие вслух.
– Идиот! – кричал на Джеймса Роримера новый и уже не такой понимающий командир части, когда несколькими днями позже тот попросил разрешения съездить взглянуть на монастырь Мон-Сен-Мишель. Эта средневековая крепость располагалась на скалистом острове рядом с побережьем Бретани.
– Сейчас двадцатый век! Кому какое дело до средневековых стен и кипящей смолы?
Вот и еще одна проблема – в армии постоянно менялись командные кадры, и Роример никогда не знал, кто станет его начальником, когда он вернется в часть и каково будет его отношение к охране культурных ценностей. Но хранителей спасала поддержка генерала Эйзенхауэра – приказ Верховного Главнокомандующего, о котором, кажется, внезапно вспомнил и этот офицер.
– Ну ладно, – пропыхтел он, – езжай. Но только предупреждаю, Роример, тебе следует поторопиться и вернуться как можно быстрее. Если отстанешь…
Роример отвернулся, чтобы офицер не заметил его улыбки. Он представил себе окончание это фразы: «…большой потери не будет» – и это его развеселило. Он всегда любил посмеяться.
Роример и не надеялся на официальный транспорт. Он нашел машину у одного француза, прятавшего ее от немцев в стоге сена, и попросил отвезти его в Бретань. Немецкая контратака почти прорвала позиции Паттона у города Авранш, но битва за Нормандию уже подходила к концу, и к западу от Авранша все было тихо. Пока они ехали, Роример думал об аббатстве Мон-Сен-Мишель, в котором побывал когда-то давно. Скалистый остров соединялся с материковой Францией только узкой длинной дамбой. На склонах горы к острову прижималась крошечная деревушка, а посредине возвышался монастырь Мон-Сен-Мишель, знаменитый средневековый «Город книг». От одной мысли, сколько этих книг было уничтожено в Сен-Ло, Роримера передернуло. Но если и монастыря больше нет… Он вспомнил крытую галерею XIII века, грандиозное аббатство, подземный лабиринт часовен и крипт, остроконечные своды Зала рыцарей, поддерживаемые тремя рядами колонн. Это было здание настолько выдающееся, что, по утверждению хранителя памятников Лафаржа, именно знакомство с ним вдохновило его стать архитектором. Мон-Сен-Михель выдержал целое тысячелетие атак и смут не в последнюю очередь благодаря защите воды и стремительных приливов. Но с помощью современного оружия эту крепость можно было стереть с лица земли всего за одну бомбардировку.
Долго волноваться Роримеру не пришлось. Уже издалека было видно, что Мон-Сен-Мишель на месте. При въезде на дамбу висело сразу три объявления «Вход воспрещен», которые еще до его приезда разместил прикрепленный к 3-й армии Роберт Поузи. Увы, листки бумаги не могли спасти остров от наплыва солдат, которые шумели, дрались, а чаще всего просто пили. Роример довольно быстро осознал, что Мон-Сен-Мишель «был единственным местом на континенте, где не было ни охраны, ни разрушений войны и, несмотря ни на что, продолжалась обычная жизнь… Каждый день сюда устремлялись в увольнительную тысячи солдат, напивались и буянили так, что местным властям не под силу было с ними справиться». В кабаках заканчивалась еда и, что еще хуже, выпивка. Сувенирные лавки были пусты. И хотя в местном отеле вроде бы поселился какой-то британский генерал с дамой, Джеймсу Роримеру не удалось найти ни одного офицера, отвечающего за порядок на острове.
В тот вечер, осмотрев древний комплекс монастыря, прогнав солдат из исторических зданий и повесив на двери замки, Роример ужинал с мэром, чей сувенирный магазинчик был полностью опустошен несколькими днями раньше. Они сошлись на том, что, несмотря на все аргументы против, жизнь в Мон-Сен-Мишеле должна течь своим чередом. В эти долгие три месяца более 200 тысяч солдат союзников были ранены, убиты или пропали без вести. Воздух, вода, еда и даже одежда пропитались зловонием смерти – людей и лошадей. Битва за Нормандию была жестокой, но решительной победой союзников, и никакой хранитель памятников не смог бы остановить празднующих ее солдат. Усталый мэр отправился домой к жене, а Роример пошел в бар, положил на стол ноги и, потягивая пиво, задумался о будущем.
Нормандия позади, но настоящая работа еще только предстоит. Он подумал о немецких солдатах, растаскивающих произведения искусства на машинах Красного Креста. Он не сомневался, что нацисты виновны в ужасных преступлениях, и если он правда желает защитить мировое искусство, ему следует поскорее выбираться из зоны коммуникаций на фронт. Где-то там – доказательства нацистских преступлений, и он обязан их найти. А для этого сначала надо попасть в Париж.
На следующее утро Роримера остановил военный полицейский ВВС и потребовал предъявить документы. Бумаги Роримера только подтвердили его подозрения – увидев их, солдат улыбнулся, кивнул и арестовал хранителя.
– У офицера такого низкого звания не может быть ваших полномочий, – сказал он, – и ни один офицер не станет передвигаться без личного транспорта.
Даже офицеры местного штаба были уверены, что поймали немецкого шпиона. Полицейский ликовал, воображая грядущее повышение и награды. Он лично сопроводил «шпиона» назад в штаб Роримера, где его ждало оглушающее известие: отряд ПИИА действительно существует и в нем действительно значится младший лейтенант Джеймс Роример. Может, хранители памятников и считали свои первые месяцы в Европе успехом, но на самом деле путь им предстоял длинный.
Письмо Джорджа Стаута жене Марджи27 августа 1944Дорогая Марджи!
Мне досталось немного конвертов авиапочты, так что я могу позволить себе слегка поразглагольствовать. Уже неделя прошла с тех пор, как я был в штабе и читал почту. Если повезет, доберусь до нее завтра и получу весточку от тебя, моя дорогая.
Эта неделя была насыщена тяжелой, но радостной работой. Два дня я квартировал в городе, и в городе немаленьком, жил в хорошей комнате, общался с милейшим семейством. Очаровательный дом, полный людей, похожих на многих наших знакомых, – поражаюсь тому, насколько малы на самом деле различия между нациями, ну или хотя бы между цивилизованными нациями.
Наша армия продвигается вперед, и всплывают все новые свидетельства фашистских преступлений, так что счет в нашу пользу. Они вели себя отвратительно, а под конец оккупации еще и жестоко. Теперь немцы совсем не кажутся невинными овечками под властью преступных лидеров. Они и сами преступники. И я не могу себе представить, сколько времени им потребуется, чтобы снова зажить в мире со всеми остальными народами.
Находясь в городе, я чувствую себя таким неряхой в полевой одежде: в шлеме, без галстука, с головы до ног покрытый дорожной грязью, да еще и с оружием. Здесь очень непросто заботиться о чистоте. В последние дни у меня совсем не было времени на стирку, а со всеми этими переездами мне некому ее поручить.
Гостеприимность и дружелюбие французов, кажется, не знает границ. Сегодня я видел, как в город въезжает джип, забросанный цветами. «Можно подумать, мы уже выиграли войну», – сказал сидевший за его рулем капрал. Вчера в деревне, почти не пострадавшей от войны, маленькая девочка принесла свою двухлетнюю сестричку, и та протянула мне яблоко. Как мне было от него отказаться? И от помидора, который дал мне мальчишка в другой деревне… И все хотят пожать тебе руку хотя бы дважды.
Пожалуйста, береги себя. Пока до тебя шло это письмо, лето закончилось, и ты уже с унынием задумываешься о грядущих учительских собраниях. Не бери на себя ничего другого, после того как откроется школа. Я постараюсь на днях выбить жалованье и пошлю тебе денег.
Могу себе представить, что у вас очень много говорят об убитых. Мы здесь ничего такого не слышим и чувствуем себя не хуже, чем всегда.
Люблю тебя и часто о тебе думаю.
Твой Джордж
Глава 12
Мадонна Микеланджело
Брюгге, Бельгия
Сентябрь 1944
К концу августа 1944 года европейская кампания немцев обернулась стремительным отступлением. Немцы бросили все свои резервы на «Стальное кольцо» в Нормандии, и, когда их оборона была прорвана, путь перед западными союзниками был полностью открыт. Стремительно продвигаясь вперед, почти не встречая сопротивления, они натыкались на тонны брошенного провианта, сотни вагонов угля, бесчисленное количество забытых машин, на раненых немецких солдат и даже на грузовики, набитые трофейным бельем и духами. Деревни были украшены цветами, жители городов ликовали, преподнося освободителям вино и угощение. Выжившие немцы бросали оружие и бежали домой.
К августу 1944 года линия фронта продвинулась примерно на 200 километров за Париж и его восточные пригороды. 2 сентября союзники достигли Бельгии. Им потребовался всего день, чтобы пройти большую часть страны и освободить Брюссель. Четыре дня спустя, глубокой ночью 7 сентября или в предрассветные часы 8 сентября, ризничего собора Нотр-Дам в бельгийском городе Брюгге разбудил стук в дверь. Пока он одевался, стук становился все настойчивее, и к тому моменту, когда он добрался до двери, в нее уже колотили изо всех сил.
– Тише, угомонитесь, – запыхавшись, пробормотал он.
За дверью стояли два немецких офицера, на одном была синяя форма нацистского флота, на другом – пехотная серая. В темноте за ними виднелись вооруженные немецкие солдаты из ближайших казарм – человек двадцать, а то и больше. Они приехали на двух грузовиках, на которых стоял знак Красного Креста.
– Отпирай собор, – потребовал офицер.
Ризничий отвел немцев к декану.
– У нас приказ, – в руках у немца была бумага. – Мы забираем Микеланджело, чтобы спасти его от американцев.
– От американцев? – такая наглость развеселила декана. – Говорят, у города стоят британцы, но ни о каких американцах я ничего не слышал.
– У нас приказ, – повторил немецкий офицер и, оттолкнув декана, зашел внутрь. Вслед за ним вперед выступили несколько вооруженных моряков. Намек был понят. Декан и ризничий открыли массивные двери старыми железными ключами и пустили солдат в собор. Улица за ними была совершенно безлюдна. Во время немецкой оккупации только партизаны отваживались ходить по улицам в два часа ночи, но и они старались пробираться переулками. Затемнение, может, и остановило ночные бомбардировки союзников, зато оказало неоценимую помощь Сопротивлению.
– Вам никогда не вывезти ее из Брюгге, – сказал декан солдатам, распахивая старинные двери. – Британцы уже в Антверпене.
– Не стоит верить всему, что слышишь, – ответил офицер. – Путь еще открыт.
Оказавшись внутри, немцы действовали быстро. У дверей выставили охрану. Обошли ризницу, закрыли все окна. Двое солдат не сводили глаз с декана и ризничего. Остальные сразу направились в северный придел собора, где в защищенной комнате, обустроенной властями Бельгии в 1940 году, хранилась скульптура. Немцы раздвинули двери. Их фонарики – возможно, единственное ночное освещение во всем Брюгге, – выхватили из темноты Мадонну. От ее выполненной в полный рост фигуры исходило сияние, нежные черты лица и складки одежды были вырезаны молодым Микеланджело из лучшего, самого белого мрамора Италии. Мадонна взирала на нацистов с тихой грустью, а Иисус, менее всего похожий на беспомощного младенца, будто бы стремился выступить из алькова на свет.
– Несите матрасы, – скомандовал старший.
За четыре дня до этого собор посетил доктор Розманн, глава немецкой организации по защите искусств и памятников.
– Прежде чем я покину Бельгию, – сказал он тогда, – мне хотелось бы напоследок взглянуть на Мадонну. Все эти годы я храню ее изображение на своем письменном столе, – сообщил он декану.
Осмотрев скульптуру в этот раз, Розманн велел своим людям принести в комнату несколько матрасов.
– Для защиты, – пояснил он. – Американцы ведь варвары, не то что мы. Разве они смогут отнестись к ней с должным уважением?
Только теперь декан понял, что матрасы были нужны не для защиты от бомб. Это был самый безопасный способ быстро перенести статую в фургон.
– А что картины? – спросил один из моряков. На стене рядом с Мадонной висели самые выдающиеся работы из коллекции собора. Старший ненадолго задумался, рассматривая их.
– Эй ты, – сказал он одному из стоявших у дверей солдат, – пригони-ка еще один фургон.
У декана перехватило дыхание, когда солдаты взобрались на постамент бесценной статуи. Он не мог отвести от нее глаз, боясь, что любое мгновение может стать для нее последним. За его спиной ризничий крестился и бормотал молитвы, не осмеливаясь взглянуть на статую, которая уже качалась на своем пьедестале. Полутораметровая скульптура скользнула вниз, на матрас, который на весу держали солдаты, придавив остальные к земле. Но она была цела, во всяком случае, декан не заметил повреждений. Лежала лицом вниз – но хотя бы была цела.
С десяток солдат осторожно понесли Мадонну к боковой двери, остальные достали лестницу. Солдаты начали снимать картину, а их командир мерил шагами комнату, усеивая пол сигаретными окурками. Туда-сюда, туда-сюда.
– Слишком высоко висит, – крикнул один из моряков. – Нужна лестница повыше.
– Не ори, – скомандовал офицер. На улице еще не светало, у них оставалось достаточно времени. – Попробуй еще раз.
Мадонна была уже у двери. Моряки, явно следуя выданным ранее инструкциям, взяли второй матрас и накрыли им скульптуру. Это ее не особенно защитит, но хотя бы скроет кражу от слишком любопытных глаз.
– Не снимается, командир, – сказал один из стоявших на лестнице солдат.
– Ну и ладно, – ответил командир, которого начала страшно раздражать вся эта операция. Было пять часов утра, он не спал всю ночь, и все из-за какой-то статуи. – Бросьте эту картину, она не имеет значения. Грузите остальное.
Еще полчаса понадобилось на то, чтобы затащить статую в один из фургонов Красного Креста. Солдаты набились во второй фургон, а в третий, который часом раньше пригнал один из них, отправились картины. Горизонт окрасился первыми нежными лучами зари, а ризничий и декан, стоя у дверей, смотрели, как исчезает Мадонна Микеланджело, единственная работа мастера, покинувшая Италию при его жизни.
Тут декан прервал свой рассказ, чтобы глотнуть чаю. Рука его слабо дрожала.
– Считается, что она была вывезена из Брюгге морем, – с грустью закончил он. – Но возможно, что и по воздуху. В любом случае здесь ее больше нет.
Сидевший напротив него хранитель памятников Рональд Бальфур, сосед Стаута по комнате в Шрайвенхеме, поправил очки и сделал пометку в журнале. Кабинет декана напоминал ему собственную библиотеку в Кембридже.
– Вы можете предположить, когда она покинула Бельгию?
– Пару дней назад, не раньше, – печально ответил декан. – Возможно, только вчера, кто знает.
Было 16 сентября: прошло восемь дней со дня кражи и всего несколько – с триумфального входа англичан в город.
Бальфур закрыл тетрадь. Мадонна Брюгге ускользнула от них, из его рук. А ведь он был так близок!
– Хотите я дам вам фотографии?
– Мне не нужны фотографии, – ответил Бальфур, погруженный в свои мысли.
В британскую армию он вступил в 1940 году. Три года провел, набирая пехотинцев в сельской Англии. Восемь месяцев проходил обучение на хранителя памятников. Он считал себя готовым. Но вот всего три недели, как он находится на континенте, приписанный к 1-й канадской армии на северном фланге наступления, и такая неудача. Одно дело – вступить во французский Руак и обнаружить, что Дворец правосудия уничтожен. Сначала, в апреле, в него попала шальная бомба союзников, а 26 августа немцы спалили весь район, чтобы уничтожить телефонную связь. Бальфур опоздал спасти дворец меньше чем на неделю.
Но здесь все было иначе. Речь шла не о военном ущербе, не о печальном решении, принятом во время поспешного отступления. Не было новостью, что немцы крадут произведения искусства. Но то, что даже сейчас, перед лицом массированного наступления союзников, они все еще похищают скульптуры и картины, не укладывалось у Бальфура в голове.
– Возьмите их, – настаивал декан, протягивая стопку открыток. – Покажите всем. Пожалуйста. Вы знаете, как выглядит Мадонна. Но большинство солдат не знает. Вдруг они наткнутся на нее в сарае, в доме какого-нибудь немецкого офицера или, – он помолчал, – в порту. Возьмите, чтобы они опознали ее, чтобы знали, что она – одно из чудес света.
Старик был прав. Бальфур взял открытки.
– Мы найдем ее, – сказал он.
Глава 13
Собор и шедевр
Северная Франция
Конец сентября 1944
*
Южная Бельгия
Начало октября 1944
В середине сентября 1944 года на континент отправился последний хранитель памятников из первого созыва ПИИА: капитан Уокер Хэнкок, добродушный художник-скульптор, вылетел прямым рейсом из Лондона в Париж. Из-за высокой облачности самолет летел низко, но бояться было нечего – истребителей люфтваффе уже почти не видно было в небе Франции. Из иллюминатора взору Хэнкока открывался Руан, где всего за пару недель до этого Рональд Бальфур обнаружил обгорелый остов Дворца правосудия. Даже с высоты полета было видно, как пострадал город, но в прилегающих к нему деревнях царило спокойствие: фермы, коровы и овцы. Тщательно возделанные поля с кривыми рядами изгородей выглядели причудливой мозаикой. Тихие долины и маленькие деревушки, казалось, жили мирно и счастливо, и только присмотревшись, можно было заметить оспины разрушения, избороздившие землю. Так, за весь полет Хэнкоку не встретилось ни единого целого моста.
Париж, весь покрытый ранами, показался Уокеру Хэнкоку еще прекраснее, чем когда-либо. Эйфелева башня, как всегда, возвышалась над городом, но настоящий дух свободы был не в ней – он веял на парижских бульварах. В окнах развевались сотни французских, британских, американских флагов, и, если не считать редких колонн бронетехники, на улицах совсем не было машин. «Все передвигаются на велосипедах, – писал Хэнкок жене Сайме, – и вокруг, куда ни глянь, прекрасные ножки. Париж трудно представить себе без его знаменитых такси – и все же я это видел. Электричество дают в десять, после долгого вечера в темноте, ну и, конечно, на улицах совсем нет огней. Но парижское метро работает, и народу в нем больше, чем в нью-йоркском. Военные не платят за проезд – такой порядок завели немцы, а французы решили оказать эту любезность и «освободителям». Первые проявления всеобщего ликования уже позади, и поначалу благодарность парижан незаметна. Но довольно скоро обнаруживаешь, насколько дружелюбно тут все к тебе относятся. Иногда подойдет на улице маленький мальчик в аккуратных белых перчатках и молча крепко пожмет тебе руку. А дети победнее всё норовят всучить тебе подарок: что-нибудь из своих сокровищ, вроде картинок, которые вкладываются в плитки шоколада и пачки сигарет. Сегодня я хотел купить несколько открыток в деревне неподалеку от лагеря. Хозяин магазина отказался принять за них деньги. «Мы всем вам обязаны, – сказал он. – Нам никогда не вернуть долг американским солдатам».
В воздухе уже вовсю пахло осенью, но для Хэнкока мир казался ярким и свежим, как парижское лето. «Я бывал в Париже раньше, – заключил он. – Но я никогда не перестану благодарить судьбу, что попал сюда через месяц после его освобождения».
Одну ночь он провел у Джеймса Роримера. «Джимси», как прозвали его друзья-офицеры, получил назначение, о котором мечтал: хранителем памятников в секторе Сены, иными словами, в Париже и окрестностях. Роример жил в квартире своей сестры и ее мужа, которые уехали из Парижа еще до войны. На завтрак он подал свежие яйца – подобной роскоши Хэнкок не видел уже много месяцев, – и они обменялись впечатлениями. Роример вошел в Париж с колонной генерала Роджерса – первой американской колонной, вступившей в «город огней». Над Парижем клубились столбы дыма, с крыш летели пули, тихо тлел Бурбонский дворец. Немецких пленников сводили в здание банка «Контуар Насьональ д’Эсконт» на площади Оперы. Стволы брошенного в садах Тюильри немецкого оружия еще не остыли от стрельбы. «Я никак не мог прийти в себя от восторга и переживаний, – рассказывал Роример, – пока не оказался на кровати в отеле «Лувр». Это казалось безумием: прямо посреди разрухи стоял хороший отель с горячей и холодной водой в кранах, просторными комнатами с высокими потолками, в каждой из которых были французские раздвижные окна в пол, шторы и балкон. На какую-то секунду я словно вернулся в довоенный Париж». Уокер Хэнкок не собирался задерживаться в городе. На самом деле он был даже рад покинуть Париж. Его звал долг, в который он верил так свято, что ради него оставил размеренную, удобную жизнь. В отличие от многих товарищей по оружию, у которых были свои причины, чтобы отправиться на войну, Хэнкок мог не покидать Америку. Он был знаменитым скульптором-монументалистом, в том числе автором огромных скульптурных групп («Жертва» – одна из них) в мемориале, возведенном в Сент-Луисе и посвященном солдатам Первой мировой войны. У него было две мастерские, и, несмотря на долги (еще одна причина идти на скудное армейское жалованье), он уже выполнил столько заказов и создал себе такую репутацию, что мог не беспокоиться о деньгах до конца жизни. Всего за месяц до отправления в Европу, в возрасте сорока двух лет, он женился на Сайме Натти, которую любил всем сердцем.
И все же вряд ли нашелся бы офицер, с таким же воодушевлением относящийся к службе, как Уокер Хэнкок. Впервые он попытался вступить в армию, в разведку ВВС, после Перл-Харбора – ему было уже почти сорок, но он считал своим долгом встать на защиту отечества, – но не прошел медосмотр. Тогда он записался в разведку флота, прошел медицинское освидетельствование, но тут же был переведен в пехоту и отправлен на строевую подготовку. Вскоре после этого на утреннем построении дежурный сержант объявил ему, что его переводят снова. Хэнкок надеялся, что его возвращают в разведку, но оказалось, что он выиграл конкурс на разработку дизайна Воздушной медали – высшей армейской награды за храбрость. Завершив работу над медалью, Хэнкок оказался в итальянском отделе военного департамента. И затем, наконец, его приняли в ПИИА.
«Разве жизнь не проделывает с нами, смертными, удивительные вещи? – писал он своей невесте Сайме в октябре 1943-го. – Именно сейчас, когда я так счастлив с тобой, я вдруг узнаю, что меня пошлют за океан выполнять работу, о которой я больше всего мечтаю».
Они поженились в Вашингтоне 4 декабря 1943 года. Через две недели Хэнкока призвали на фронт. «Я до сих пор помню со всей ясностью, как такси уносило меня в начало моего путешествия, а я, оглянувшись, увидел, как Сайма стоит в дверях и плачет… За всю свою жизнь я не переживал ничего горше».
Хэнкок не попал на корабль в Нью-Йорке – опять никого не предупредили о том, что на борту ожидается хранитель памятников, – и теперь ему предстояло каждый день являться в порт в ожидании свободного места на одном из кораблей. Каждый день он надевал форму и брал с собой все свои пожитки, в этом и состояла его служба. Иногда это вгоняло его в глубокое уныние. «Необходимость “быть в доступе” каждый день похожа на тюрьму, – писал он Сайме, – а я хочу быть только с тобой… [Но] в то же время я летаю в облаках, частенько забывая завести часы. Хороший же из меня будет офицер!»
Даже в грустные минуты прирожденный оптимизм и стремление видеть во всем только хорошее брали свое: «Но давай взглянем на все это с другой стороны, – писал он. – Самое прекрасное во всей этой ситуации – то, что мы знаем, как сильно любим друг друга, и счастье служить и приносить пользу от этого становится только больше».
Сайма отправилась в Нью-Йорк и остановилась с мужем в гостинице для военных. Утром он уходил, и она никогда не знала, вернется ли он обратно. Две недели Хэнкок возвращался, а потом не пришел, и Сайма поняла, что он уехал. Армия не дала им даже попрощаться.
«Солнце, и ветер, и это замечательное место, куда меня отправили, – писал он ей уже из Англии, – напоминают мне, какая это честь – лично наблюдать самые трагичные события года, а не узнавать о них из архивов в подвалах Пентагона». Он заверял ее, что в свои сорок два года все еще способен удивляться чудесам, и огорчался только, что «большинство людей проснутся слишком поздно и только тогда осознают, что упустили».
И вот наконец после восьми месяцев, проведенных в Англии, он прилетел в Северную Францию. Перелом битвы в Нормандии обернулся полным разгромом фашистов, и союзные войска стремительно продвигались к немецкой границе, не встречая почти никакого сопротивления. Генерал Джордж С. Маршалл, самый авторитетный военный советник Рузвельта, уверенно предсказывал конец битвы за Европу между «1 сентября и 1 ноября 1944 года» и считал, что пора готовить войска к переводу в бассейн Тихого океана. Приятно было и то, что не в меру дождливое нормандское лето сменилось наконец ясной теплой погодой. Первое задание Хэнкока во Франции – поездка на джипе вместе с товарищем по ПИИА капитаном Эвереттом Лесли по прозвищу Билл для обследования охраняемых памятников в тылу армии – казалось почти что прогулкой с осмотром достопримечательностей. Как всегда жизнерадостный, Хэнкок писал Сайме, что «каждый час каждого дня был сплошным удовольствием».
Он не обнаружил почти никакого ущерба. Немцы стремительно захватили северо-восточную Францию в 1940 году; спустя четыре года союзники столь же стремительно отвоевали ее, и в ходе сражений было мало что разрушено. Гораздо больше ущерба нацистские оккупационные силы нанесли местным музеям, которые попросту обчищали, да еще и крали на сувениры мелочи вроде подсвечников и металлических оконных ручек. Пропало некоторое количество картин, но больше всего пострадала бесценная мебель времен Людовика XVI, которой было так много в старых домах Франции. Немецким офицерам больше нравилась современная мебель, и, чтобы освободить для нее место, гарнитуры XVIII века пускали на растопку. Конечно, был опустошен каждый винный погреб, причем выдержанные вина немцы выменивали на бутылки яблочного сидра… Итак, работа казалась Хэнкоку легкой, тем более что многие важные места уже осмотрел неутомимый Джордж Стаут.
Иногда увиденное граничило с чудом. Шартрский собор поднимался, как и прежде, словно гора посреди пшеничных полей. Но сам Шартр, обычно бурлящий жизнью, был тих, и знаменитый собор казался вызывающе одиноким. Хэнкок поймал себя на том, что восхищается его необъятными размерами, его сложностью, дерзостью его замысла – восхищается еще больше, чем в прошлый раз, когда он учился в Американской академии в Риме и приезжал поглядеть на собор. Огромные стены и башни строились десятилетиями, подумал он, разве могут какие-то четыре года войны разрушить такую красоту?
А что бы он подумал, если бы знал, что ошибается, что это здание, строившееся четырьмя поколениями, вермахт чуть не уничтожил за один день? Когда союзники вошли в Шартр, они обнаружили, что собор может быть поврежден или полностью разрушен двадцатью двумя зарядами взрывчатки, заложенными у близлежащих мостов и в соседних зданиях. Сапер Стюарт Леонард, который после окончания активных военных действий и сам стал хранителем, помог обезвредить мины и спасти собор. А потом говорил еще одному хранителю, Берни Тейперу, за рюмкой в берлинской квартире: «Есть только один безусловный плюс в работе сапера – ни один начальник не стоит у тебя за спиной».
Но стоило ли рисковать жизнью ради искусства, хотел знать Тейпер. Ему, как и каждому хранителю, не давал покоя этот вопрос.
– У меня был выбор, – ответил Леонард. – И я сам решил, что все разминирую. Это стоило награды, которую я получил.
– Какой еще награды?
– Когда я закончил, то зашел в Шартрский собор – собор, который помог спасти, – и сидел там целый час. Совершенно один.
Поймут ли будущие поколения, задумался Уокер Хэнкок, каким невероятным переживанием было видеть этот собор во время войны? Сумеют ли оценить его еще больше, если увидят таким, какой он сейчас, – витражи сняты, мешки с песком навалены метров на десять в высоту, а башни покрыты выбоинами от артобстрела? В каменную кладку пола был встроен лабиринт, по которому веками ползли на коленях паломники, приехавшие за спасением души. А над его головой в воздухе развевались изодранные полотнища полиэтилена, закрывавшие оконные проемы.
«Во всем этом была неожиданная красота, – писал Хэнкок. – Витражи с окон сняли, и можно было наблюдать одновременно внутреннее и внешнее убранство этого потрясающего здания. Вид на великолепные парящие аркбутаны, которые, проходя через крышу, превращались в ребра свода, преподавал урок божественной архитектуры. Но и это не все. Наблюдая изнутри, ты находил что-то воодушевляющее в том, как эти могучие дугообразные своды, характерная черта собора, почти начинали давить на стены апсид. Можно было зайти за ограждение и разглядеть в новом, струящемся из окон свете резные фигуры королей и королев, скульптуры Иуды, Христа и Девы Марии». На какое-то мгновение собор казался одновременно и памятником союзнической победы, и чем-то не подвластным ни времени, ни войне, чем-то, что будет стоять вечно и после окончания времен.
Но это продлилось недолго. Солнце уже заходило, и его закатные лучи скользили через величественные оконные арки со снятыми витражами и поднимались по стенам. Фронт был напротив, на востоке. И там требовалась помощь Хэнкока. Он закинул за плечо мешок и отправился обратно на войну.
Несколько недель спустя Уокера Хэнкока разбудили ни свет ни заря – кто-то отчаянно тряс его за плечо. У его койки стоял хранитель 1-й армии США Джордж Стаут, выглядевший, как всегда, безупречно, несмотря на ранний час.
– Есть работа, – сказал он, надевая очки для вождения.
Снаружи шел проливной дождь, стоял густой туман, а небо затянуло облаками, так что Хэнкок мог разглядеть только смутные очертания огромных армейских бараков, где разместился штаб 1-й армии. Он с унынием вспомнил, что у машины Стаута – полуразвалившегося немецкого «Фольксвагена» – не было крыши, и им предстоит путешествие под дождем и ветром. Хэнкок поплотнее запахнул пальто. На дворе было 10 октября 1944 года, и он уже чувствовал дыхание приближающейся зимы.
Они со Стаутом позавтракали в общей столовой. Хэнкок всего неделю как приехал в штаб 1-й армии в Вервье, городе на востоке Бельгии в двадцати километрах от немецкой границы, и еще не успел привыкнуть к армейскому распорядку. С Биллом Лесли и его джипом он расстался под Парижем и провел еще неделю, проезжая на попутках Северную Францию. Когда он въехал на юг Бельгии, то увидел страну, опустошенную немецкими оккупантами. Семьи возвращались в свои дома, разоренные и разграбленные немцами. Сады и дворы были завалены брошенной техникой и утыканы бронеколпаками от обстрелов. Поля остались невозделанными, и крестьяне голодали. И все же они протягивали ему помидоры и лук, ничего не прося взамен. Все они говорили одно и то же: немцы вели себя корректно и вежливо, пока находились у власти, но когда поняли, что скоро их попросят вон, как с катушек сорвались.
«Предвижу, что начиная с этого момента писать получится только время от времени, – делился Хэнкок с Саймой. – Внезапно моя жизнь наполнилась бурной деятельностью. Голова идет кругом, как подумаю, где я успел побывать и что успел сделать за эти два дня. Но я так счастлив, мне так интересно то, чем я занимаюсь! Какими же скучными были месяцы ожидания, планирования, теоретизирования и бесконечных разговоров».
Сейчас он ехал по другой области – покрытой зелеными холмами Восточной Бельгии. Под дождем холмы выглядели довольно уныло, да и вообще чему радоваться, когда тебя разбудили в такую рань. Но хотя их самих дождь не заливал: Стаут отправил свою развалюху в ремонт и на время получил машину получше, совсем ненадолго. Хэнкок благодарил судьбу, что «фольксваген» заменили именно накануне их поездки. Из-за стены дождя дорога была еле различимой: он даже не сразу понял, что они уже давно едут по Голландии. Но вот хранители остановились у подножия очередного крутого холма, и под кустами обнаружились бетонные стены. Хэнкок сначала подумал, что перед ним железнодорожный туннель, но вход закрывали две внушительные металлические двери.
– Где мы?
– В хранилище произведений искусства, – ответил Стаут.
Двери открылись, и они въехали внутрь.
Расположенный в глубокой пещере склад был создан еще в XVII веке, чтобы защитить голландское искусство от французских завоевателей. Сегодня здесь все было оборудовано по последнему слову техники: склад достаточно хорошо освещался, в нем поддерживалась заданная температура и влажность. И все же чем дальше они погружались в жутковатую тишину горы, тем больше Хэнкоку становилось не по себе. Два смотрителя провели их по коридорам со стенами из неровного камня с длинными рядами жужжащих ламп. У задней стены стояло несколько экранов, которые вращались, как стеллажи с открытками в сувенирных лавках. Только вместо двухцентовых открыток на экранах располагались картины из главного музея Голландии, амстердамского Рейксмузеума. Смотритель поворачивал ручку, и перед глазами посетителей медленно проплывали шедевры голландских мастеров – натюрморты с ломящимися от еды столами, великолепные пейзажи с ярко-синими небесами, по которым стремительно проплывали серые точки облаков, портреты улыбающихся бюргеров в черном. Скрип оси отзывался эхом от пустого свода.
– Потрясающе, – пробормотал Хэнкок. Как бы он хотел рассказать об этом Сайме, но понимал, что цензоры, опасаясь шпионов, никогда не пропустят подобную информацию.
Уже отворачиваясь от экранов, он обратил внимание на большую картину, свернутую в рулон, словно ковер. Упаковочные материалы, вместе с которыми завернули картину, торчали по краям как изодранные остатки бакалейной бумаги.
– «Ночной дозор», – пояснил один из смотрителей, дотрагиваясь до ящика. У Хэнкока отвалилась челюсть. Перед ним был скатанный в рулон величайший шедевр Рембрандта – портрет во всю стену капитана стрелковой роты Франса Баннинга Кока, написанный в 1642 году.
Джордж Стаут отодвинул изодранную упаковку, внимательно изучил край картины и нахмурил брови. Картины маслом нельзя хранить в темноте – на них начинают расти паразитирующие микроорганизмы. Да и смолы, которыми лакировали картину, в темноте желтеют, отчего тускнеют цвета и теряются контрасты. Уже в марте 1941 года датские специалисты сообщили Стауту, что «Ночной дозор» начал желтеть – теперь хранитель мог убедиться сам, что, как он и боялся, последние три с половиной года картину не пощадили. Если она еще здесь задержится, то ее придется очищать и лакировать заново – процедура для трехсотлетнего полотна опасная. Но еще больше его беспокоило, что картина давно снята с подрамника и свернута, а это увеличивает риск повреждений: краска может потрескаться или даже отслоиться, края – изорваться, а такие повреждения уже не исправишь. Великие шедевры создавались не для того, чтобы их скатывали, как ковры, и прятали внутри горных тайников. Но прямо сейчас делать было нечего. В мире, в котором шла война, «Ночной дозор» получил хоть какую-то защиту. Он задумался о том, что происходит с другими шедеврами: например, с «Астрономом» Яна Вермеера. Это полотно никто не видел с тех пор, как в 1940 году нацисты украли его из особняка Ротшильдов в Париже.
– Где охрана? – спросил Стаут.
Один из смотрителей указал на двух полицейских в другом конце комнаты.
– И это все?
Смотритель кивнул. Годы были тяжелые, и охраны не хватало даже для национальных сокровищ. К тому же в ней не было необходимости. Немцам было прекрасно известно об этом хранилище в Санкт-Питерсберге рядом с Маастрихтом, да и о других, ему подобных. Более того, нацистские власти и солдаты сами руководили предыдущим переездом «Ночного дозора», который сменил несколько тайников, прежде чем в 1942 году осесть в Маастрихте, в удобной близости от немецкой границы. Возможно, поэтому голландские смотрители проявляли такое удивительное равнодушие к вопросам охраны. Возможно, отрезанные в своем подземном логове от всего остального мира, они не слышали о недавней краже микеланджеловой Мадонны. Они не сознавали, думал Стаут, что настоящая опасность была не тогда, когда немцы полностью контролировали ситуацию, а теперь, когда они теряли власть и понимали, что это их последняя возможность действовать. Что сказал доктор Розманн декану собора в Брюгге? «Все эти годы я хранил ее изображение на своем письменном столе»? Что говорили Хэнкоку французские крестьяне? «Немцы вели себя вежливо, пока находились у власти, но когда поняли, что скоро их попросят вон, как с катушек сорвались».
– Мы добудем охрану, – сказал Стаут. – Хотя бы человек десять, пока вокруг все не успокоится.
Телефонные линии были перерезаны, так что запрос на охрану пришлось отложить до возвращения в штаб. Стаут был явно разочарован тем, как плохо все организовано, не говоря уж о том, что медлить было нельзя. Но расстроился он только на несколько мгновений, а потом снова обрел хладнокровие.
– Дополнительная охрана должна прибыть завтра, – сказал он, возвращаясь к машине. – Но это армия. Я не могу ничего обещать наверняка. Спасибо вам за эту в высшей степени необыкновенную экскурсию.
«Бог мой, – думал Хэнкок, следуя за Стаутом и оборачиваясь, чтобы в последний раз взглянуть на шедевр Рембрандта, свернутый в трубу. – Что за странная штука – война».
Глава 14
«Поклонение агнцу» Ван Эйка
Восточная Франция
Конец сентября 1944
Капитан Роберт Поузи, фермер из Алабамы и хранитель памятников 3-й армии США генерала Джорджа Паттона, повесил полотенце на колышек и вернулся в свою палатку. На дворе было 23 сентября 1944 года, и он только что принял свой первый душ со дня высадки в Нормандии, то есть за два с лишним месяца. Он провел рукой по теплой коже только что выбритого лица. Долгие годы он носил усы и все никак не мог привыкнуть, что их нет. Сейчас он казался себе мальчишкой, а не сорокалетним архитектором, отцом, мужем и солдатом. Ну и к тому же он носил усы, придавая этому особый смысл. Когда его призвали на службу, он начал подбривать края, копируя знаменитые гитлеровские усики. Ему самому это казалось вызовом Третьему рейху, но Паттон так не считал.
– Черт возьми, Бобби, немедленно сбрей эту дрянь! – взорвался генерал, едва увидев его лицо.
Поузи не обиделся на генерала. Для него было честью служить в 3-й армии, лучшем военном подразделении на всем Европейском континенте. Дело в том, что солдаты 3-й армии были Поузи гораздо ближе, чем его коллеги-хранители. Он разделял братские чувства солдат, их гордость, их личное недовольство тем, что остальные армии союзников пока не признали их очевидное превосходство. Именно они прорвали «Стальное кольцо» в Нормандии. Их армия замкнула Фалезский котел, отрезала и уничтожила последних немцев, отступавших из Восточной Франции. Их армия возглавила продвижение на южном фланге, пока остальные союзники болтались где-то на севере. Никто не сомневался, что если бы только Эйзенхауэр спустил их с поводка чуть раньше, когда Паттон впервые предложил поворачивать на восток, чтобы обезглавить немцев, война могла быть уже закончена. Они верили в свои силы, и всё благодаря человеку из большой палатки – генералу Джорджу С. Паттону-младшему. Да, он был высокомерен и вспыльчив, но Поузи готов был для него на все. Только собаку генерала, бультерьера Вилли, названного в честь Вильгельма Завоевателя, он не выносил.
Он тяжело опустился на койку, натянул рубашку и взял в руки последнее письмо от жены Элис. Перечитал его в третий или четвертый раз и вновь почувствовал, как при мысли о старом добром доме смягчается его огрубевшее солдатское сердце. На время войны Элис переехала к родственникам в Южную Каролину, но Поузи думал об их общем доме с крошечной лужайкой и «зоопарком», как они привыкли его называть, внутри. О кривозубой улыбке младшего сына, о своей тихой, кроткой жене и домашнем беспорядке. Внезапно ему так захотелось обнять ее. Он сел и написал ей о своих путешествиях – ведь цензоры недавно сняли запрет на детали в письмах домой.
«Теперь, когда французская кампания почти позади, – писал он, – нам разрешили писать о городах, в которых мы уже побывали. Я посетил великие соборы Кутанса, Доля, Ренна, Лаваля, Ле-Мана, Орлеана, Парижа, Реймса, Шалон-сюр-Марна, Шартра и Труа. Шартрский – величайший из них. Я также видел множество прекрасных деревенских церквей и шато, в том числе знаменитые Мон-Сен-Михель и Фонтенбло. Деревушка, которую я описывал [в предыдущем письме], – это Лез-Ифф в Бретани, на полпути между Сен-Мало и Ренном. У меня есть много открыток с подписями».
Он пересмотрел открытки, которые покупал для пятилетнего сына Денниса по прозвищу Вуги. Поузи обожал посылать мальчишке всякие безделушки – открытки, пуговицы; в последний раз он отправил ему пряжку от ремня со свастикой и полотенце, на котором было вышито по-немецки «Kriegsmarine» – «Морской флот». Все это были обыкновенные солдатские сувениры, немногим отличавшиеся от тех, что посылали домой его товарищи из 3-й армии. Таким образом он не терял связи с сыном и документировал свое путешествие по Европе, которое – о чем он ни на секунду не забывал – в любой момент могла пресечь мина или шальная пуля.
И теперь, после освежающего душа, он оглядывался на свое путешествие и поверить не мог, как много уже прошел. Он вырос, преклоняясь перед армией, и уже подростком прошел офицерскую подготовку. Он стал архитектором, но был все еще записан в резерв, когда японцы напали на Перл-Харбор. Поузи мечтал отправиться на Тихоокеанский фронт на следующий же день, но в той ужасной неразберихе ему пришлось ждать целых шесть месяцев, прежде чем его призвали на действительную службу. Его отправили в тренировочный лагерь в Луизиане, в самое жаркое и влажное место, где ему приходилось бывать, а оттуда – в Черчилл, провинцию Манитоба, единственный крупный канадский порт в Северном Ледовитом океане и самое холодное место в его жизни. Большую часть времени в Черчилле он провел, проектируя и строя взлетные полосы на случай возможного немецкого вторжения через Северный полюс.
Северный полюс! Кто был тот генерал, кого осенила эта мысль? Поузи ни разу не встретил в ледяной тундре немцев, зато мог похвастать регулярными столкновениями с другими врагами – полярными медведями. Черчилл, провинция Манитоба, как выяснил парень из Алабамы, оказался мировой столицей полярных медведей.
И вот Роберт сидел в захваченных немецких бараках в Восточной Франции. Через несколько недель, а может, и дней он окажется в Германии, а вскоре и в Берлине… Впрочем, посмотрим, что скажет «папа» Паттон.
Он закончил письмо к Элис постскриптумом о роскоши горячего душа и взялся за пакет, пришедший из главного штаба. В нем была вся необходимая информация (фотографии, описания и прочее) о главных сокровищах бельгийского культурного наследия. Этот список возглавляли два шедевра: первый – «Мадонна Брюгге» Микеланджело, кражу которой Рональд Бальфур задокументировал ровно неделю назад, второй – Гентский алтарь.
Гентский алтарь был главным и, без сомнения, самым любимым художественным сокровищем Бельгии. Алтарь трех с половиной метров в высоту и пяти метров в ширину был составлен из двух рядов скрепленных шарнирами деревянных панелей: четыре в центре и по четыре створки справа и слева, причем расписаны были как внутренние, так и внешние стороны створок. Все эти двадцать четыре отдельных, но тематически связанных изображения были расположены так, чтобы в закрытом и открытом виде алтарь представлял собой единое композиционное целое. На центральной панели нижнего ряда, от которой алтарь получил свое второе название – «Поклонение Агнцу» – был изображен агнец Божий на жертвеннике, на него изливает свет Святой Дух в обличье голубя, а вокруг собираются толпы на поклонение. Алтарь был заказан Хуберту ван Эйку, известному как «maior qou nemo repetus» («величайший из всех»), после смерти которого в 1426 году работу продолжил его младший брат Ян ван Эйк, называвший себя «arte secondus» («второй в искусстве»), закончив ее в 1432 году.
Впервые представ перед публикой в соборе Святого Бавона в Генте, алтарь ошеломил голландцев. Он был исполнен в реалистичной манере, основанной на прямом наблюдении, и ничем не походил на идеализированные формы античности или плоские фигуры Средневековья. Все, даже не центральные образы, были выполнены с чрезвычайным вниманием к каждой детали, начиная от лиц, списанных с живых фламандцев, и заканчивая зданиями, пейзажами, растениями, драпировками, драгоценностями и одеждами. Этот детальный реализм, основанный на мастерском владении техникой масляной живописи, был чем-то невиданным в художественном мире. Он изменит историю живописи и станет началом Северного Ренессанса, золотого века голландской культуры, составившего конкуренцию южному, Итальянскому Ренессансу.
Пять столетий и восемь лет спустя, в мае 1940 года, холмы и луга, так живо изображенные на шедевре ван Эйков, были захвачены немецкими войсками. Пока британская и французская армии отступали на север, преследуемые вермахтом, на юг отправились три машины, груженные главными культурными сокровищами Бельгии, среди которых находился и Гентский алтарь. Последней надеждой бельгийцев было попасть в Ватикан и попросить покровительства Папы Римского, но они успели доехать только до французской границы, когда Италия объявила войну странам Западной Европы. Машины, еле прошмыгнув мимо немецких танковых дивизий, спешащих на север, чтобы не дать британским войскам эвакуироваться в Дюнкерке, прибыли в замок города По на юго-западе Франции, служивший хранилищем произведений изобразительного искусства. Там усталые и напуганные водители доверили безопасность алтаря французскому правительству.
Гитлер знал, что такой всемирно известный шедевр, как Гентский алтарь, невозможно украсть, не вызвав гнев всего остального мира. Гитлер думал и действовал как завоеватель – он был свято уверен, что имеет право на все военные трофеи, и был решительно настроен заполучить их. Но при этом нацисты проделали немалую работу, чтобы придать всем своим кражам видимость законности, создавая для этого новые правила и процедуры. Например, завоеванные страны обязаны были отдавать нацистам предметы искусства согласно условиям мирного договора. По плану Гитлера восточноевропейские страны, например Польша, должны были превратиться в земли, поставляющие ресурсы для Германии, а их жители – в рабов, производящих товары для расы господ. Значительную часть восточноевропейских культурных памятников разрушили, исторические постройки сровняли с землей, статуи свергли с пьедесталов и переплавили на пули и артиллерийские снаряды. Но Запад должен был стать для Гитлера наградой, местом, где арийцы будут наслаждаться плодами своих завоеваний. Грабить такие страны не было необходимости – по крайней мере сейчас. Ведь Третий рейх простоит тысячу лет. Поэтому Гитлер не притронулся к таким шедеврам, как «Мона Лиза» и «Ночной дозор». Но он страстно желал заполучить алтарь.
В 1940 году Гитлер поручил своему министру пропаганды Геббельсу подготовить для него список, впоследствии получивший название «Доклад Кюммеля» (по имени составившего его генерального директора Берлинских государственных музеев Отто Кюммеля). В списке было перечислено каждое находящееся на Западе (во Франции, в Голландии, Великобритании и даже в США, где, по мнению Кюммеля, было девять таких работ) произведение искусства, по праву принадлежавшее Германии. Согласно мнению Гитлера, к таким относились все работы, вывезенные из Германии после 1500 года, созданные художниками с австрийскими или немецкими корнями, заказанные или произведенные в Германии, а также работы, исполненные в германском стиле. Гентский алтарь, будучи по всем параметрам краеугольным камнем и эмблемой бельгийской культуры, был достаточно «германским» для нацистов, чтобы они считали себя вправе забрать его.
Более того, шесть боковых створок алтаря (расписанных с внутренней и внешней сторон и изображавших 14 сцен) до 1919 года принадлежали Германии. По условиям Версальского мирного договора немцев заставили отдать их Бельгии в качестве военных репараций. Гитлер всегда ненавидел Версальский мирный договор, видя в нем унижение немецкого народа и символ слабости прошлых властителей страны. В 1940 году, захватив Францию, Гитлер решил символически отомстить. Он поручил своим войскам разыскать тот самый вагон, где было подписано унизительное перемирие в 1918 году, велел снести стены здания музея, где его хранили, и перетащить вагон ровно в то место во французском Компьене, где он стоял за двадцать два года до этого. Сидя на том же самом стуле, на котором двадцать лет назад сидел праздновавший победу маршал Фош – французский герой Первой мировой войны, Гитлер диктовал французам условия перемирия. После подписания мира Гитлер велел отбуксировать вагон в Берлин, где его провезли по главной исторической улице города – бульвару Унтер-ден-Линден, протащили через Бранденбургские ворота и выставили на всеобщее обозрение в парке «Люстгартен» на берегу реки Шпрее.
Захват этого вагона стал для Германии символом отмены катастрофического «компьенского преступления» и уничтожения ненавистного противника. Но для всего мира он значил кое-что еще: для нацистов не было ничего святого или слишком большого, чтобы нельзя было это украсть.
Таким образом, Гентский алтарь, величайший шедевр, навсегда изменивший живопись, воплощал для Гитлера сразу две главные цели: исправить исторический «вред» Версальского мирного договора и пополнить коллекцию своего музея в Линце сокровищем мировой культуры.
В 1942 году Гитлер больше не мог противиться искушению. В июле он послал секретную делегацию, возглавляемую директором Баварских музеев Эрнстом Бюхнером, в хранилище в По. Он собирался взять алтарь не силой – делегация прибыла всего на одном грузовике и на одной легковой машине, но хитростью. Когда французский суперинтендант в По отказался отдавать алтарь, Бюхнер позвонил в канцелярию рейха. Через пару часов пришла телеграмма от Пьера Лаваля, главы контролируемого нацистами правительства Виши, с приказом передать алтарь Бюхнеру. К тому моменту, когда о приказе узнали настоящие бельгийские и французские власти, отвечавшие за культурное наследие, алтарь уже исчез в Германии. Бельгийское правительство отчаянно протестовало и даже обвинило французов в предательстве, но сделать уже ничего было нельзя. Гентский алтарь пропал.
И вот теперь, более чем два года спустя, сидя на своей койке во Франции, в захваченных немецких бараках, Роберт Поузи смотрел на изображение этого бесценного сокровища. Он думал о том, что мир надеется на него и его соратников-хранителей. Им нужно пройти по следам алтаря, найти его, вынудить сдаться всех, кто скрывал его и хотел уничтожить, и вернуть в Бельгию невредимым.
Глава 15
Джеймс Роример в Лувре
Париж, Франция
Начало октября 1944
Не один Роберт Поузи наслаждался службой в армии – младший лейтенант Джеймс Роример, куратор музея Метрополитен, переживал примерно то же самое в Париже. Всего несколько недель назад, потягивая пиво в Мон-Сен-Мишеле, Роример страстно мечтал о переводе в Париж. Вскоре его и правда назначили на работу в Европе, о которой мог мечтать человек с его знаниями и опытом. Французские власти встретили Роримера «сердечно, с распростертыми объятиями», его регулярно приглашали к себе богатые и влиятельные парижане. Они нуждались в помощи хранителя, он – в информации. К тому же ему не могла не льстить теплота, с какой его принимали, – как освободителя и как друга.
Париж, этот потрясающий храм искусств, в ту пору выглядел невероятно. Глядя на его здания и памятники, трудно было поверить, что здесь целых четыре года хозяйствовали немцы. Да, Париж лишился некоторых важных достопримечательностей, но стоило пройтись по любой из его просторных улиц, и вы увидели бы город, в котором кипит жизнь и который казался почти не тронутым войной. Бензина было не найти, но на каждом углу стояли велосипеды. Самым популярным транспортом в городе были тандемы, к которым сзади прикреплялись небольшие экипажи, – во время оккупации они заменили Парижу такси. В парки вернулись играющие в карты старики в беретах и фетровых шляпах. В Люксембургском саду дети запускали кораблики в фонтанах, и над водой белели трогательные паруса. «От этих длинных и восхитительно пустых улиц, ведущих в сердце города, – писал Фрэнсис Генри Тейлор, посетивший город в качестве представителя комиссии Робертса, – ты преисполнялся эйфорией, похожей на ту, что испытывают больные после долгого оздоровительного сна. Воля к жизни победила. Париж, это величайшее создание человеческого разума, остановил и обездвижил руку, потянувшуюся, чтобы захватить его».
Но Тейлор провел в Париже только несколько дней. Более пристальному взгляду открывалось, что, хотя на поверхности парижское общество бурлило, изнутри его подтачивали недоверие и страх. Немцы отступили стремительно, коллаборационистское правительство пало, и теперь город остался без власти, в том числе и без полицейских, и поэтому некому было усмирять рассерженную толпу. Народ жаждал мести и взял правосудие в свои руки. Женщин, которые сожительствовали с немцами, вытаскивали на улицы и публично брили наголо, осыпая непристойной бранью. Предполагаемым предателям устраивали суды и без промедления казнили. Чтобы осознать серьезность ситуации, достаточно было открыть главную парижскую газету, «Фигаро», которая снова начала выходить 23 августа 1944 года, после двухлетнего перерыва. В ней было всего две страницы, но даже на них из номера в номер печатались материалы под одними и теми же рубриками. Первая называлась «Аресты и чистки», и в ней рассказывалось об успехах в охоте за коллаборационистами. Далее следовало два списка: «Смертные приговоры» и «Дисциплинарные наказания». Роример знал, что даже самые справедливые из этих приговоров были вынесены после судов, длившихся всего несколько часов, в самом крайнем случае – несколько дней.
В наступившем безвластии гражданские институты не работали, за правопорядком никто не следил, и невозможно было доверять даже собственным согражданам. Дел у Джеймса Роримера было невпроворот. В составленном для армии «Справочнике службы по связям с гражданской администрацией и населением» числилось 165 парижских памятников, 52 из которых официально находились под защитой. Кроме того, нацисты ограбили сотни, если не тысячи парижан. Пропали сотни городских скульптур, в особенности знаменитые парижские бронзовые статуи, со здания Сената свинтили фонари XIX века. В городе, пытающемся вновь вернуться к нормальной жизни, царила полнейшая неразбериха. Найти необходимые материалы, узнать ответы на самые простые вопросы было зачастую невозможно, а бюрократические проволочки загоняли в тупик на долгие часы. Даже поиски чиновника, отвечающего за нужный участок или здание, отнимали прорву сил.
Когда в августе Роример прибыл вместе с колонной генерала Роджерса в Париж, его временно приписали к подразделению подполковника Гамильтона. К концу сентября Гамильтон все еще не готов был с ним расстаться. «Не дело это для офицера – заниматься только заботой о памятниках», – говорил он Роримеру, когда тот просил об отставке. Иными словами, начальству требовался толковый, энергичный и говорящий по-французски офицер, и Джеймсу Роримеру так просто было не вырваться.
А еще Роримеру необходимо было проследить, чтобы городу не навредили его соотечественники. В августе Париж казался опустевшим. Теперь же его наводнили американцы. Они, конечно, не отказывали хранителю в помощи. Одно подразделение, которое Роример попросил оценить ущерб, причиненный площади Согласия, подсчитало отверстия от пуль, попавших во все огромные здания площади. На следующий день Роример обнаружил солдат, считающих выбоины на стенах Лувра. «Нужны лишь существенные повреждения, – объяснил он им, – только большие». Подсчет следов от пуль занял бы у них не меньше года.
Но настоящей трудностью стало то, что американские военные не понимали французской культуры. Сад Тюильри, через который он сейчас шагал, был отличным тому примером. Огромный сад, состоящий из симметричных аллей, был разбит в самом сердце Парижа для Людовика XIV и знаком каждому, кому хоть раз случалось прогуливаться по французской столице. В первое свое утро в городе Роримеру довелось увидеть сад таким, каким он открывался не всякому парижанину: безлюдным, освещенным рассветными лучами. Казалось, людей отпугнули все еще выстроенные по периметру брошенные немецкие орудия, и только под одной группой деревьев устроила привал американская танковая часть: солдаты разводили костры для завтрака. Не будь их, парк принадлежал бы одному Роримеру.
Спустя несколько недель хранитель обнаружил, что в саду раскинулся большой лагерь союзников. Немцы прорыли в нем траншеи и протянули вдоль них колючую проволоку, но мысль о том, что не враги, а свои роют в центре Парижа узкие ямы уборных, была Роримеру непереносима. Тюильри, объяснял он на бесчисленных встречах, не помойка. Сад жизненно важен для парижан, как, например, Гайд-парк для лондонцев и Центральный парк для жителей Нью-Йорка.
Разрывать Тюильри прекратили, но была ли это настоящая победа Роримера? Знаменитая центральная аллея сада, на которую он сейчас свернул, была забита грузовиками и джипами. Никто, по крайней мере официально, не запрещал транспорту въезжать в парк, и он превратился в самую большую парковку Парижа. Машины сбили с пьедесталов уже шесть статуй, под весом автомобилей лопались заложенные в XVII веке глиняные трубы канализации. Роример потратил десять дней на то, чтобы найти другую парковку, и в конце концов решил, что мощеная площадь перед Домом Инвалидов намного лучше соответствует армейским нуждам. Кроме того, весь этот район был связан с военной историей. Теперь оставалось только убедить армию перенести парковку на другой конец города.
Роример прошел мимо Большого пруда – даже несмотря на стоящие кругом военные грузовики, мальчишки запускали здесь свои кораблики, – пересек террасы Тюильри и, предъявив документы вооруженной охране, попал во двор Лувра. Там щерилась орудиями американская противовоздушная установка, за ней можно было видеть огражденную территорию, где американцы поначалу держали немецких пленников. Но внутри дворца по-прежнему был музей, святилище искусства. Здесь не было ни орудий, ни военных: под сводчатым стеклянным сводом Большой галереи музей оставался тих и бесшумен, как могила. Могила пустая – от сокровищ мировой культуры, на которые еще недавно приходили смотреть миллионы людей, остались только пустые стены с надписями, сделанными белым мелом, чтобы кураторы не перепутали место каждой из картин.
Нет, их не потеряли и не украли. Более того, немцы к ним даже не притронулись. Картины были в безопасности: в хранилищах, куда французы успели вывезти их в 1939– 1940 годах, перед вторжением нацистов. Эту выдающуюся эвакуацию задумал и осуществил один из главных героев Франции – Жак Жожар, директор Национальных музеев Франции.
Жожар был чиновником французского правительства и одним из самых уважаемых музейщиков Западной Европы. Ему было всего сорок девять, но из-за тщательно зачесанных назад волос и точеных черт лица он казался молодящимся прадедушкой, жизнелюбивым патриархом какого-нибудь винодельческого рода. Жожар был бюрократом, но не боялся замарать себя настоящей работой. Во время Гражданской войны в Испании он оказал неоценимую помощь в эвакуации собрания главного музея Мадрида – Прадо. В 1939 году, когда его сделали директором Национальных музеев, он немедленно начал готовить эвакуацию предметов искусства, хотя тогда мало кто мог представить, что нацисты способны напасть на такую страну, как Франция, не говоря уже о том, чтобы завоевать ее. Под его неусыпным надзором тысячи мировых шедевров были инвентаризированы, сложены в ящики, запакованы и отправлены в хранилища. Он вывез даже Нику Самофракийскую, гигантских размеров греческую статую, венчавшую центральную лестницу Лувра, использовав для этого сложную систему блоков и наклонный деревянный механизм. Трехметровая мраморная статуя богини с распростертыми крыльями (голова и руки были утрачены много веков назад) казалась цельной, на деле же она была собрана из тысячи осколков мрамора. «Жожар, наверное, боялся дышать, – подумал Роример, – когда гигантская статуя съезжала вниз по лестнице, а за спиной ее слегка дрожали огромные крылья. Разбейся она на куски, ему пришлось бы отвечать». Но Жожара трудности не пугали. Подобно Роримеру, он верил, что лучше взвалить на себя бремя ответственности, чем плыть по течению, ничего не предпринимая.
Роример остановился, обернулся и окинул взглядом величественную опустевшую картинную галерею Лувра. Сколько произведений искусства пропало? Сколько до сих пор находятся в опасности? Он подошел к неглубокому алькову, обрамленному двумя колоннами, – его внимание привлекли два слова на стене. Надпись «La Joconde» как будто парила на стене в пустом обрамлении. Джоконда – так французы называют «Мону Лизу». В основном картины музея перевозились партиями, зачастую по разбитым бомбами дорогам, но не «Мона Лиза». Самую знаменитую в мире картину погрузили на носилки «скорой помощи» и под покровом ночи отнесли в грузовик. Рядом с ней посадили смотрителя. Кузов грузовика был герметично запечатан, чтобы уберечь картину от перепадов температуры. Когда «Мона Лиза» прибыла в хранилище, с ней все было в порядке, зато смотритель от нехватки воздуха едва не потерял сознание.
Были и другие подобные истории. Знаменитая картина Теодора Жерико «Плот “Медузы”» была настолько большой, что в Версале запуталась в троллейбусных проводах. Но в следующем городе с низко висящими линиями электропередачи перед машиной уже шел работник телефонной линии и приподнимал все провода при помощи длинного шеста, обмотанного изолентой. Только представьте: медленно ползущий грузовик, перед ним – человек с палкой, кругом – спешащие в эвакуацию французы, с удивлением глядящие на лица изображенных Жерико пассажиров и моряков с фрегата, погибающих на тонущем плоту… С одной стороны, забавно, а с другой – это все было не развлечение на потеху зевакам, а спасение шедевров. И благодаря заботе Жожара им не было причинено почти никакого ущерба.
Но даже Жожар не мог предвидеть немецкого блицкрига и унизительного разгрома французской армии. Он прятал произведения искусства в замки и хранилища, чтобы уберечь их от военных повреждений, прежде всего от воздушных бомбардировок. В замке Сурш под Ле-Маном кураторы даже выложили на лужайке большими белыми буквами «Музей “Лувр”», чтобы летающие над их головами истребители знали, что внутри содержатся шедевры мирового искусства, и не бомбили их. Но французская армия таяла на глазах, и Жожар велел перевозить коллекцию Лувра дальше на запад и на юг. Немцы обнаружили его в хранилище в замке Шамбор, где он руководил эвакуацией. «Вы первый крупный французский чиновник, – сказали они ему, – которого мы встретили на своем посту».
От бомбежек и обстрелов, слава богу, ничего не пострадало, но против нацистских оккупантов защищаться было труднее. Им было известно практически каждое произведение искусства, составляющее культурное наследие Франции, и они немедленно постарались захватить их все. Париж был оккупирован 14 июня 1940 года. 30 июня Гитлер издал приказ взять под охрану предметы искусства из национального собрания, а также из частных, в особенности еврейских, коллекций. Картины, скульптуры и исторические документы стали заложниками в военных переговорах. Франция подписала только перемирие, но Гитлер планировал заключить официальное мирное соглашение, чтобы «легально» присвоить культурные сокровища страны, – точно так же, как Наполеон за 150 лет до этого использовал односторонние договоры, чтобы завладеть шедеврами Пруссии. Тогда считалось, и только с малой долей преувеличения, что без трофеев наполеоновских кампаний Лувр был бы бледной тенью того, чем он в итоге стал.
Влиятельный в Париже немецкий дипломат Отто Абетц ринулся в бой, объявив, что нацистское оккупационное правительство предоставит «охрану» всем сокровищам культуры. Спустя три дня после приказа Гитлера Абетц конфисковал имущество пятнадцати крупнейших парижских торговцев произведениями искусства, большая часть которых были евреями. Не прошло и нескольких недель, как немецкое посольство было переполнено «охраняемыми» произведениями искусства. И тут, рассказывал Жожар Роримеру во время одной из частых бесед, на сцене появился настоящий герой-спаситель – чиновник по вопросам искусства граф Франц фон Вольф-Меттерних.
– Немец? – ошеломленно переспросил Роример.
Жожар кивнул, в его глазах промелькнула озорная искорка.
– Не просто немец, – сказал он, – нацист.
В мае 1940 года графа Вольфа-Меттерниха назначили главой немецкой Службы охраны культурных ценностей. Эта служба была создана во время Первой мировой войны как отряд защиты памятников в составе немецкой армии – единственный предшественник союзнической ПИИА. Но в 1940 году служба вошла в состав нацистского оккупационного правительства, действуя в основном на завоеванных территориях Бельгии и Франции. Во главе ее поставили графа Вольфа-Меттерниха, специалиста по архитектуре Ренессанса (изучавшего в основном Рейнскую область северо-западной Германии, где он родился и вырос) и профессора Боннского университета.
Вольфа-Меттерниха выбрали потому, что он был уважаемым ученым и его авторитет придал бы веса Службе охраны культурных ценностей. Он не был активным членом НСДАП, но на подобные посты нацисты предпочитали назначать квалифицированных профессионалов, а не политических соратников. Не последнюю роль сыграло и то, что граф происходил из знатного немецкого рода, получившего свой титул несколько столетий назад, еще при Прусской империи.
Вольфу-Меттерниху не дали четких указаний, но он и без того отлично представлял себе, чем именно должно заниматься его ведомство. «Во всех случаях, – писал он, – решающими для нас были соответствующие пункты Гаагской конвенции». Иными словами, его определение культурной ответственности было гораздо ближе к общепризнанным мировым взглядам, чем к нацистской версии. «Защита культурных ценностей, – писал Вольф-Меттерних, – составляет неоспоримый долг каждой европейской нации во время войны. Я не могу представить себе лучшего способа послужить своей стране, чем взять на себя ответственность за соблюдение этого принципа».
– Граф Меттерних осмелился пойти против Отто Абетца, – рассказывал Роримеру Жожар. – Не спрашивая его разрешения, он обратился к военным властям. В то время шла настоящая битва за то, кто будет контролировать Францию: военные или оккупационное правительство. Через пару дней военные запретили посольству конфисковывать культурные ценности. По моему предложению, озвученному Вольфом-Меттернихом, большая часть их была передана в Лувр. Когда их доставили, многие уже были упакованы для отправки в Германию.
Жожар не приписывал эту победу себе. Он был человеком осмотрительным и полагал, что о своих достижениях не пристало распространяться. Но Роример слышал много историй о его храбрости. Самые разные люди с уважением и даже благоговением рассказывали о бесстрашном директоре, осмелившемся противостоять нацистским властям. Победа над Абетцем значила только, что битва не была проиграна сразу, но до победы в войне за французскую культуру было еще далеко. Жожар вплотную – гораздо ближе, чем он говорил посторонним, – сотрудничал с графом Вольфом-Меттернихом, они вместе отразили целую череду нацистских попыток захватить культурное наследие Франции. Один чиновник, которому поручили конфисковать французские государственные документы, пытался заодно наложить лапу и на предметы искусства, другой настаивал на том, что на складах не создано подходящих условий для хранения картин, и поэтому их следует перевезти в Германию. Такие требования Вольф-Меттерних опровергал, посещая склады с собственной инспекцией. Доктор Йозеф Геббельс требовал отдать ему почти тысячу «германских» произведений искусства из французских государственных коллекций. Вольф-Меттерних вроде бы соглашался с тем, что большая часть этих картин и скульптур по праву принадлежит Германии, но замечал, что не следует отправлять их на родину прямо сейчас. «Я никогда не скрывал моего убеждения, – писал он, – что эта деликатная проблема, так глубоко затрагивающая честь всех людей, может быть разрешена только на мирной конференции при единодушном выборе участников, наделенных равными правами».
– Он рисковал должностью, может быть, даже жизнью, – нахваливал Вольф-Меттерниха Жожар в свою последнюю встречу с Роримером. – Он противостоял Геббельсу единственным возможным способом – ссылаясь на приказ самого фюрера от 15 июля 1940 года, в котором запрещалось вывозить из Франции произведения искусства до подписания мирного договора. Цель этого приказа была в том, чтобы не дать нам, французским патриотам, спрятать работы прежде, чем нацисты заявят на них свои права. Но Вольф-Меттерниху хватило мудрости распространить его на самих немцев. Не стой он так упорно на своем, нам не на что было бы надеяться.
– Мы, конечно, не говорили им «нет». Однозначное «нет» только навлекло бы на нас гнев Геббельса. Мы всегда отвечали «да», – продолжал Жожар, – но… Всегда находились детали, требующие уточнения. Нацисты были – как там выразился этот американский кардинал? бумагозависимыми? – в общем, они были ужасными бюрократами. Ничего не могли сделать, не послав пять-шесть писем в Берлин.
Послушать Жожара, так они с Вольф-Меттернихом отразили нацистскую угрозу с помощью тысяч листов бумаги. Он ничего не говорил о сложностях этой задачи, о долгих годах, проведенных в вечной готовности к вооруженным вторжениям, о том, что у Жожара с его лучшим другом был тайный пароль, чтобы сбежать из Парижа в случае угрозы ареста. Молчал он и обо всех ночных звонках Вольф-Меттерниху с просьбой немедленно прийти и потрясти бумажками перед лицом очередного нацистского грабителя, звонках, на которые Вольф-Меттерних всегда откликался, несмотря на серьезное почечное заболевание. Его болезнь требовала отставки, но он продолжал служить: «прежде всего чтобы оправдать доверие, оказанное мне чиновниками, ответственными за сохранность французского искусства».
Жак Жожар никогда не рассказывал об этом Роримеру, но у него были связи не только в нацистской верхушке. За ним стояла целая сеть музейных работников, служивших ему глазами и ушами, у него были близкие знакомые среди французских чиновников, а его хороший друг, меценат Альберт Энро, активно участвовал во французском Сопротивлении. Жожар обеспечивал Энро документами на проезд и официальными музейными бумагами, чтобы прикрыть его работу на Сопротивление. Энро передавал партизанам информацию, собранную музейщиками, шпионящими на Жожара. И Вольф-Меттерниху все это почти наверняка было известно.
– Жожар утверждал, что Вольф-Маттерних рисковал не только карьерой, но и жизнью. Те же самые слова он мог бы сказать и про себя самого.
«Хорошего нациста», как про себя называл Вольф-Меттерниха Роример, освободили от должности в июне 1942 года, но тот успел переиграть Геббельса, уже к концу 1941 года бросившего попытки захватить тысячи «германских» предметов искусства. Официальной причиной отставки стало публичное неодобрение Вольф-Меттернихом самой наглой операции оккупантов – кражи Гентского алтаря, который по приказу Гитлера забрали из хранилища в По. Но конечно же нацисты давно мечтали избавиться от главы Службы охраны культурных ценностей, в особенности подручные рейхсмаршала Германа Геринга, второго лица в НСДАП. То они объявляли, что Вольф-Меттерних работает «исключительно в интересах Франции», то жаловались, что он слишком рьяный католик. На самом деле он просто не устраивал их своим отношением к работе. Служба охраны была им нужна только для того, чтобы придать кражам видимость законности. Вольф-Меттерних был «лишним в осином гнезде гитлеровской шайки».
Вскоре после отставки «хорошего нациста» яростные выступления Жожара против кражи Гентского алтаря стоили должности и ему. В знак протеста тут же уволились все сотрудники французских музеев – так велико было влияние Жожара на музейное сообщество Франции. Это потрясло немцев, и Жожара вернули. С тех пор бороться с ним стало почти невозможно. Нацистам удалось присвоить только два предмета из национальных коллекций, оба немецкого происхождения и средней ценности.