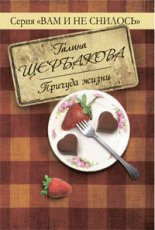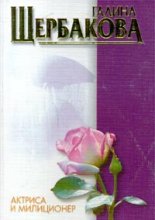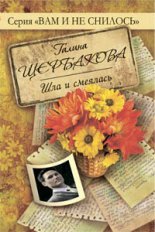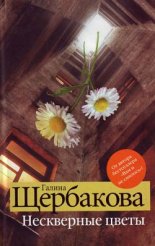Догадки (сборник) Пьецух Вячеслав

– А что, ведь они меня, пожалуй, могут и убить?
– Могут, государь! Эти люди способны на все.
– Ну ничего! У меня шпага с темляком, а это вывеска благородного человека!
Впоследствии Ростовцев составил подробный отчет об этой аудиенции под названием «Прекраснейший день моей жизни» и из рыцарских соображений представил вождям тайного общества, так как находился с ними в приятельских отношениях.
Во второй половине дня 12 декабря, когда стало окончательно ясно, что от Константина толку не добиться, Николай Павлович решил махнуть рукой на формальности и вступить в права российского самодержца несмотря на то, что с точки зрения логики и закона это был безусловно дворцовый переворот. Сразу после обеда он набросал проект манифеста о вступлении на престол и передал его Сперанскому для оформления по традиционному образцу. За Сперанским дело не стало, и в ночь на 13 декабря надворный советник Гаврила Попов уже переписывал текст манифеста в трех экземплярах. Во главе страны становилась сильная личность, которую, между прочим, в детстве жестоко тиранил курляндский рыцарь Матвей Иванович Ламздорф; эта личность соединяла в себе многие разнокачественные черты: беспокойную суровость, злопамятность, неистовое самолюбие, решительность, вытекавшую из узкой образованности и дюжинного ума, покровительственную любовь к России и ко всему русскому, необыкновенную, бальзаковскую работоспособность, беззаветную и нежную привязанность к принципам самовластья, чисто германскую пунктуальность; наконец, Николай Павлович был хозяин, неутомимый клубничник и терпеть не мог того, что нарушало единообразие.
Воскресным утром, еще до завтрака, Николай Павлович сделал два неотложных дела: подмахнул манифест и назначил экстренное заседание Государственного совета. Вплоть до позднего вечера он проводил время в занятиях праздных: играл в большие фарфоровые солдатики со своим семилетним сыном, будущим императором Александром II Освободителем, после обеда посетил одну из фрейлин супруги Александры Федоровны, немного полистал «Дедушкины прогулки», вздремнул перед ужином и битых часа два сражался в стуколку с принцем Евгением Вюртембергским. Между тем заседание Государственного совета все откладывалось, откладывалось, так как Николай Павлович не решался начать его в отсутствие младшего брата, великого князя Михаила Павловича, посланного в Варшаву для последних и решительных объяснений, а Михаил что-то не возвращался. Прибыл он только в одиннадцатом часу вечера и, прямо в шинели пройдя к Николаю Павловичу, скорбно развел руками, давая понять, что от брата Константина он ничего нового не привез. Ни слова не говоря, Николай Павлович подхватил Михаила под руку и повел его в зал близ Темного коридора, где томились члены Государственного совета.
При появлении великих князей государственные мужи с шумом поднялись из кресел и, приосанясь, выслушали николаевский манифест. Адмирал Мордвинов, которого тайное общество прочило в члены революционного временного правительства, кланялся новому императору в пояс и загадочно улыбался.
В первом часу ночи все было кончено: Россия приобрела законного императора, который назначил на семь часов утра присягу для Сената, Синода, столичного гарнизона, и члены Государственного совета разъехались по домам. Перед тем как отправиться спать, Николай Павлович принял поздравления от семьи.
– Es ist nicht gut, Ihre Majestдt, das am Montag Eid festsetzen ist[41], – сказала на прощание ему мать, императрица Мария Федоровна.
– Еs wird schon gehen[42], – ответил Николай Павлович и направился в свою спальню.
Рано утром 14 декабря, когда Зимний дворец путем еще не проснулся и в его окна снаружи гляделась непроглядная ночь, а изнутри – немногочисленные язычки восковых свечей, дававших приглушенное, какое-то квелое освещение, Николай Павлович вышел к главным чинам гвардейского корпуса, созванным во дворец накануне присяги для последних распоряжений. Император сказал гвардейскому начальству краткую речь, суть которой свелась к тому, что-де оно головой отвечает за порядок в войсках, и распустил командиров исполнять непосредственные обязанности.
Через полчаса присягнул Главный штаб, Сенат, Синод, министерства, – словом, дело шло как по маслу; до десяти часов утра отовсюду поступали донесения о безмятежном совершении присяги, как вдруг в Ротонду, где в сопровождении адъютантов нервно прогуливался Николай Павлович, влетает начальник штаба гвардейского корпуса генерал Нейдгардт и говорит:
– Sir! Le rйgiment de Moscou est en plein insurrection! Lеs mutins marchent vers le Sйnat![43] Главный ихний заводила какой-то Горсткин!..
Пожалуй, ни один из прежних аналитиков декабризма, начиная с Николая Ивановича Греча, не преминул с радостным в некотором роде недоумением указать на то, что среди деятелей наших первых революционных организаций не было ни одного недворянина, а все больше потомки Рюрика, Гедимина и Чингисхана, то есть представители той части общества, которая менее всего страдала от притеснений. Прежние аналитики видели в этом недоразумение и загадку, так как республиканское движение в Западной Европе было сопряжено с прямой необходимостью присовокупить политическую власть к денежному мешку, а в нашем отечестве было следствием чисто российского альтруизма, то есть братолюбия, вытекающего из братолюбия, которое способно порой разогреваться до такого градуса самоотречения, когда человек сам себе безотчетный злопыхатель и супостат. Однако на расстоянии в полтора века становится очевидно, что декабрьское покушение воспитанников самодержавия и крепостничества, то есть семени привилегированного меньшинства, на самодержавие, крепостничество и привилегии меньшинства было естественным итогом процесса накопления человеческого в человеке, или истории духа, которая сопутствует истории превращений. Пресловутое «окно в Европу», прорубленное Петром, с одной стороны, надуло нам культ умной книги, на долгие годы ставшей нашим первым воспитателем, путеводителем и судьей, а с другой стороны, в это окно нам некстати увиделась выметенная, выбеленная, вообще обихоженная страна, где обыкновенное «тащить и не пущать» рассосалось еще в эпоху крестьянских войн, где не было рабов и рабовладельцев со всеми вытекающими последствиями, грязного пьянства, мздоимства, повального беззакония, культуры юродивых и папертной нищеты, где невозможно было ни с того ни с сего, как говорится, получить по морде от первого встречного квартального надзирателя или поднабравшегося купца и где нашим прапрадедам то и дело давали наглядные уроки либерализма вроде того, какой был даден князю Козловскому, однажды решившему по-русски, то есть кулачно, поторопить немецкого кучера, за что тот огрел его кнутовищем по голове. Естественно, что при этом родимая сторона должна была представляться нашим предкам злосчастной Золушкой, конечно, прекрасной и по сказочным правилам обеспеченной самым завидным будущим, но покуда забитой, немытой, косноязычной, в затрапезном платье, да еще с колодками на ногах. Отсюда особое, обостренное, несколько даже нервное чувство родины, стучащее в каждой жилке, ужасно отвлеченное и в то же время до такой степени повелительное, что в силу этого чувства русский человек способен на самые противоречивые и непрактические поступки. Кроме того, сто пятьдесят лет назад мы были настолько по-граждански бедны, что чувство родины в этом смысле едва ли было не наше единственное богатство.
Или взять нарождение в позапрошлом веке новой аристократии, вышедшей из казаков, певчих и разносчиков пирогов, которая по-простонародному оттерла столбовое дворянство от источников чести и обогащения, что, по замечанию Пушкина, обернулось «страшной стихией мятежей», потенциально зарядившей несколько поколений потомков Рюрика, Гедимина и Чингисхана.
Или взять войны с Наполеоном, весьма неожиданно повлиявшие на ход нашей истории, что, впрочем, неудивительно, так как даже в Китае, имей он практическую возможность вступить в войну, скажем, с королевством обеих Сицилий, дело, вероятно, закончилось бы восстанием мандаринов. Почти полтора десятилетия противоборства с революционной Францией, в ходе которого русская молодежь, что называется, за руку познакомилась с благами европейской культуры и демократии, неминуемо должно было вызвать тяжелое гражданское отравление, поскольку, во-первых, гуманистическую Европу освобождали рабы под командой рабовладельцев, до того, между прочим, прельстившиеся ее жизнью, что после взятия Парижа из русской армии дезертировало около шести тысяч офицеров и рядовых, во-вторых, сравнение родины и чужбины дало оскорбительное сознание нелепости российских методик общественного и личного бытия, не только стеснявших дыхание нации, но и превращавших страну в посмешище для всякого европейца, от голодного англичанина до залатанного француза, от гомосексуалиста Кюстина до помешанного Доре, в-третьих, клином в сердце отозвался старинный народный недуг, вытекающий из того, что в высшей степени достойная внутренняя жизнь и в высшей степени недостойная внешняя жизнь – это нормальный ненормальный удел русского человека. Но, может быть, наиболее влиятельным в смысле гражданского отравления оказалось как раз возвращение победителей восвояси; первая же домашняя сцена, свидетелями которой стала военная молодежь, сходившая с кораблей в Ораниенбауме и Кронштадте, на свежий взгляд была более чем дика: хожалые[44], непонятно зачем разгонявшие толпы встречающих, самозабвенно лупили соотечественников ножнами своих шпаг. Таким образом, на расстоянии в полтора века, что называется, невооруженным глазом видится ряд внешнеисторических раздражителей, которые обеспечили, казалось бы, противоестественное потрясение 14 декабря.
Как известно, первые тайные общества европействующей молодежи образовались у нас вскоре после окончания заграничного похода, увенчавшего разгром наполеоновского нашествия. Дело это было новое для России, если не считать предтечи тайного масонства просветителя Новикова, но прямо закономерное в связи с тем, что феномен клина в сердце представлял собой готовую политическую платформу, что тогдашний режим предполагал сугубую потаенность всякого самостоятельного движения вплоть до самых безвредных для государства, вроде плотской деятельности общества «Братьев-свиней», предвозвестившего сексуальную революцию, или «Тайного общества кавалеров пробки», что недовольство правительством было тогда в России почти всеобщим и его костили даже члены царской фамилии, а такое единодушие неизбежно должно было обернуться если не явным противодействием режиму, то, во всяком случае, оформленной оппозицией. Первый тогдашний российский соглядатай фон Фок доносил об этом времени: «Никогда не видывано прежде подобных явлений, чтобы столько умных людей, собравшихся вместе и согрев головы вином, не говорили бы, по крайней мере, двусмысленно о правительстве».
Между прочим, основанием для этого доноса мог послужить обед у третьестепенного литератора Ореста Сомова на набережной Мойки, во флигельке, за которым велось аккуратное наблюдение. Как-то раз у Сомова собрались: Михаил Орлов, молодой генерал-майор и австрийский барон, князь Павел Долгоруков, Михаил Лунин, отставной кавалергард, двое братьев Муравьевых, Никита и Александр. После обеда, состоявшего из множества перемен, за которым поднимались исключительно гастрономические темы, когда уже были поданы трубки с костяными мундштуками в человеческий рост, в преддверии кофе, беседа приняла политическое направление.
– Кажется, господа, пришли последние времена, – начал Александр Муравьев, совсем еще юноша. – Ржаная мука вздорожала до пяти рублей с полтиной ассигнациями за куль, на юге свирепствует холера…
– Холера – патриотическая болезнь, – вставил князь Долгоруков.
Тем временем хозяин, взяв в руки гитару, забрался с ногами на ковровый турецкий диван и принялся напевать уланский романс, сочиненный поручиком Сементовским:
- Кто ж твоя милая,
- Княжна али графиня,
- Простая ли дворянка,
- Фрейлина ль какая?
- Дай снесу поклончик…
– Ну хорошо, – продолжал Александр Муравьев, – а ни с чем не сообразные сроки армейской службы для нижних чинов, а повальное пьянство?…
– Это, положим, не один только русский народ почитает Бахуса, – перебил его брат Никита. – Разница в том, что пьяный француз шумит, а не дерется.
– А мздоимство чиновников, а казнокрадство?!
– Истинные слова! – сказал Михаил Лунин. – Что есть Россия в ее теперешнем состоянии? Царство грабежа и благонамеренности.
– Я уже не говорю о том, что в наш положительный век это просто страм иметь крепостных и допускать телесные наказания.
– Русского побей – часы сделает! – сказал Долгоруков и несколько раз с усилием пыхнул в трубку, окутав себя сиреневыми клубами.
Где-то поблизости затренькали ко всенощной колокола; на дворе было залаяла собака, но поперхнулась и замолчала.
Сомов завел новый романс, который начинался словами: «Ну что ж, сударь, тогда и жить не стоит».
– Как хотите, князь, – продолжал Александр Муравьев, – а несообразности нашего государственного устройства – il est plus que de toute evidence[45]. Недаром отовсюду слышится внутренний ропот противу правительства.
– Коли так, – сказал князь, – то, уповательно, в обществе проходу не было бы от революционистов, а между тем в России нет ни одного, даже самого миньятюрного, заговора.
– Как знать, – со значением проговорил Михаил Орлов.
– Во всяком случае, – сказал Александр Муравьев, – есть люди, которые мало того что не признают законным наше правительство, но прямо считают его враждебным своему народу, а потому действия против него полагают законными и глядят на них как на обязанность для каждого честного патриота, как если бы ему случилось действовать противу неприятеля, силою или хитростью вторгшегося в страну. И верьте мне, князь, настанет тот час, когда от Перми до Тавриды…
– Господи, как же мне надоели эти наши географические фанфаронады! – перебил его брат Никита. – «От Перми до Тавриды, от Березова до Дербента!..» Да что же тут хорошего, чему радоваться и чем хвастаться, ежели у нас от мысли до мысли пять тысяч верст?!
– Именно так, господа! – сказал Михаил Орлов и в сердцах ударил по подоконнику кулаком. – Скоро настанет тот час, когда от Перми до Тавриды слеза рабства иссохнет на ланитах, украшенных улыбкою вольности!
– Пестель предлагает наперед енциклопедию написать, – язвительно вставил Лунин.
– Удивляюсь я на наше общество, господа, – сказал князь Долгоруков. – Только соберутся вместе три человека, так давай едко разбирать вопросы государственного управления, гераклитствовать да в хвост и гриву метать перуны. И штатские чиновники у них подлецы, и помещики разбойники, и генералы скоты большей частью – один класс землепашцев почтенный!.. А между тем это просто глупый бородатый народ, и более ничего. Послушайтесь меня, господа: эти тексты до добра не доведут!
– Что правда, то правда, – весело сказал Лунин. – В России два проводника: язык – до Киева, перо – до Шлиссельбурга.
– Однако есть люди, которые не только козируют[46], но и действуют сообразно правилам истинного патриотизма, – сказал Александр Муравьев и в задумчивости поглядел на стену, где чернилами было написано заклинание от клопов: «Святого великомученика Дионисия Ареопагита!!!»
– Что же это за правила? – спросил его Орест Сомов, откладывая гитару.
Александр Муравьев собрался было ответить, но тут вошел в комнату сомовский человек Ферапонт, который принес послеобеденный кофе.
– Экий ты, братец, свинтус! – сказал ему Михаил Орлов, отхлебнув из серебряного наперстка. – Совсем кофе подал холодный…
– Между прочим, господа, – заметил Михаил Лунин, – кофе нонче тянет на одиннадцать рублей ассигнациями!..
– Что за правила, спрашиваете вы, – сказал Александр Муравьев. – А такие правила, что их можно выразить одним словом: пронунциаменто![47]
Видимо, Долгорукова это признание напугало, так как после некоторой паузы он сказал Орлову, явно норовя переменить направление разговора:
– Что-то вы грустны, генерал. Наверное, влюблены.
– Влюблен.
– И в кого же?
– В представительное правление.
– А по-моему, господа, – сказал Орест Сомов, – Россию осчастливят не заговорщики, а поэты, которые своим благотворным словом взлелеют в обществе побеги вольности, равенства и христианского братолюбия.
– Ну, это вы уж, сударь, загнули! – сказал князь Долгоруков. – Поэт – то же самое, что петух, то есть охотник петь и до кур.
– Не скажите, – возразил Александр Муравьев. – Бывают умные, вольнодумствующие поэты…
– Это точно, – вставил Михаил Лунин. – Если умен по-настоящему, то обязательно вольнодумец.
– Возьмите хотя бы Пушкина; пущай он и вертопрах, но его стихи – это прямая укоризна для тирании, и, стало быть, он действует в смысле упразднения самовластья.
– Пушкин? – сказал князь Долгоруков. – Метроман-с!
– Нет, господа, тут стишками не обойтись, – заявил Орлов. – Истинным патриотам отечества надлежит брать самые решительные меры – вплоть до физического устранения царствующей династии.
– Царица небесная! – выдохнул Долгоруков. – Как у вас, генерал, только язык поворачивается произносить такие каторжные слова?! Увольте меня, господа, от этаких разговоров, через них как раз угодишь в Сибирь.
Князь уже было оперся о подлокотники своего кресла, чтобы идти в переднюю одеваться, но потом посмотрел в окошко и передумал.
Несколько раз протявкали металлическим голосом каминные часы, изображавшие мопса.
– По крайней мере, – заговорил Александр Муравьев, – хорошо было бы распустить в обществе моду на простонародные правила и привычки: трудиться, вставать с первыми петухами, пить простое вино, вообще потреблять кушанья подлого класса…
– И вот еще что, – сказал его брат Никита, – на вечерах надобно нарочно не танцевать. Пускай его танцуют ветреники да франты, которым дела нет до общественных бедствий, а мы будем молча их осуждать и тем самым распускать критическое настроение.
В этом роде собрание беседовало еще некоторое время, а ближе к вечеру начало расходиться. Князь Долгоруков отправился завиваться к Гелио, лучшему петербургскому парикмахеру, бравшему пятерку за куафюру, а младший Муравьев, Орлов и Лунин поехали догуливать у Дюме. Никита Муравьев, уходивший последним, сказал Сомову на прощанье:
– Видя твой образ мыслей, говорю откровенно: я предлагаю тебе взойти в тайное общество.
– За твою откровенность я заплачу откровенностью, – сказал Сомов. – Я уже принадлежу одному тайному обществу.
– Гм! Каковы же его действия?
– Ничего не делают.
– Вот видишь! – сказал с облегчением Муравьев. – Это же, верно, мальчишки и пустомели. А есть общество избранных молодых людей, которые положили упражняться в практической благотворительности, делая сборы для бедных, определяя сирот в училища, безвестным приискивая пристанища, а пуще всего противоборствуя русским немцам.
Сомов назвал эту деятельность великодушной, но примкнуть к обществу избранных молодых людей все же не пожелал. Впоследствии он имел неосторожность в общих чертах описать памятный обед в письме к своей липецкой тетке, а так как его корреспонденция просматривалась ведомством Милорадовича, то вполне возможно, что он помимо воли предоставил фон Фоку интригующий материал. Впрочем, как это ни загадочно, правительство последним узнало о существовании оформившейся политической оппозиции, как мужья последними узнают об изменах жен, хотя толки о тайных обществах можно было подслушать в любом салоне и даже вычитать в иностранных газетах, например, в «Journal des Dиbats», которую выписывала в России чуть ли не каждая аристократическая семья.
Поскольку в зрелые годы русский человек частенько утверждается на том, с отрицания чего он некогда начинал, положим, приходит к убеждению, что самая мудрая книга – это «Домострой», что деньги – великая вещь и что жениться нужно не по любви, – на первых порах стихия общественного непослушания захватила почти исключительно молодежь. Это обстоятельство не могло не отразиться на букве дела. Шестеро членов самого первого тайного общества, образованного ради учреждения республики на острове Сахалин, хотя и были знакомы с детства, договорились узнавать друг друга посредством следующего пароля: при встрече нужно было взяться правой рукой за шею и трижды топнуть левой ногой; другое тайное общество – «Орден вселенского восстановления», основанный Дмитрием Завалишиным, – собственно, из одного основателя только и состояло; третье – «Орден русских рыцарей» – предусматривало клятву кровью и разные демонические масонские процедуры. Только «Союз спасения», возникший года через два после возвращения армии из-за границы, мало отдавал игрой в «казаки-разбойники», но зато это была чуть ли не благотворительная организация, ориентированная главным образом на то, чтобы «противодействовать злонамеренным людям и споспешествовать благим намерениям правительства». Его практическая деятельность совершенно характеризуется программой, записанной Федором Глинкой в настольном календаре: «Порицать: 1) Аракчеева и Долгорукова, 2) военные поселения, 3) леность вельмож, 4) жестокость и неосмотрительность уголовной палаты. Желать: открытых судов и вольной цензуры. Хвалить: ланкастерскую школу и заведения для бедных у Плавильщикова».
Вообще практическая деятельность была слабым местом наших первых революционеров. Во Франции в 1789 году только часа четыре препирались в зале для игры в мяч и тут же провозгласили Учредительное собрание; в Испании в 1820 году сообразно принципу предпочтения либры действия арробе[48] размышлений немного помитинговали на главной площади городка Лас-Кабасас-де-Сан-Хуан и сразу же тронулись походом на правительственные войска. У нас же по крайней мере в течение восьми лет несколько партий революционеров вели бесконечные прения на тот счет, уложится ли Россия в республиканские формы или ей больше к лицу конституционная монархия, уничтожать ли царствующую фамилию или просто экспортировать ее за рубеж, забирать ли власть исподволь или путем вооруженной борьбы, а также интриговали, разъединялись и объединялись, сочиняли документы, не имевшие прикладного значения, и конституции, которым не суждено было осуществиться, то есть готовили новорожденному обстоятельное приданое, в то время как беременность была еще под вопросом. Делами, имевшими хоть какую-то практическую направленность, можно назвать единственно работу по расширению революционных организаций за счет приобщения новых членов, книгу Николая Тургенева «Опыт о налогах», выпущенную в пользу крепостных крестьян, арестованных за долги, каковых в России не было и быть не могло, так как им по закону возбранялось ссужать более пяти рублей серебром, а за такие задолженности не сажали, и сторожкую агитацию нижних чинов, которую в Петербурге вел небольшой кружок офицеров, а на юге – командир 16-й дивизии генерал Михаил Орлов, издававший демократические приказы, Бечаснов, заведующий солдатской школой в 8-й артиллерийской бригаде, сочинивший четыре прописи в духе свободомыслия, Владимир Раевский, обучавший по ним солдат, но прилежнее всех подполковник Сергей Муравьев-Апостол, всегда предпочитавший действовать напрямки. Ведя на учения батальон, он всякий раз пристраивался к какому-нибудь солдату и начинал:
– А что, Николаев, есть у тебя невеста?
– Есть, ваше благородие, как же не быть.
– Верно, красавица?
– Ничего. Убедительная девушка.
– Ну вот. А ты ее еще целых пятнадцать лет не увидишь. Разве это мыслимо, господин воин, служить такие канальские сроки?! Кто нам после этого государь – отец или изверг рода человеческого? Отвечай…
– Не могу знать, ваше благородие.
– То-то и оно, что изверг рода человеческого! Такого царя и убить не жалко.
– Оно конечно… – говорил уклончиво Николаев.
– Ты, братец, не позабудь про наш разговор и в роте об нем полегонечку распущай.
Николаев этот разговор действительно запомнил и по следствию 1826 года получил за него двенадцать тысяч шпицрутенов, смертельную дозу для любого богатыря.
Словом, практическая деятельность была слабым местом наших революционеров. Причиной тому послужило и отсутствие условий для коренной перестройки русского общества, и самодовлеющий характер тайных организаций, и по-дворянски небрежный подход к делу, а с другой стороны, объяснялось тем, что в пору всеобщих республиканских восторгов в революцию направился глубоко порядочный, но в основном недеятельный элемент, способный геройски пострадать за правое дело и даже откровенно ищущий пострадать, но не способный на методичную, сосредоточенную и самоотверженную борьбу. Главное, ему был не с руки тот основополагающий принцип политической деятельности, который заключается в умении хладнокровно распоряжаться чужим благополучием, здоровьем и самой жизнью в интересах какого-то общественного движения, и, следовательно, блажная его мятежность могла обернуться либо катастрофой, либо ничем; недаром Лунин задним числом назвал «избиением младенцев» выступление 14 декабря в Санкт-Петербурге и 29-го в Южной армии. По всей вероятности, эту перспективу отчетливо видели многие созидатели тайных обществ, так как в начале двадцатых годов они один за другим удаляются в частную жизнь: Михаил Орлов в преддверии женитьбы на старшей Раевской нарочно предложил товарищам печатать фальшивые ассигнации, чтобы под предлогом неодолимых разногласий выйти из тайного общества; Никита Муравьев, некогда отчаянный республиканец, получив миллионное наследство от деда со стороны матери, сделался чуть ли не монархистом; Лунин просто-напросто занялся псовой охотой и прямыми служебными обязанностями по Гродненскому полку. В результате к решительному моменту основной переворотной силой оказался неофит и политический дилетант, попросту огорченный расстройством общественного благопорядка, да еще по-онегински огорченный, гордыни ради, а в этом случае и характер практической деятельности, и даже сам успех общего предприятия никакого значения не имеют.
Немудрено, что накануне 14 декабря Рылеев в отчаянье восклицал:
– Десять лет готовились к этому часу, а ничего не готово!
Как только весть о кончине императора Александра достигла столицы, между членами тайного общества пошли бесконечные совещания, которые начинались за «русскими завтраками» у Рылеева в доме Русско-американской компании у Синего моста, в подворотню налево, где сейчас расположился ломбард, и велись под дворянскую водку, ржаной хлеб и квашеную капусту; затем совещания распространялись по Петербургу, а к вечеру большей частью опять сосредоточивались у Рылеева.
Все сходились в том мнении, что более удобного случая для переворота выдумать невозможно: Николай присягнул цесаревичу Константину, Константин царствовать не желал, великий князь Михаил Павлович сиднем сидел в Кеннале, военный губернатор граф Милорадович по-прежнему занимался главным образом девушками из балета, и никто ничего не знал; то есть наверху творилась такая неразбериха, что, действительно, более удобного случая выдумать было трудно.
В результате бурных и продолжительных толков в конце концов выработался следующий план выступления: в день присяги революционные войска стягиваются к Сенату, чтобы помешать сенаторам присягнуть и заставить их издать от своего имени манифест об упразднении самовластья; тем временем захватывается Зимний дворец, а все члены царской семьи, за исключением императора Николая, который должен быть умерщвлен, берутся под караул; на случай поражения в двух первых пунктах войска занимают Петропавловскую твердыню, где можно отсидеться, ожидая подмоги со стороны; затем полки выводятся из столицы, вожди революции принципиально отходят от дел, а власть берет в свои руки Временное правительство, немедленно созывающее учредительное собрание из выборных представителей всех губерний, которое и должно будет решить политическое будущее России; на случай поражения во всех пунктах положили отступать к новгородским воинским поселениям, а если отрежут и этот путь, то идти в глубь страны, объявляя «вольность» крестьянам и, таким образом, призывая народ к традиционному топору. Распределены были и роли: Трубецкой – диктатор, Оболенский – начальник штаба, Рылеев с Пущиным склоняют сенаторов к изданию революционного манифеста, который, между прочим, был дописан только утром 14 декабря, Каховский с Якубовичем расправляются с Николаем, все прочие члены тайного общества бунтуют войска под предлогом незаконной переприсяги. Тем не менее в этих планах было столько неопределенности и прорех, что далеко не все прояснилось даже на последнем совещании у Рылеева, которое закончилось за полночь 13 числа.
Весь вечер в рылеевской квартире у Синего моста, где собралась санкт-петербургская отрасль тайного общества, стоял восторженный, нервный гам. Было так накурено и надышано, что в канделябрах трещали свечи.
– Следует обсудить еще один коренной вопрос, – говорил князь Оболенский неестественно громким голосом, чтобы перекрыть шум. – Имеем ли мы право, как честные люди, составляющие едва заметную единицу в огромном большинстве населения нашего отечества, предпринимать государственный переворот и свой образ воззрения на общественное устройство налагать почти насильно на тех, которые, может быть, довольствуются настоящим и не ищут лучшего?
– Ну вот! – восклицал на это Каховский. – Только-только условились обо всем, а вы на попятный двор!
– Идеи не подлежат законам большинства или меньшинства, – сказал Рылеев и надолго закашлялся, так как был не совсем здоров. – И вот вам доказательство: народное большинство только в той мере влияет на течение истории, в какой его к этому побуждает мыслящее меньшинство; таким образом, в теперешний момент народ – это мы!
– Однако кровью за наш образ воззрения завтра будет расплачиваться народное большинство, – заметил князь Оболенский, несколько кривя свое маленькое лицо, отмеченное мучительно-кроткой миной нечаянного убийцы[49].
– Отчего же?! – сказал Рылеев и поправил на шее матерчатую повязку. – Что касается меня, то я первый встану в ряды солдат с ружьем в руках и сумою через плечо.
– Как, во фраке?! – с насмешкой спросил Николай Бестужев.
– А почему бы и нет? Впрочем, может быть, надену русский кафтан, чтобы сроднить солдата с поселянином в первом действии их взаимной свободы.
– Я тебе этого не советую: как бы прикладом по нечаянности не досталось. Русский солдат не понимает всех этих патриотических тонкостей.
– Уже поздно, господа, – сказал Михаил Пущин, который прогуливался по гостиной, попыхивая фарфоровой трубкой. – Не пора ли нам расходиться? Завтра уж что Бог даст: или грудь, в крестах, или голова в кустах.
В эту минуту из соседней комнаты донеслись горячие возгласы Якубовича.
– О чем это он? – недовольно спросил Рылеев.
– Об обязанностях дежурного офицера, наряженного на отдельный пост, – ответил Батеньков, симпатичный очкарик, и снисходительно улыбнулся.
Легок на помине, в гостиную заглянул Якубович, поправил черную бархатную ленту на голове, прикрывавшую шрам, и сказал:
– Я считаю, господа, что кроме обольщения нижних чинов хорошо было бы взять и другие меры. Предлагаю завтра разбивать кабаки и поить народ. Неплохо было бы также приударить в барабаны.
– Это еще зачем? – послышался дальний голос.
– Для оповещения публики.
– Да вы в своем уме, милостивый государь?! – сказал барон Штейнгель, выкатывая над очками разгневанные глаза. – Понимаете ли вы, к чему могут привести сии неистовые меры?! В Москве девяносто тысяч дворовых, готовых взяться за ножи; пожалейте хотя бы наших бабушек и тетушек, несносный вы человек!
– Действительно, господа, – согласился Батеньков, – восторг умов приобретает уж прямо злодейское направление.
– Поостерегитесь в выражениях, сударь, – проговорил Якубович на лютой ноте. – А то ведь у нас, у кавказцев[50], так: раз-два – и пожалуйте стреляться через платок.
– Ах, оставьте, господа! – сказал моряк Торсон. – До этого ли теперь?!
– У меня также имеется предложение! – воскликнул Щепин-Ростовский, круглолицый детина с замечательными усами, один из которых совершенно поседел на третий день заключения в Петропавловской крепости. – Не нужно никаких обольщений, барабанов и кабаков. Дайте мне веревку! Я завтра Николая Павловича под рылеевские окна на веревке приволоку!
– А это еще кто такой? – послышался тихий голос.
– Почем я знаю, – отозвался ему другой.
– Как хотите, а я весь сомнение, господа, – сказал сквозь шум Репин, милый блондин с коротенькими усами. – Принимая в уважение двусмысленность наших планов и малочисленность наших сил, может быть, нам вовсе не выступать?
– Поздно, милостивый государь! – сказал Николай Бестужев. – Подлец Ростовцев уведомил правительство обо всем. Лучше быть взятым на площади, чем в постели.
– Ростовцев не подлец, – заметил князь Оболенский, – он несчастный.
– Оставим это, господа, – сказал князь Трубецкой, напустив на свое странно-удлиненное лицо диктаторское выражение, и посмотрел на брегет. – До выступления остаются считанные часы. Давайте рассудим, какими силами мы можем реально располагать.
– Тысяча штыков, а может быть, шесть тысяч, – назвал Рылеев.
– Вот это мило! – ядовито сказал Якубович. – Через несколько часов отправляться на площадь, а еще толком ничего не известно!
– В теперешнем случае участь предприятия будет решать отнюдь не число партизан нашей идеи, – вступил в разговор Каховский, который минуту тому назад печально глядел в окно. – Если нам суждено победить, то для успеха будет достаточно одного точного выстрела, а если не суждено, то и вся гвардия не спасет.
– Полагаю, что в любом случае преимущество будет на нашей стороне, – заявил Рылеев, нездорово блеснув своими большими ореховыми глазами, – ибо гражданин, вооруженный любовью к несчастному отечеству нашему, один стоит дюжины гренадеров! А коли ничего не удастся – ну что ж… Поступим прилично званию честного человека: погибнем за будущее России!
– Это, конечно, почтенные чувства, – сказал Трубецкой, пошевеливая бровями, – однако же следует все расчесть. Поэтому я и спрашиваю: какими силами мы можем реально располагать?
– Тысяча штыков, а может быть, шесть тысяч, – назвал Рылеев.
Но наутро удалось поднять и не тысячу штыков, и не шесть тысяч, и вообще план восстания во всех его пунктах оказался неосуществлен, что многие еще предчувствовали накануне, недаром Александр Одоевский с упоением восклицал:
– Ах, как мы погибнем, как славно мы погибнем!
Надо полагать, наиболее дальновидные из вождей грядущего мятежа не только предчувствовали, но и предвидели неуспех, так как, помимо методической неподготовленности выступления, было еще очевидно то, что завтра на Сенатскую площадь выйдет главным образом дюжинный боец, то есть в российской вариации боец по-своему беззаветный, но несамодеятельный, сомневающийся, добродушный, нервно-горячий, безначальный и одновременно началолюбивый, а это не самый надежный инструмент для политических переворотов. Однако отступать было некуда: слишком гнетущим было чувство личной ответственности перед отечественной историей, почему-то малознакомое современному человеку, слишком много решительных шагов было сделано до порога 14 декабря, чтобы не отважиться на последний. Это как раз понятно.
Непонятно другое: в силу какой потаенной логики к решению исторических судеб были привлечены сотни посторонних людей, которые в воскресенье ни сном ни духом не помышляли о том, что в понедельник они станут участниками одного из самых заветных событий в биографии российского государства и по доброй воле вряд ли согласились бы даже на косвенное участие? То ли тут разыгралась обыкновенная цепная реакция, то ли история почему-то не может обойтись без невинных жертв, то ли в принципе потребительски распоряжается человеком, то ли она нуждается в каком-то специальном бессознательном материале, то ли она действует по отношению к человеку в некотором роде на манер пушкинской капитанши Василисы Егоровны, которая разбирала, кто прав, кто виноват, и наказывала обоих; хотя, может быть, вопрос стоит так: живешь – значит, творец истории, живешь – стало быть, отвечай. Но как бы там ни было, в ночь с того воскресенья на понедельник множество людей мирно сопело в своих постелях, не подозревая о том, что вскоре их возьмет в оборот диалектика исторического движения, опосредованная несколькими десятками отчаянных парней, которые представляли собой все самое порядочное, чем только располагала Россия к утру 14 декабря 1825 года. Не подозревал об этом прапорщик Дашкевич, юноша с лицом восточной красавицы, который происходил из семьи белорусского мещанина, но выбился не только в младшие офицеры, а волей случая и в любовники знаменитой Лолиты Монтес, подружки прусского короля, за что Николай I впоследствии разжаловал его в рядовые. Не подозревал об утренних потрясениях и рейткнехт конной гвардии Лондырь, в свое время сбежавший от барина, путешествовавшего по Италии, и промышлявший на чужбине исполнением русских народных песен под самодельную балалайку; товарищам по полку Лондырь рассказывал, что в монархической Италии хорошо – пой где хочешь, а в Швейцарии сплошные республиканские притеснения. Покойно спал у себя на квартире во 2-м Подьяческом переулке, где жили преимущественно шарманщики-итальянцы, синодский чиновник Ниточкин, который был настолько далек от веяний современности, что знал Пушкина только как автора игривых стихов и текстов к популярным романсам, Рылеева – только как секунданта бедняги Чернова, а Париж называл любимым местопребыванием дьявола. Беспечно кутил в гостинице «Лондон» конно-пионерный унтер Егор Казимирович Мейендорф, который начинал кавказскую кампанию фейерверкером, но попал в плен к горцам, а затем как-то очутился в Бухарском ханстве; тут как раз зарождалась собственная артиллерия, на первых порах состоявшая из двенадцати разнокалиберных пушек, и поскольку Егор Казимирович оказался единственным на все ханство специалистом в этой военной области, его назначили командиром бухарской артиллерии и отправили воевать; некоторое время спустя Егор Казимирович провинился перед ханом, отказавшись открыть огонь по киргизам Большого Жуза, которые были подданными Российской империи, и в наказание его продали в рабство бухарскому куш-беги, то есть премьер-министру; по этому поводу Егор Казимирович крепко выпил: сочинив из ячменя кувшин самогона, он набрался до такой степени, что залез на минарет и пропел спящему городу модный польский, начинавшийся словами: «Александр, Елизавета – восхищаете вы нас…»; за этот проступок он был приговорен к смертной казни через повешенье, но, когда дело дошло уже до Регистана и стояния в виду петли, ему посулили помилование, если он перейдет в ислам; Егор Казимирович отказался, объявив, что он желает пострадать за веру, но его все-таки не повесили, потому что не на кого было оставить ханскую артиллерию; впоследствии Егор Казимирович благополучно бежал, в двадцать втором году добрался до Петербурга, поступил на службу в конно-пионерный эскадрон, дослужился до унтер-офицера и теперь беспечно кутил с земляками, приехавшими в столицу продать пеньку. Крепко спал на лавке близ холодного нужника Василий Давыдович Патрикеев, крепостной человек князя Гагарина, поначалу отданный в приданое старшей княжне, потом заложенный в ломбард, потом, уже женатым мужчиной, проигранный в стуколку, потом променянный на борзую собаку, потом проданный с молотка вместе с мелкой домашней утварью на Макарьевской ярмарке в Нижнем Новгороде, потом сосланный в Сибирь за связь с малолетней птичницей, потом купленный в Сибири чиновником для особых поручений при губернаторе, перекупленный ревизором из Петербурга и, наконец, нечаянно выменянный первым хозяином за новый лепажевский пистолет; для полноты биографической справки нужно добавить, что Василий Давыдович знал три языка, так как в отрочестве присутствовал при обучении барчуков, чтобы по обычаю того времени принимать за них оплеухи, когда они манкировали или делали грамматические ошибки. Также беспечно спали: полковник Граббе-Горский, которому судьба назначила на понедельник роль необыкновенную, Михаил Глебов, коллежский секретарь и наследник шести сотен душ в Пензенской губернии, который в субботу чуть было не угодил под лошадь ломовика и поэтому решил в понедельник пожертвовать десять рублей на бедных, Александр Луцкий, унтер-офицер лейб-гвардии Московского полка, который накануне проиграл в фараон месячное содержание, и еще много разных людей, которые ни сном ни духом не помышляли о том, что наутро им суждено стать участниками одного из самых заветных событий в биографии российского государства.
Тем временем хозяева судеб, то есть вожди тайного общества, бодрствовали каждый на свой манер. Трубецкой, сидя у камина, раскладывал королевский пасьянс, Оболенский всю ночь писал письма, Рылеев ходил из угла в угол в своем кабинете, кашлял и нервно прислушивался к звукам, изредка залетавшим с улицы и двора; на душе у него было так мучительно и одновременно торжественно-тревожно, как, наверно, бывает у слегка верующих людей накануне смерти. В сенях хлопнула дверь: Рылеев вздрогнул и насторожился, но в следующее мгновение узнал Оболенского по привычке немного пришаркивать при ходьбе.
– Господи, совершенно нечем дышать, – сказал Оболенский, входя в кабинет и потирая с морозца руки. – По крайней мере хоть форточку отворите.
Рылеев указал пальцем на свое горло.
– Вы в экипаже? – спросил Рылеев после непродолжительного молчания.
– Нет, верхом, – ответил Оболенский и сел на стул.
Минут через пять в кабинет вошел барон Штейнгель, дописывавший в гостиной манифест об упразднении самовластья.
– Ну что там у вас? – обратился к нему Рылеев.
– Почти готово, – сказал Штейнгель, кивнул Оболенскому и тоже присел на стул. – Есть несколько не совсем ловких оборотов, но в общем, кажется, ничего.
Наступила долгая пауза: Рылеев продолжал бродить из угла в угол, Оболенский убито глядел в одну точку, Штейнгель рассматривал свои ногти; в гостиной громко тикали настенные часы и сами собой поскрипывали половицы.
– Однако пора ехать, – сказал Оболенский, – совсем уже утро.
– С богом, – сказал Рылеев.
Был шестой час утра. За окнами стояла мглистая темень, из которой уже изредка доносилось противное пение полозьев и фырканье лошадей.
В этот час первый отступник Александр Якубович окончательно решил уклониться от назначенной ему роли. Промучавшись всю ночь у себя на квартире в Гороховой улице, он еще затемно явился к Александру Бестужеву, жившему в одном доме с Рылеевым, выпил четыре стакана чаю и вдруг ни с того ни с сего завел:
– Я давно замечаю Рылеева, что он всех тонко склоняет к неистовым действиям, а сам предпочитает быть в стороне. Если он полагает меня кинжалом, то как бы он сам часом не укололся.
– О чем это вы? – равнодушно спросил Бестужев.
– А о том, что я готов собою жертвовать ради отечества, но ступенькой ему или кому другому не лягу! Как хотите, но убивать государя я решительно не пойду!
– И не ходите, – согласился Бестужев. – Это вовсе не нужно.
– Да, но что на это скажет Рылеев?!
– Это я беру на себя. Так и объявлю ему, что цареубийство есть шаг, сулящий слишком неожиданные последствия и могущий вызвать нежелательные поползновения в простонародье. Каховский вон тоже колеблется: убивать императора или не убивать. Словом, будьте вместе со всеми на площади, вот и все.
Это был первый неожиданный поворот, и Александр Бестужев решил немедленно уведомить товарищей об отказе Якубовича и Каховского от запланированного убийства, хотя сам этот пункт плана изначально не одобрял. Через четверть часа он уже был у Рылеева, где к тому времени собрались многие композиторы мятежа, мрачные и тихие, как с похмелья. Рылеев принял новость насупившись, но смолчал, как если бы ему заранее было известно, что так именно и случится. Князь Трубецкой, явившийся чуть позже, в седьмом часу утра, встретил известие об отступничестве Каховского с Якубовичем неожиданно, даже странно:
– Очень хорошо, – с облегчением сказал он.
– Помилуйте, князь, что ж тут хорошего?! – воскликнул Рылеев.
Диктатор не ответил. Он еще немного посидел, задумчиво барабаня тонкими пальцами по столешнице, и уехал.
– Не надо было назначать выступление на понедельник, вот что я вам скажу, – сердито заметил Штейнгель, проводив диктатора долгим взглядом. – Кто же в понедельник начинает значительные дела?! Крестьянин в понедельник и за дровами в лес не поедет!
– Но какой жук оказался наш кавказский герой! – предложил Рылеев иную тему, но его почему-то не поддержали.
За перегородкой тонко заплакала рылеевская девочка.
– Дай-ка я тебе, Кондратий, повязку переменю, – сказал Николай Бестужев и стал менять хозяину сбившуюся повязку, но при этом нечаянно задел ранку от поставленной давеча шпанской мушки.
Рылеев вскрикнул.
– Как тебе не стыдно быть таким малодушным! – выговорил ему Николай Бестужев. – Что же кричать от одного прикосновения, когда ты знаешь, к чему тебе до2лжно приучать свою шею…
Чтобы сгладить тяжелое впечатление, произведенное на всех этим выговором, Бестужев в заключение деланно рассмеялся.
– Не вижу в этом ничего сатирического, – сказал Рылеев не своим голосом.
Только он выговорился, как вошел Иван Пущин в распахнутой шубе, в цилиндре, надвинутом на глаза, и сообщил о новой измене: его брат Михаил отказывался вывести на площадь конно-пионерный эскадрон под предлогом обострения геморроя.
Рылеев вскочил со стула и, кусая ногти, заходил от конторки к шкапу; за спиной у него страшно болтался кусок повязки, недоконченной Бестужевым.
– Я этого ждал, – сказал он, остановившись посреди комнаты, и вдруг бодро сверкнул глазами. – Впрочем, еще не все потеряно, господа!
И в самом деле, исход выступления был еще не решен, несмотря даже на то, что сенаторы уже с полчаса как присягнули Николаю Павловичу и Сенат был пуст, так что стягивать к нему войска не имело смысла; но об этом пока знал один Трубецкой, который на пути от Рылеева встретил кое-кого из сенаторов, разъезжавшихся по домам, подумал, что план рухнул, восстание обречено, и решил на площадь не выходить. «Первое действие свободы», как величал надвигавшиеся события Кондратий Рылеев, только-только занималось в тот ранний час: только-только зашевелились казармы на Фонтанке, где квартировал корень гвардейского корпуса, и в первом батальоне измайловцев только-только поднялся шум.
– Это что же такое, господа воины?! – кричал унтер-офицер Остроумов, забравшийся на скамейку. – Этак заставят по два раза на дню присягать каждому заезжему принцу!
– Правильно, не желаем Николая! Да здравствует Константин!
– И Константина не желаем! Да здравствует представительное правление!
– Эх, что ни поп, то батька!
– Истинная правда! Кто сделает воинству послабление, тот и правь!
– А кто поперек встанет, можно и кровь пустить! А то какую моду взяли: возводить на российское простонародье такое варварское притеснение!..
Голоса тяжело разносились в огромных сводчатых коридорах и, соединяясь, производили такой дразнящий, будоражащий гул, что даже удивительно, отчего у измайловцев не произошло того, что произошло у московцев, которые от слов скоро перешли к делу: Щепин-Ростовский захватил полковое знамя, ранил саблей командира полка Фридерикса, бригадного генерала Шеншина и полковника Хвощинского, долго потом носившегося по плацу с криками «умираю!», а в ротах разобрали оружие, запаслись боевыми патронами и выстроились для похода. Около десяти часов утра бо2льшая часть лейб-гвардии Московского полка уже тронулась в сторону Сенатской площади под рокот барабанов и веселый писк флейт. У самых ворот казарм колонну повстречал рядовой первой гренадерской роты Иван Федоров, находившийся в суточном отпуску.
– Куда это вы, православные? – крикнул он, выпучивая глаза.
– Бунтовать, – ответили из колонны.
– Ой, врете! Что-то вы веселые больно – в баню небось ведут?
– В субботу мылись.
– Это одно; а другое, что бунт – дело праздничное.
– А на какой предмет бунт? – не отставал Федоров.
– На тот предмет, чтобы всем идти за границу, – ответил ему рядовой первой роты Тучков, однофамилец знаменитого генерала.
– Не слушай его, дурака, – сказал рядовой Красовский, у которого были забинтованы кисти рук. – Это мы начальство артельно идем кончать.
– Хорошее занятие! А что это, Андрюшка, у тебя руки в крови?
– Да вот их благородие, – Красовский кивнул в сторону Щепина-Ростовского, – тюкнул по пальцам, не разобрамшись, когда знамя у начальства начали вызволять. Так ты с нами, что ль, Ваня?
– Сейчас. Только сбегаю за ружьем.
Бегая за ружьем, Иван Федоров что-то замешкался и нагнал свой полк только при выходе из Гороховой.
В прочих гвардейских частях присяга прошла относительно гладко, включая преображенцев, на которых особенно рассчитывали композиторы мятежа, так как офицера генерального штаба Чевкина, явившегося для возмущения первого батальона, фельдфебель гренадерской роты посадил под арест в каптерку. Гренадеры было попытались ареста не допустить:
– Погодить бы, Петрович, – увещевали они фельдфебеля, – может, он дело говорит!..
Но Петрович стоял на своем:
– Да ну его! Говорит, говорит, а чего говорит – темно. Главная причина – барин. Пущай его посидит…
Но зато поутру готовились выступить финляндцы, расквартированные на Васильевском острове, егеря, гвардейский флотский экипаж и лейб-гренадеры, то есть, по переворотным меркам восемнадцатого столетия, сил для выступления собиралось более чем достаточно и, следовательно, исход дела был далеко еще не решен, несмотря на отступничество кое-кого из главных действующих лиц, переприсягу, принесенную сенаторами спозаранку, удручение и растерянность, распространившиеся среди вождей тайного общества, несмотря даже на то, что уже шел одиннадцатый час утра, а Сенатская площадь все еще пустовала, и по ней одиноко расхаживал Александр Одоевский, сменившийся с ночного дежурства, который то постукивал сапогом о сапог, то принимался насвистывать мотив из «Восстания в серале», то нервно покручивал тонкий ус. Во всяком случае, у противоправительственных сил к этому часу было не больше шансов на поражение, нежели на успех, и если бы они с примерно европейской энергией взяли бы, как говорится, быка за рога, то результат выступления мудрено было бы угадать. По крайней мере, с расстояния в сто шестьдесят лет вроде бы не видно таких непреодолимых преград и такого рокового стечения обстоятельств, которые безусловно обрекали бы восстание на провал. Все могло выйти совсем иначе.
В ту минуту, когда генерал Нейдгардт сообщил Николаю Павловичу о том, что взбунтовавшиеся московцы движутся на Сенат и что заводила всего возмущения – никому не известный Горсткин, лейб-гвардии Московский полк уже строился в каре поблизости от памятника Петру I, который слегка курился на ветру мельхиоровой снежной пылью. Погода в тот день стояла мглистая, зябкая, и, хотя с утра было не больше шести градусов мороза, московцы, явившиеся на площадь в одних мундирах, раскрасивших вид в красно-зеленые праздничные цвета, сразу запритоптывали ногами, и над каре весело зашевелилась целая роща ежиковых султанов.
Так как было уже известно, что сенаторы давно присягнули и разошлись, Пущин, Рылеев и Оболенский в задумчивости стояли неподалеку от устья Галерной улицы, переминались с ноги на ногу и молчали. Через некоторое время к ним подошел Щепин-Ростовский, кашлянул в кулак и спросил:
– Что же мы мешкаем, господа?
– А что прикажете делать?! – с раздражением переспросил его Оболенский. – Противника нет, диктатор как сквозь землю провалился, а господа сенаторы разъехались по домам…
– Это как раз не беда, – сказал, подходя, князь Одоевский и бодро заломил ус. – На одиннадцать часов во дворце назначен торжественный молебен по случаю восшествия Николая Павловича на престол – там всю компанию и возьмем!
– Дело хорошее, – согласился Рылеев, – да сил у нас маловато. Кроме того, распоряжаться помимо диктатора я на себя смелости не возьму.
– А я возьму! – с задорной злостью сказал Щепин-Ростовский. – Дайте мне роту солдат, и через час все будет кончено!
– Ах, делайте, что хотите, – согласился Рылеев. – Только с настоящей минуты ни вы нас не знаете, ни мы вас не знаем, ибо я чувствую, что без крови не обойдется, а это будет на нас пятно.
Щепин-Ростовский развернулся на каблуках и торопливо пошел к московцам. Через минуту над площадью уже разносились команды, сопровождаемые гулким, тревожным эхом, и вторая фузилерная рота, ведомая Щепиным-Ростовским, Одоевским и Александром Бестужевым, гремя ружьями, побежала в сторону Адмиралтейского бульвара, где темнели кучки первых заинтригованных горожан. Иван Пущин подумал-подумал и бросился вслед, придерживая цилиндр.
Тем временем император Николай Павлович, одетый в измайловский мундир с голубой Андреевской лентой через плечо, сидел на сафьяновой кушетке в будуаре своей супруги и все никак не мог выйти из того тяжкого оцепенения, в которое его вогнало известие о свершившемся мятеже. Ему было страшно; донельзя хотелось вдруг очутиться где-нибудь далеко-далеко, в какой-нибудь Нижней Саксонии, где живут добродушные бритые мужики, не имеющие никакого понятия о «красном петухе» и кулачной потехе, а офицерство на досуге только танцует и волочится; однако больше всего почему-то хотелось спрятаться под кровать. Между тем следовало послать в Миллионную за преображенцами, проверить, верны ли присяге финляндцы, заступившие в караул, приказать на всякий случай подать к заднему крыльцу экипажи, но оцепенение было настолько властным, что Николай Павлович даже не мог заставить себя подняться с кушетки и чуть пройтись.
В будуар заглянула мать, Мария Федоровна, и сказала на припадочной ноте:
– Il у a de bruit dessous![51]
Николай Павлович побледнел.
– Башуцкого сюда! – закричал он, требуя коменданта Зимнего дворца, но никто не отозвался, только эхо прокатилось по анфиладе.
Николай Павлович прислушался: внизу действительно гремели солдатские гамаши, явственно слышались голоса и еще тот отвратительно нервный шум, какой бывает, когда двигают мебель. Этот шум приближался, приближался, и Николай Павлович от жуткого ожидания начал теребить пальцы. Вдруг кто-то закричал совсем близко, закричал страшно, истошно, смертно. Николай Павлович встал, приосанился и уперся взглядом в резную дверь; не прошло и минуты, как створки ее распахнулись, и в будуар императрицы Александры Федоровны ворвались: Щепин-Ростовский, унтер-офицер Пивоваров – лейб-гренадер, и человек пять рядовых московцев.
– Quest-ce que vous faites ici?[52] – проговорил Николай Павлович, норовя скрыть испуг, и поэтому его лицо приобрело какое-то невзрослое выражение.
– Nous sommes venus, gйnйrale, de vous informer, que… que… que it est temps de partir…[53] – сказал Щепин-Ростовский и многозначительно посмотрел на унтера Пивоварова.