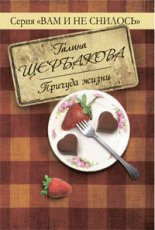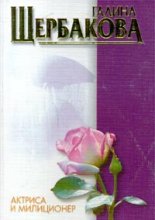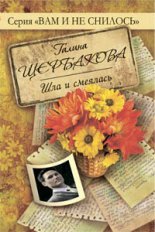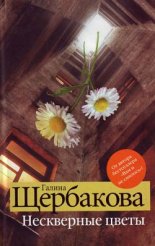Догадки (сборник) Пьецух Вячеслав

Пивоваров гакнул, напустил в глаза несколько искусственную, а потому особо страшную лютость и, резко взмахнув ружьем, всадил штык в грудь Николаю Павловичу, – император покачнулся и обомлел. Видимо, в первое мгновение он не почувствовал боли и всего смертного значения пивоваровского удара, так как он еще некоторое время сохранял на лице то же невзрослое выражение, однако затем лицо императора искривилось, точно он взял в рот что-то непереносимо кислое, а тело неприятно начало оседать и рухнуло на паркет, произведя какой-то вещевой стук. Унтер-офицер Пивоваров для верности пхнул штыком еще и в основание черепа, – Николай Павлович дернулся и примолк.
Наступила тишина; то есть почему-то показалось, что наступила тишина, так как в действительности шум стоял кругом невозможный: отовсюду слышался топот, лязганье, крики, выстрелы и еще какие-то непонятные звуки, которые трудно было к чему-нибудь отнести. Уже была заколота штыками старушка Мария Федоровна, уже до такой степени затоптали великого князя Михаила, что он представлял собою ворох кровавых тряпок, и молодая императрица Александра Федоровна, как ни бегала от московцев по дворцовым покоям с большой подушкой в руках, которой она норовила загородиться от вездесущих штыков, была застрелена возле дверей Петровского зала и мешковато валялась у стены, по-птичьи спрятав под себя голову. На всякий политический случай гвардейцы пощадили только цесаревича Александра Николаевича, и князь Одоевский для пущей сохранности носил его на руках.
К полудню все было кончено. Московец Красовский в пять минут первого подошел к Бестужеву и сделал под козырек.
– Ну что, Красовский? – спросил Бестужев.
– Готово дело! Как мы их, ваше благородие!.. Под корень, едрена мать!
– Куды, брат! – со вздохом сказал Бестужев. – Их еще за границей сколько!..
– Пустое, ваше благородие, – достанем и за границей!
Примерно за полчаса до этого разговора князь Одоевский запер в дворцовой церкви министров и весь гвардейский генералитет, дожидавшихся торжественного молебна, а сенаторов из тактических соображений выставил на мороз. Около этого времени ко дворцу подоспели лейб-гренадеры, которых привел поручик Сутгоф, и гвардии моряки. Мичман Дивов, увидев в толпе сенаторов, переминавшихся у подъезда, своего дядю, подошел к нему и сказал:
– Дядюшка, что это вы тут делаете?
– Да вот твои молодцы вытолкали взашей. Говорят: «Стой тут, старый боров!» Вы, сударь, Бога не боитесь!
Мичман, засмеявшись, обратился к Михаилу Бестужеву, который с десятком московцев присматривал за сенатом:
– Что же это такое, господин капитан? – сказал Дивов.
– А что? – спросил Бестужев, насторожась.
– Как что?! Ведь этак вы нам всех сенаторов переморозите! Кто тогда будет перепоручать нам верховную власть?
Бестужев было призадумался, но в эту минуту на крыльце появился князь Одоевский с цесаревичем на руках.
– Ну, как там? – спросил его Дивов.
– Пущин разговаривает с правительством на тот предмет, что не все коту масленица, есть и великий пост.
– И что же правительство?
– А что правительство?.. Помалкивает да кивает. Когда штык у горла, кобениться не с руки.
– Между прочим, господа, – сказал Михаил Бестужев, ласково глядя на цесаревича, – обратите внимание на наследника. Не сердятся, не хнычут и такой бравый вид!.. Молодцом, ваше императорское высочество, положительно молодцом!
Одоевский поправил на голове у Александра Николаевича соболью шапку и Андреевскую ленту, перепоясавшую мундирчик Измайловского полка. Наследник шмыгнул носом и испуганно улыбнулся.
– А этих господ, – Одоевский кивком указал на сенаторов, – ведите к Рылееву на Петровскую площадь. Пущай он им покажет кузькину мать!
– Кузькину мать!.. – повторил за ним цесаревич, и все вокруг покатились со смеху.
Московцы, окружив сенаторов цепью, погнали их через площадь к Адмиралтейскому бульвару, заполненному санкт-петербургским простонародьем; сенаторы шли понуро, путаясь в полах собольих шуб.
– Василий, голубчик, – напоследок крикнул племяннику сенатор Дивов, – коли дойдет дело до смертоубийства, уж ты выручи старика! Все-таки родной дядя!..
Ближайший московец немного пришпорил его штыком.
На Адмиралтейском бульваре было людно, шумно и весело, как на масленицу. Гудели шарманки, бабы лузгали семечки, вольно смеялись мастеровые, тут и там шапки летели вверх. Посреди бульвара, забравшись на сельдяную бочку, литератор Николай Греч зачитывал публике манифест об упразднении тирании, который был только что отпечатан в его собственной типографии. Чтение то и дело прерывалось криками «ура» и жизнерадостными репликами, сдобренными демократическим матерком. На Сенатской площади тоже было не протолкнуться: тут сошлась чуть ли не вся российская гвардия, которая на радостях только что не ходила на голове.
После того как сенаторов, запуганных всенародной вольницей и особенно компанией кавалергардов, шутки ради посулившей старикам эшафот, отконвоировали в Сенат и поместили в относительно небольшом зале, где стояла мраморная Фемида, Кондратий Рылеев выступил перед собранием с краткой речью; то ли оттого, что болело горло, то ли оттого, что слишком волнующим, высокоторжественным был момент, голос его звучал треснуто и неровно.
– Господа сенаторы! – начал он. – Сегодня сбылись вековые чаянья народа российского: наше отечество свободно! Час тому назад пала тирания Романовых, ибо никто из них после смерти императора Александра царствовать не пожелал, а единственный претендент на престол Николай Павлович покончил жизнь самоубийством, завещав народу самому избрать тот образ правления, который придется ему по нраву. Теперь от вас, господа сенаторы, зависит будущее счастье России!
В этом месте Рылеев сделал нарочную паузу: сенаторы хмуро молчали, и в тишине только стукнул об пол приклад ружья да прокашлялся кто-то из московцев, которые присутствовали в зале для демонстрации силы.
– Крепостное право, оскорбляющее звание русского, должно быть упразднено, – продолжил Рылеев. – Сословные привилегии также отменяются. Отныне держава будет управляться выборными из народа. Для сохранения спокойствия и порядка на первое время учреждается правительство из почтенных мужей, снискавших доверенность общества…
На этих словах Рылеев сильно закашлялся и кашлял так мучительно долго, что Михаил Бестужев взял у него манифест и понес по сенаторам, говоря:
– Подписывайте, подписывайте, господа, а то худо будет!
Сенаторы подписывали, крестясь, вздыхая и вытирая лысины фуляровыми платками.
Тем временем в столице творилось что-то необыкновенное: полицейские чины братались с извозчиками, франты в «американских», то есть прямых, фраках, выглядывавших из-под распахнутых шуб, прямо на улице распивали шампанское, угощая встречного-поперечного, купцы в предвкушении республиканских доходов отправились на Биржевую набережную пить пиво и есть устрицы прямо из бочек, бывший черный народ кое-где пытался под шумок разбивать кабаки, однако алчущих даровой выпивки разгоняли конногвардейские патрули, был убит генерал Милорадович, который прятался у молоденькой актрисы Телешовой, но, увидя в окно ватагу московцев, в сердцах обругал их «мерзавцами» и «похитителями власти», за что, также в сердцах, был застрелен рядовым Николаем Поветкиным, удавился из монархических чувств рейткнехт конной гвардии Лондырь, в Петропавловском соборе повыбрасывали из могил останки всех императоров за исключением Петра I, поскольку вдохновитель этой акции дворовой человек Василий Патрикеев объявил толпе, что «Петр был мужик», а из крепости, точнее из Алексеевского равелина, был выпущен единственный государственный преступник, писарь Никита Курочкин, сидевший еще по петровскому закону «О донесении про тех, кто запершись пишет, кроме учителей церковных, и о наказании тем, кто знали, кто запершись пишет, и о том не донесли», в Казанском соборе отслужили грандиозный благодарственный молебен по случаю упразднения тирании, во время которого было задавлено одиннадцать человек. Наутро в витринах лавок уже выставлялись литографированные портреты Кондратия Рылеева и князя Оболенского с цесаревичем на руках.
В Москве смена власти произошла несколько дней спустя. План московского выступления был донельзя прост, и в силу того, что самые простые планы как раз самые исполнимые, революция в первопрестольной свершилась тихо и энергично. В тот день, когда отставной штаб-ротмистр Ахтырского гусарского полка Николай Ожицкий привез в Москву новость о санкт-петербургской победе, а именно 17 декабря, Михаил Фонвизин, облачившись в генеральский мундир, около обеденного времени явился в Хамовнические казармы, собрал офицеров и, огласив перед ними известие о крушении монархии и гибели Николая, призвал к выступлению против властей московских; тотчас войска были подняты по тревоге и после непродолжительной свалки у одного из батальонных знамен, в ходе которой были убиты фельдфебель и два полковника, тронулись через Пречистенку, Кремль, Тверскую к дворцу московского генерал-губернатора князя Голицына, где теперь располагается Моссовет; генерал Орлов, поджидавший прибытия войск на нынешней Советской площади, выстроил роты лицом к фасаду генерал-губернаторского дворца и приказал дать для острастки залп, Якушин с Семеновым заняли канцелярию, а Муханов с Митьковым арестовали князя Голицына и на пару с корпусным командиром графом Толстым засадили его на кремлевскую гауптвахту.
В последних числах декабря совершилось восстание во 2-й армии. Вечером 25 декабря в Василькове, неподалеку от Киева, были получены сообщения о восстании в обеих столицах, и вождь южных республиканцев, подполковник Черниговского полка Сергей Муравьев-Апостол, несмотря на отсутствие другого вождя, полковника Павла Пестеля, арестованного еще тринадцатого числа, решил немедленно начинать. Поутру черниговцы выступили из Василькова на соединение с ахтырцами, алексопольцами и 17-м гренадерским полком, а соединившись, тронулись походом на Киев. Командование 2-й армией двинуло навстречу мятежным полкам 11 и 12 дивизии, усиленные частями Литовского корпуса, но в виду неприятеля правительственные войска взяли сторону революции.
Дальнейшие события должны были выстроиться приблизительно в следующем порядке… Месяца через три после победы декабрьской революции в Санкт-Петербурге, переименованном к тому времени в Петроград, собралось бы Народное вече, которое под давлением партии умеренных демократов во главе с Никитой Михайловичем Муравьевым приговорило бы конституционную монархию, и на российский престол был бы возведен малолетний Александр Николаевич в качестве эмблемы государственности и нации; действительную же власть прибрало бы к рукам Народное вече и назначенное им правительство, в которое могла войти и великая княгиня Елена Павловна, и историк Карамзин, и адмирал Мордвинов, и александровский законник Михаил Сперанский, и сразу несколько вождей декабрьской революции из наиболее властных и нетерпимых; Народное вече первым делом скостило бы срок службы в армии, упразднило цензуру и освободило крестьянство от крепостной зависимости, но, разумеется, без земли. Таким образом, уже на четвертом месяце революции армейскими деятелями, государственными мужами, литераторами и землевладельцами были бы учреждены предпосылки затяжного кровопролития, так как крестьянство в принципе не могло примириться с тем, что его мудреным и бессовестным образом обобрали, подсунув волю, которой не будешь сыт, и отняв наделы, без которых не мила никакая воля, так как партия крайних республиканцев во главе с полковником Пестелем не могла примириться с тем, что муравьисты обобрали народ, внесли в политическую жизнь слишком короткие перемены и оттерли от власти крайних республиканцев, так как цесаревич Константин, сидевший в Варшаве, не мог примириться с революцией вообще.
Логичнее будет предположить, что гражданскую войну начал бы Константин. Видимо, месяца за два, за три ему удалось бы сколотить солидную армию, усиленную польскими добровольцами и войсками прусского короля. Весною 1826 года армия Константина выступила бы походом на Петербург, но поскольку военные возможности революционной России были бы преимущественны, даже неисчерпаемы сравнительно с возможностями России контрреволюционной, и поскольку бунтарский народный дух всегда победительнее грубосохранительных настроений, армия цесаревича неизбежно была бы наголову разбита, и эта кампания завершилась бы тем, что Константина действительно заставили бы эмигрировать на Канарские острова.
По аналогии с прочими революциями дальнейшая политическая борьба скорее всего приобрела бы сугубо внутрипартийное направление. Она началась бы непримиримыми распрями между вождями Севера и вождями Юга, со временем вылилась бы в соперничество и завершилась если не прямым военным противоборством, то, во всяком случае, образованием двух или даже нескольких околодемократических государств.
Но не разгром белой армии цесаревича Константина и не внутренняя политическая борьба были бы самыми чреватыми эпизодами этой гипотетической эпохи, а Великая крестьянская война, которая закономерно вытекала из литературно-дворянского характера революции и которую задним числом сулил декабристам даже Федор Михайлович Достоевский, особо аккуратный в предсказаниях человек. Великая крестьянская война неизбежно должна была бы предопределить следующую историческую перспективу: по причине нескольких сотен спаленных усадеб, нескольких тысяч зарезанных помещиков, нескольких миллионов экспроприированных десятин, вообще хаоса и анархии на местах России потребовалась бы «сильная личность», то есть личность, способная пойти на любые политические и уголовные преступления ради установления желаемого порядка. Эта личность, которая вплоть до критического момента могла оставаться даже совершенно в тени, через некоторое время достигла бы безусловного единовластия, а так как в результате борьбы за желаемый порядок ни слева, ни справа не осталось бы сколько-нибудь серьезных помех для исторического самодурства, она в конце концов обязательно провозгласила бы себя императором всероссийским и, таким образом, вместо Романовых держава получила бы отечественного наполеончика, может быть, даже с какой-нибудь очень смешной фамилией. Итак, эта нафантазированная перспектива, возбужденная соображениями о возможных последствиях победы государственного переворота 14 декабря, логически венчается реставрацией самодержавия, возвращением тогдашней России, как говорится, на круги своя; хотя, конечно, и в случае реставрации самодержавия русская общественная и личная жизнь претерпела бы значительные изменения к лучшему, то есть не к лучшему, а по западноевропейскому образцу, что, в свою очередь, также повлекло бы разнообразные, но преимущественно странные перемены. Трудно предвидеть наверняка, даже наверное, и даже скорее всего дело повернулось бы как-то иначе, но отчего-то приходит на мысль, что в силу своевременной капитализации политики и хозяйства наши прапрапрадеды своевременно сделались бы отменными производителями и прилежными потребителями, живущими идеалами спроса и предложения, так что к началу следующего столетия русские люди отличались бы, положим, от немцев не больше, нежели немцы отличаются от французов, а между ними существует главным образом то отличие, что немец любит пиво, а француз разбавленное вино. И, стало быть: возможно, мы изобрели бы радио, а впоследствии телевидение, и это даже скорее всего, но наша история не знала бы трогательно-кровавого послуха народовольцев, слепого подвижничества пролетарских революционеров, вообще культуры самоотвержения ради будущего, и Первая мировая война, надо полагать, закончилась бы у нас не Великим октябрьским переворотом, а максимум широкими парламентскими дебатами; возможно, что в условиях социальной благопристойности Толстой был бы знаменитым военно-религиозным писателем, Достоевский – родоначальником жанра психологического детектива, а Чехов сочинял бы исключительно изящные анекдоты, вроде «Депутата, или Повести о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало»; словом, возможно, что мы не имели бы многого из того, что сегодня пронзительно дорого нашему сердцу, и не справили бы свою мировую духовную миссию, так как мы были бы для нее слишком буржуазно просты той самой простотой, которая хуже всякого воровства. А все почему? Все потому, что рано утром 14 декабря 1825 года предположительно князь Щепин-Ростовский проявил буйную инициативу и повел роту московцев на штурм дворца, вовремя подоспели лейб-гренадеры и гвардейские моряки, перетрусило правительство и сенаторы, а унтер-офицер Пивоваров, как говорится, ничтоже сумняшеся запорол штыком императора Николая.
Как известно, ничего этого не было; Щепин-Ростовский, Одоевский и Александр Бестужев, точно по обещанию, весь день простояли на Сенатской площади в рядах взбунтовавшейся части гвардии, унтер-офицер Пивоваров все время находился при полковом знамени, сенаторы и правительство благополучно отсиделись за усиленным караулом, лейб-гренадеры и гвардейские моряки подошли не к половине двенадцатого и не ко дворцу, а чуть ли не в сумерки и на площадь, потому что возмущение произошло у них не так бойко, как у московцев, а лейб-гренадеры даже пообедали, прежде чем выступить из казарм. И вот несмотря на то что государственные переворотчики прежних времен легко добивались успеха гораздо меньшими силами и почти без предварительной подготовки, несмотря на то что и декабристы имели, кажется, все возможности для победы, они потерпели досадное и вроде бы малопонятное поражение. Однако почему они его потерпели, это вопрос № 2; вопрос № 1 заключается в том, что коли восстание 14 декабря совершилось, то оно не только почему-нибудь, но и для чего-нибудь совершилось, и, значит, зачем-то понадобилось, чтобы оно закончилось именно поражением, иначе нужно будет признать, что история представляет собой бестолковую цепь событий, фантасмагорию случайностей, конструкция которых зависит от вздорных поступков и прихотей частных лиц, словом, историю ради истории, а на это мало похоже по всем статьям.
Как раз больше всего похоже на то, что история представляет собой продолжение природы в отрасли человека, а в природе, как уже примечалось, ничего не происходит случайно, зря. То есть, может быть, на поверхностный взгляд кое-что происходит случайно, зря, но только на поверхностный взгляд, поскольку даже самое причудливое или нелепое «кое-что» всегда предопределено предшествующим ходом событий, и, стало быть, это уже не случайно, а в дальнейшем оно непременно воздействует на промежуточный результат поступательного движения, именуемого прогрессом, и, значит, это уже не зря; причем не зря даже в том случае, когда «кое-что» влечет за собой следствия самые злостные, вопрекичеловеческие, ибо по той же причине, по какой нужно вконец измочалить больного, прежде чем его вылечишь, нужно вконец замучить историей род людской, просто, может быть, и другого пути-то нет, чтобы избавить его от дурости, кровожадности, жуликоватости и так далее. Посему это вовсе не удивительно, что человечеству понадобилось пройти через бог знает какие муки, пережить целую компанию политических бандитов, выдумать ядовитые газы, на языческий манер принести в жертву невесть чему целое созвездие мировых гениев, чтобы прийти было к очень простому, очевидно выгодному и элементарно справедливому общественному устройству, при котором, по крайней мере, никакой Иванов не имеет возможности обирать никакого Петрова на том основании, что Петров располагает только собственными руками, а Иванов еще шурупчиком и отверткой.
Итак, зачем все же понадобилось, чтобы 14 декабря 1825 года в Санкт-Петербурге на Сенатскую площадь вышли три тысячи вооруженных мужчин, простояли на площади дотемна, а потом рассеялись под огнем четырех полевых орудий? Для того чтобы сколько-нибудь основательно разобрать этот вроде бы наивный вопрос, зайти придется опять же издалека.
В результате даже шапочного знакомства с биографией человечества невольно приходишь к убеждению, что ход исторического развития преследует какую-то цель, что он определенным образом устремлен. Это предметно доказывается, например, тем, что, несмотря на капризные отступления, разные сумасбродства, окаянную привязанность к окольным путям – последнее, впрочем, не так уж предосудительно, если иметь в виду нашу пословицу «кто прямо ездит, дома не ночует», – человечество методически движется к вящему совершенству; другое весомое доказательство заключается в том, что люди задумывают одно, а выходит вечно совсем другое, как в случае с Петром I, который, укрепляя самодержавное государство, выпестовал предпосылки будущих потрясений. Видимо, нащупать цель истории можно только сообразуясь с общими законами природы, а в природе все сущее имеет целью самое себя, и, скажем, дерево растет, постепенно воплощаясь в совершенстве заданных форм, вовсе не для того, чтобы расти, давать тень, кормить плодами разную живность, а для того, чтобы воплотиться в совершенстве заданных форм. Следовательно, похоже на то, что конечная цель истории – человек, точнее, абсолютный или истинный человек, то есть единственную задачу оглушительно долгого общественного развития действительно составляет достижение высшего духовного облика для каждого предбудущего человека в отдельности и всего предбудущего человечества вообще. Очертить этот облик, опираясь на возможности современного, оптимального человека, который еще долго будет укладываться в формулу «я царь, я раб, я червь, я бог», даже предвосхитительно невозможно, поскольку не исключено, что он вберет в себя самые неожиданные или покуда несуществующие черты; но и сейчас очевидно: во всяком случае, ничто не заставит одного абсолютного человека пойти на другого абсолютного человека с винтовкой наперевес. Значит, история, с общей точки зрения, это часто даже беспорядочная последовательность событий, которые ни под каким видом не могут не произойти и которые однозначно обусловлены неизбежностью движения к цели природы – абсолютному человеку; причем энергия этой цели настолько значительна, что на путях ее достижения под общий знаменатель целесообразности подводится все, что случайно или закономерно работает и якобы не работает на нее, вплоть до полных наперекорностей, вроде кровопролития 1812 года, так как они неуклонно преобразуются в движения, сообразные с идеей абсолютного человека, вроде движения 14 декабря. Или еще такое, побочное, толкование: история, с другой стороны, есть действительно продолжение биологического развития человека (только не продолжение биологического развития, а продолжение биологического развития), то есть многотрудный процесс освобождения вида от изначальных животных свойств. Значит, история – это еще и скарлатина, корь, рахит человечества, и самостоятельное значение ее заключается единственно в том, что, так сказать, внутренняя цель истории есть самоупразднение через последовательное достижение таких общественных форм, при которых человеку удобнее и проще всего воплотиться в максимуме возможностей существа. Впрочем, история всегда и непосредственно работала на идею абсолютного человека, исподволь воспитывая его посредством институтов вынужденного и временного порядка, вроде науки, политики, искусства, которые недаром представляют собой не только орудия нравственного строительства, но и формы эксплуатации человеческих несовершенств.
Теперь логично будет предположить, что в соответствии с общей целью и каждый этап исторического марафона, даже каждое мало-мальски значительное событие в судьбах народов мира, прямо или косвенно целесообразны идее абсолютного человека; если они и не приближают нас к цели хотя бы на волосок, то, по крайней мере, созидают возможности для этого приближения, как было, положим, в случае с открытием электромагнитных волн, которые сами по себе, конечно, не имеют никакого отношения к счастью, но рожденное ими приспособление под названием радио, в частности, способно великой музыкой очеловечивать людей, сроду не видавших живьем валторны и контрабаса. Стало быть, на давешний наивный вопрос складывается следующий наивный ответ: 14 декабря 1825 года три тысячи вооруженных мужчин вышли на Сенатскую площадь в СанктПетербурге, простояли тут дотемна, а потом рассеялись под огнем четырех полевых орудии собственно для того, чтобы на волосок придвинуть русскую часть человечества к решению задачи абсолютного человека. Однако этот ответ неизбежно вызывает новый вопрос: дескать, где же тут самомалейшее приближение к конечной цели истории, когда три тысячи вооруженных мужчин, которых привело на Сенатскую площадь нравственное превосходство и политическая строптивость, не только не победили вроде бы закономерно обреченного противника своей цели, но и палец о палец не ударили, чтобы этого противника победить? Первое, что приходит на ум: «не всякое лыко в строку»; второе, что приходит на ум: и уклончивое движение по столбовому пути истории, и просто стояние на этом пути, и даже сопротивление закононаправленному движению в конечном итоге суть работа на его цель, ибо всякое движение есть продукт сотрудничества разнонаправленных сил, очевидное на примере автомобиля: давление газа в цилиндре направлено во все стороны – рабочий ход поршня в одну, вращение вала в другую, колесо вперед, а дорога назад. И последнее, что приходит на ум: возможно, три тысячи вооруженных мужчин не победили даже не потому, что перед ними стояли совсем иные исторические задачи, выходящие далеко за пределы таких поверхностных механических понятий, как «победа» и «поражение», может быть, восстание 14 декабря было бы исторически насущно даже в том случае, если всего-навсего потребовалось убедить какую-то светлую голову: политика такая же специальность, как медицина. Словом, больше всего похоже на правду то, что всеобщее значение событий 1825 года простиралось за рамки непосредственных результатов, скажем, таких как «победа», поскольку идея исторического развития России в девятнадцатом веке, с одной стороны, по-видимому, не предусматривала парламентизации, гражданской войны, Великой крестьянской войны и восстановления самовластья. С другой стороны, эта идея, возможно, не предусматривала своевременной капитализации русской жизни, так как именно всеугнетенная, всебедная, всестраждущая Россия, как никакая другая земля планеты, была приспособлена для исполнения любой специальной духовной миссии, хоть миссии совести человечества, а самые гуманистические побуждения, как известно, являются натощак. То же самое относительно «поражения»: в силу того, что в истории ничего не совершается зря, а восстание 1825 года совершилось, то, значит, это уже не поражение, а победа. Но что же это за сила и откуда берется такая сила, которая все на свете подчиняет неукоснительному движению к своей цели? Ответ на этот чрезвычайно важный вопрос может быть крайне прост: эта всепобедительная сила заключается в человеке. Хотя такой ответ далеко еще не ответ, все перпендикулярные ему соображения неизбежно будут или логически небезупречны, или более-менее религиозны, поскольку каждому ясно следующее: история есть потому, что есть человек, как электричество со всеми его законами существует исключительно в силу того, что на известном уровне природа строится из микрочастиц, которые способны к движению, называемому электричеством. Стало быть, сколько-нибудь достоверно ответить на вопрос, каково происхождение силы, неуклонно ведущей человечество к идее абсолютного человека, значит опять же взглянуть на историю в ракурсе взаимодействия личностей, упростить общественное движение до уровня человека – его воли, побуждения и поступка.
Для этого придется еще раз вернуться к той минуте, когда генерал Нейдгардт сообщил Николаю Павловичу о том, что восставший Московский полк движется на Сенат и что заводила всего возмущенья какой-то Горсткин.
Часть третья
Сообщение о начавшемся восстании, полученное в одиннадцатом часу утра, Николая Павловича потрясло, и это кажется странным, малопонятным, поскольку молодой император знал, что оно готовится и предопределено, как астрономические пути. По той причине, что при особо опасных стечениях обстоятельств даже вполне взрослых людей тянет схватиться за родительский подол, Николай Павлович первым делом поделился страшным известием со своей матерью, а та, по женскому обыкновению, полетела делиться со всем дворцом. Первой ей попалась молодая императрица, которая прихорашивалась у себя в будуаре к торжественному молебну.
– Pas de tiolett, mon enfant, il’y a partout dйsordr et revolution![54]
Александре Федоровне стало дурно.
Тем временем Николай Павлович, одетый в измайловский мундир с голубой Андреевской лентой через плечо, уже спускался по лестнице, ведущей на дворцовую гауптвахту, и, не зная хорошенько, что именно сейчас следует предпринять, отдавал пестрой свите неотчетливые и немного панические распоряжения.
В караул заступала девятая егерская рота лейб-гвардии Финляндского полка, которая только-только построилась во дворе.
– Здорово, ребята! – крикнул Николай Павлович на зыбкой, несмелой ноте.
– Здравия желаем, ваше императорское величество! – грянули финляндцы, выдохнув большое облако пара.
– Присягали?!
Унтер-офицер, стоявший на правом фланге, сделал каменное лицо и сказал:
– Так точно, ваше императорское величество, присягали!
– Хорошо! А теперь, ребята, надо показать верность на самом деле. Московские шалят! Не перенимать у них, а делать свое дело молодцами!
– Рады стараться, ваше императорское величество! – грянули финляндцы и напустили еще одно облако пара.
Николай Павлович бодро заломил треуголку с белым петушиным султаном и повел егерей к главным воротам дворца, дабы прежде всего обезопасить собственную резиденцию; по дороге ему встретился раненый полковник Хвощинский, которому было велено немедленно удалиться, чтобы не наводить паники своим видом. Блокировав входы в Зимний дворец, Николай Павлович послал по полкам с приказом явиться на Сенатскую площадь, затем велел на случай бегства подать к заднему крыльцу экипажи, затем командировал гонца в Миллионную за преображенцами, наказав им сосредоточиться у дворца, вообще в первые же минуты продемонстрировал много больше решительности и проворства, чем вожди разгоравшегося восстания. В конце концов Николай Павлович даже решился выйти к народу, столпившемуся примерно в том месте, где семь лет спустя была воздвигнута Александровская колонна; подойдя к толпе, состоявшей из нескольких десятков мещан, Николай Павлович строго глянул на передовых и сказал:
– Господа!..
На том он осекся, так как другие слова не шли. Наступила неприятная пауза, и, чтобы как-то выйти из положения, Николай Павлович выхватил у скорняка Ветродуева экземпляр манифеста о восшествии на престол и начал его читать. Дойдя примерно до середины, он углядел уголками глаз подходивших преображенцев и, крепко поцеловав Черниговской губернии Суражского уезда села Клинцова обывателя Луку Чеснокова, ринулся им навстречу. С Сенатской площади уже долетало «ура» московцев и нестройные выстрелы, похожие на скупые аплодисменты.
Появился генерал-губернатор Милорадович при полном параде, то есть при ленте, шарфе с кистями и орденах; от губернатора тонко потягивало спиртным, поскольку, несмотря на смятение в подведомственной столице, он не смог отказать себе в удовольствии забежать к молоденькой балерине Екатерине Телешовой на кулебяку.
– Селя ва маль, сир! – сказал Милорадович, прикладывая два пальца к заломленной треуголке. – Иль з антур ле монюман. Же вэ ле парле. Вотр мажесте, а тут азар пермете муа д’эксприме ма волонте дерниер[55]: ежели я умру, завещаю волю всем моим крепостным!
Николаю Павловичу не понравился этот неуместный либерализм, равно как и тонкий запах спиртного, и в ответ он немного нахмурил брови. Милорадович принял эту мимику за «добро» и пошел навстречу смерти, криво, но прочно ставя ботфорты, из-под которых вылетали грязные комья снега, смахивающие на пену, какая образуется у стоков после дождя.
Некоторое время спустя Николай Павлович отважился посетить Сенатскую площадь, так как и положение обязывало его быть, что называется, в гуще событий, и донесения о происходящем на площади отличались сбивчивостью, разноречивостью и акцентом на мелочах. Выдвинув вперед фузилерные роты преображенцев, молодой император вскочил в седло и шагом тронулся в сторону Адмиралтейского бульвара, то и дело придерживая коня. С легкой руки генерал-губернатора Милорадовича на него вдруг напало предчувствие смерти, и он подвигался навстречу Сенатской площади крайне медленно, неохотно, как говорится, через душу, и оттого несколько раз останавливал преображенцев на пятиминутном пути то затем, чтобы приказать зарядить ружья боевыми патронами, то затем, чтобы пожаловать полку александровский вензель на эполеты, то затем, чтобы обратиться к народу с речью; речь Николаю Павловичу, впрочем, не удалась, поскольку не успел он сказать и двух слов, как кто-то крикнул ему из толпы, вознеся над головой, как знамя, матерые кулаки:
– Поди сюда, самозванец, немецкая морда, мы тебе покажем, как замахиваться на чужое!
Когда император появился на углу Адмиралтейского бульвара и Сенатской площади, он застал еще довольно отчетливую картину: посреди площади, левым флангом примыкая к заиндевевшему памятнику Петру I, который бледнел вдалеке как конное привидение, стояла красно-зеленая стена московцев, тут и там волновались толпы заинтригованных горожан, дававших серое с черным, справа шинельно темнела императорская пехота; несмотря на относительное безветрие, совсем низко над площадью резво бежали сизые облака; было зябко, немного сыро, и воздух стоял такой ясно-прозрачный, что глаза смотрели пронзительно, как насквозь. Но часа полтора спустя, когда на площади прогоркло запахло пороховым дымом, когда подвалило народа, перемешавшегося с войсками, неизвестно зачем явился чуть ли не весь дипломатический корпус, когда конногвардейцы встали напротив московцев со стороны Адмиралтейства, в том месте, где теперь разбита детская площадка, и Петровской набережной, кавалергарды у дома князя Лобанова, семеновцы построились возле манежа, павловцы заняли Галерную улицу, а финляндцы под командой генерала Головина, который все потерянно вопрошал: «Да что же это такое происходит?! Да какого мы ожидаем неприятеля?!» – блокировали Исаакиевский мост, и, таким образом, полностью завершилось окружение одиноких московцев, картина переменилась в сторону усложнения: площадь и окрестности наполнились всеми мыслимыми цветами, колонны войск путались и толкались, отовсюду слышались команды, отдаваемые надрывными голосами, снежки, летевшие из толпы, глухо стукались о кирасы, то и дело раздавались выстрелы, улюлюканье и «ура»; между тем дело шло к сумеркам, и заметно похолодало.
Около трех часов пополудни, после того, как на Сенатской площади и в округе сосредоточилось более чем достаточное количество войск, Николай Павлович перекрестился на петропавловский шпиль и приказал конногвардейцам атаковать.
– За Бога и царя марш-марш! – закричал генерал Алексей Орлов, которого много лет спустя постигло мудреное психическое заболевание: генерал вообразил себя какой-то домашней скотиной и до конца своих дней передвигался на четвереньках.
Конногвардейцы, как бы мы сейчас выразились, без огонька тронулись в атаку, но по той причине, что московцы встретили их прицельной пальбой, оттого, что палаши были не отпущены и, следовательно, бесполезны, а лошади по недосмотру не подкованы на шипы, скоро смешались и повернули назад.
После первой неудачной атаки Алексей Орлов подъехал к Николаю Павловичу и приложил пальцы к каске.
– В чем дело, генерал? – спросил его император.
– Отбиты, государь!
– Вижу, что отбиты; я спрашиваю, почему?
– Лошади подкованы не по-зимнему.
– Ну конечно! – с досадой сказал Николай Павлович. – На охоту ехать – собак кормить!
Так как толку от кавалерии не предвиделось, император послал за орудиями начальника гвардейской артиллерии генерала Ивана Онуфриевича Сухозанета. Генерал прихватил первую попавшуюся легкую батарею и галопом повел ее через Литейную, Цепной мост, мимо дома Апраксиной, Павловских казарм и так далее. Неподалеку от Мраморного переулка батарея столкнулась с лейб-гренадерами, которые куда-то бежали за поручиком Николаем Пановым, и, перепугавшись, генерал подал команду остановиться. Батарея встала, артиллеристы начали оправляться, но лейб-гренадеры, не обращая на них внимания, бежали своей дорогой, и Сухозанет быстро пришел в себя: он указал рукой на Панова и закричал:
– Страмитесь, ребята, идете за этой рожей!
Команда Панова пропустила эти слова, как говорится, мимо ушей, и только один из лейб-гренадеров, немного призадержавшись, ответил Сухозанету таким кровожадным взглядом, что генеральская лошадь дернулась и попятилась в сторону Мраморного переулка.
Когда батарея подошла на Сенатскую площадь, орудия были сняты с передков и повернуты против восставших – одно у конногвардейского манежа, а три перед Преображенским полком, наискосок от дома князя Лобанова, – то оказалось, что нет боевых зарядов. Пришлось послать за ними в артиллерийскую лабораторию поручика Философова; Философов прискакал туда минут через пять, однако начальник лаборатории полковник Челяев наотрез отказался выдать ему боевые заряды без письменного приказа, и только после того, как поручик пригрозил взломать двери склада, ему был выдан боекомплект. Но тут оказалось, что его не на чем довезти. В конце концов Философов вынужден был частным образом подрядить три извозчика, и в результате почти часовой мороки заряды прибыли в батарею, когда силы восставших уже учетверились за счет лейб-гренадерского полка и гвардейского флотского экипажа.
Командир батареи штабс-капитан Бакунин приказал зарядить пушки картечью и вопросительно посмотрел на императора, который монументально сидел в седле поблизости от второго батальона преображенцев.
– Пальба орудиями по порядку, – тихо, задумчиво скомандовал Николай Павлович. – С правого фланга… первая: пали!
Фейерверкер, стоявший у первого орудия, побледнел, но не шелохнулся…
До той минуты, когда на Сенатской площади загрохотали орудия и картечь, поднявшая фонтанчики снежной пыли, рикошетом застучала в стены Сената, по нашу сторону баррикад события развивались следующим порядком: московцы пришли и встали; Рылеев некоторое время маячил возле каре, а потом исчез и уже больше не появлялся; Александр Бестужев в отлично вычищенном мундире и в кивере, надвинутом на глаза, демонстративно точил свою саблю о постамент «медного всадника»; московцы из третьей роты, стоявшие в оцеплении, побили прикладами полковника Бибикова; в начале одиннадцатого часа, когда возле каре собралась уже порядочная толпа, на площадь завернул артиллерийский офицер граф Граббе-Горский, основательно подвыпивший по случаю присяги, и отчасти из-за артиллерийской удали, отчасти под воздействием винных паров начал отдавать московцам невразумительные команды, вследствие чего он был потом сослан в каторжные работы, а утром четырнадцатого числа под прозванием «какого-то Горсткина» прослыл главным зачинщиком мятежа; унтер-офицер Александр Луцкий в ответ на вопрос генерал-губернатора Милорадовича: «А ты, мальчишка, что тут делаешь?» – назвал его «изменником», был за это приговорен к двенадцати годам каторги, единственный из всех декабристов пошел в Сибирь с уголовниками, этапом, дважды бежал, попал на Нерчинские рудники, где его нещадно били кнутом и приковали цепями к тачке, но благополучно дожил до 1882 года, продержавшись много дольше своих мучителей, нарожал детей и дождался внуков, один из которых, именно Алексей, примкнул к большевикам и вместе с Лазо был сожжен белобандитами в паровозной топке; Якубович, который потом в Сибири открыл мыловаренный завод, бродил поперек площади от восставших к благонамеренным и выдавал себя за своего по обе стороны баррикад; коллежский секретарь Михаил Глебов, возвращавшийся из присутствия, пожалел продрогших московцев и пожертвовал им десять рублей на водку, за что впоследствии тоже дорого поплатился; за полдень Петр Каховский, явившийся на площадь в лиловом сюртуке и цилиндре, усеченном под цветочный горшок, застрелил из пистолета генерал-губернатора Милорадовича, который усердно убеждал солдат сдаться. По одним сведениям, Милорадович сказал перед смертью пошлость, а именно: «Смерть – неприятная необходимость», а по другим: «Страм какой, от родной руки помирать», то есть какие-то притягательные слова; тем временем диктатор князь Трубецкой, который около полудня выглядывал на площадь из-за угла конногвардейского манежа, возбужденный и потерянный, ездил из дома в дом, везде производя такое странное впечатление, что графиня Салтыкова сказала о нем: «А князь-то, кажется, с винтиком»; актер Борецкий, по амплуа «благородный отец», запустил поленом в рейткнехта Лондыря и высадил ему глаз. Около двух часов к восставшим присоединился Лев Сергеевич Пушкин, беспутный брат великого Александра, примерил палаш, отбитый у полицейского, и ушел; между ефрейтором третьей роты Любимовым и Михаилом Бестужевым произошел следующий разговор:
– Что, Любимов, – сказал Бестужев, – мечтаешь о своей молодой жене?
– До жены ли теперь, ваше благородие! Я вот все развожу умом, для чего мы стоим на одном месте? Поглядите: солнце на закате, ноги застыли от стоянки, руки окоченели, а мы все ни «тпру», ни «ну».
– Как ты, Любимов, не понимаешь: прежде сил надобно накопить!
– Нет, ваше благородие, проку тут не предвидится. Вот и связывайся после этого с господами!
У толпы выискался собственный предводитель, по справкам, Василий Давидович Патрикеев, крепостной человек князя Гагарина, который провозгласил себя законным сыном императора Павла I и, влезши на груду камней, сваленных неподалеку от Исаакиевского моста, начал призывать к истреблению белой кости; митрополита Серафима, тщедушного старичка, посланного уговорить московцев не проливать братской крови, прогнали со словами:
– Полно, батюшка, чепуху-то молоть, не прежняя пора нас дурачить в угоду барам!
Прапорщик Дашкевич, юноша с лицом восточной красавицы, отбил у мастеровых секретаря прусского представительства, когда того уже было начали раздевать, и впоследствии через него как раз и вышел на красавицу Лолиту Монтес – вот уж действительно, кому война, а кому мать родна; ближе к сумеркам на Сенатскую площадь под громовое «ура» московцев пришла третья фузилерная рота лейб-гренадеров, ведомая поручиком Александром Сутгофом, который после возвращения из Сибири заведовал в Москве фехтовальной школой, то есть кончил тем, с чего начинал Спартак, – а за ними основные силы лейб-гренадеров, гвардейские моряки, и вот уже около трех тысяч вооруженных мужчин образовали два огромных, темных, слегка шевелящихся прямоугольника, время от времени вспыхивавших оранжевыми искрами выстрелов, похожих на электрические разряды; Вильгельм Кюхельбекер со стеклышком в глазу – в ту пору была мода на близорукость – говорил мичману Александру Беляеву, который после амнистии пятьдесят шестого года стал агентом пароходного общества «Кавказ и Меркурий»:
– Мне ужасно не нравятся русские грамматические термины. Ну почему именно «существительное», «прилагательное», «местоимение»? Про «падеж» я уже не говорю. Что тут падает? Есть ли тут какая-нибудь хоть слабая идея о падении чего бы то ни было?..
Александр Бестужев, стоявший неподалеку, послушал его, послушал и ссыпал в снег порох с полки кюхельбекерского пистолета, чтобы он по рассеянности не пристрелил кого-нибудь из своих. Поскольку Трубецкой безнадежно пропал, диктатором выбрали Оболенского, который к концу жизни сделался безоговорочным монархистом; тем временем продолжались кавалерийские атаки, и на снегу, кое-где уже запятнанном кровью, темнели разбросавшиеся тела, в частности тело бухарского артиллериста Егора Казимировича Мейендорфа; наконец, в стане восставших увидели, как к углу дома князя Лобанова подкатила легкая батарея…
– Ну, держись, православные, – сказал унтер-офицер Пивоваров, стоявший у знамени лейб-гренадерского полка, и хмуро подмигнул роте. – Сейчас они нам покажут, где раки зимуют!
Но орудия бездействовали еще долго, и только после того, как поручик Философов привез заряды, Николай Павлович отдал свою тихую, задумчивую команду:
– Пальба орудиями по порядку. С правого фланга… первая: пали!
Фейерверкер, стоявший у первого орудия, побледнел, но не шелохнулся.
– Первая: пали! – закричал штабс-капитан Бакунин. – Ты что не стреляешь, морда?!
– Свои, ваше благородие, как можно! – спокойно сказал ему фейерверкер.
Бакунин вырвал у него из руки фитиль и приложил тлеющий огонек к отверстию казенной части: орудие грохнуло. Звук выстрела, тяжело ударившись о громадные здания, вырвался на невский простор, картечь, поднявшая фонтанчики снежной пыли, рикошетом застучала в стены Сената, зазвенело выбитое стекло.
– Ничего, – сказал Николай Павлович, – артиллерия заставит их раскаяться в дерзости!..
Ударили остальные орудия, и когда грохот выстрелов, вызвавший долгое эхо, смолк, со стороны восставших долетел пронзительный крик:
– Sauve qui peut!..[56]
И с той стороны все бросились врассыпную, хотя солдаты не ведали французского языка.
Синодо-сенатская сторона площади опустела, и на истоптанном пространстве осталось лежать 17 обер-офицеров, 282 нижних чина, 39 человек во фраках и шинелях – среди них, между прочим, синодский чиновник Ниточкин, который не во благовременье выглянул в окошко, был ранен картечной пулей и вывалился с четвертого этажа, – 9 женщин, 19 детей и 903 человека простонародья.
Ближе к ночи по Санкт-Петербургу пошли аресты. Первым взяли штабс-капитана лейб-гвардии Московского полка князя Щепина-Ростовского и со связанными руками доставили в Эрмитаж.
В Итальянском зале, напротив портрета папы Клемента IX, за ломберным столиком сидел генерал Левашов, предупредительно готовый записывать показания. Напротив него расположились Николай Павлович и великий князь Михаил, которому только что была подарена легкая батарея, решившая дело четырнадцатого числа. Уже скребли и отмывали Сенатскую площадь дворники, согнанные из ближайших кварталов, уже на перекрестках загорелись костры пикетов, и конные разъезды давно патрулировали главные улицы Петербурга, когда Щепина-Ростовского ввели в Итальянский зал.
– Как же ты осмелился, милостивый государь, пойти противу своего императора? – спросил его Николай Павлович, который в тот вечер был зол и весел, снисходителен и жесток, великодушен и мелочен, – словом, наэлектризован, как и полагается нечаянному победителю в том случае, когда он дюжинный человек.
– Нечистый попутал, ваше величество…
– Без доказательств полагаю сии слова ничтожными.
– А впрочем, государь, – оговорился Щепин-Ростовский, – не могу не заметить, что образ правления…
– Образ правления у нас самый настоящий, сходный с природою, – перебил его великий князь Михаил. – Оттого наш народ и умен. То есть он оттого умен, что тих, а тих оттого, что несвободен. Надивиться нельзя, откуда берутся такие безмозглые люди, которым нравятся заграничные учреждения и порядки!
– И ни с чем не сообразные права человека, – добавил генерал Левашов.
В эту минуту в зал ввели какого-то молоденького офицера с перевязанной головой и оборванным эполетом.
– Как фамилия? – строго спросил Николай Павлович.
– Шторх, ваше императорское величество, – ответил за пленного сопровождавший его павловский офицер.
– Где взят?
En flagrant dйlit![57]
– Обождать!
Шторха увели, великий князь Михаил высморкался, Николай Павлович уселся в кресло.
– Вы мне не дали договорить, – начал было Щепин-Ростовский, но Михаил опять его оборвал:
– Да чего тут говорить! Злодеи, изверги рода человеческого, распренеблагодарные канальи!
– Однако государственные формы…
– Господи, да разве дело в формах! – взмолился Николай Павлович, в некотором роде предвосхищая замечание Достоевского на тот счет, что-де человеческое счастье это гораздо сложнее, чем полагают господа социалисты.
– Нет-с! – вступил генерал Левашов. – Всех этих карбонариев, которые идут против народа, надо направлять в Сибирь законным путем, по этапу, как простолюдинов! Пусть до конца изопьют чашу позора!
– Да вы что, милостивый государь?! – сказал Николай Павлович. – Они мне всех каторжников взбунтуют да развратят!
После того как у Щепина-Ростовского отобрали предварительные показания, в зал ввели Шторха.
– Ну а ты что делал на площади, молодец? – спросил его великий князь Михаил.
Шторх пожал плечами и растерянно улыбнулся.
– А в злонамеренном обществе состоял?
Шторх снова пожал плечами: он действительно слыхом не слыхивал о таком. На все дальнейшие расспросы он также молчал, и даже когда ему пригрозили пыткой, он только испуганно шмыгнул носом.
– Может быть, он и вправду тут ни при чем? – предположил Левашов, когда Шторха отправили под замок.
– Нет, умен, – сказал великий князь Михаил. – Я его знаю: положительно умен и, значит, неблагонадежен.
Весь вечер и всю ночь во дворец свозили участников мятежа. В двенадцатом часу доставили князя Трубецкого, прятавшегося в доме австрийского посланника, свояка.
– И ты в комплекте?! – изумившись, сказал ему Николай Павлович.
Трубецкой сердито отвернулся, так как у него только что украли во дворце шубу.
Михаил Бестужев явился сам; гвардейские саперы оборвали на нем эполеты, потом связали за спиной руки и представили на допрос.
– Так, а ты что, братец, делал на площади? – с ядовитым выражением спросил его Николай Павлович.
– Respirй l’air de la libertй![58] – ответил Бестужев, сел на ближайший стул и положил ногу на ногу.
– Как же ты смеешь сидеть в присутствии своего государя?! – с искренним изумлением спросил Николай Павлович, поднимаясь в кресле, и вдруг пронзительно закричал: – Встать!
– Извините, ваше высочество, устал, – спокойно ответил Бестужев и даже не пошевелился.
– Величество, а не высочество! – крикнул Николай Павлович. – Слышишь ты, величество!
– А пошли вы… ваше величество!
Николай Павлович по-дурацки улыбнулся и рухнул в кресло.
Тем временем Александр Одоевский писал, сидя в караулке за бутылкой шабли, пожалованной императором: «Заимствовал я сей нелепый, противозаконный и на одних безмозглых мечтаниях основанный образ мыслей от сообщества Бестужева и Рылеева. Единственно Бестужев и Рылеев совратили меня с прямого пути. До их же знакомства я чуждался сими мыслями…»
На поручика Панова в главном вестибюле набросились с упреками Татищев и Голенищев-Кутузов, убийцы императора Павла.
– Злодейство какое: посягнуть на жизнь самого государя! – говорил Татищев. – Да вас, сударь, мало четвертовать!
– В семье не без урода, – сокрушался Голенищев-Кутузов.
– Да что вы кричите, господа? – отвечал Панов. – Если бы вы были теперь поручиками, то непременно состояли бы в тайном обществе!
В комнате дежурного офицера ожидали допроса лейб-гренадер Сутгоф и моряк Беляев.
– Какой сегодня день? – спросил Беляев.
– Да уже вторник, – сказал Сутгоф.
– Сегодня у Тютчевых обед. Вот уж действительно, нет худа без добра: хоть к Тютчевым сегодня на обед не идти – и то дай сюда.
В начале салтыковской лестницы безмятежно спал на банкетке двадцатичетырехлетний поручик лейб-гвардии Финляндского полка Николай Цебриков, немного знавшийся с декабристами, но взятый за то, что четырнадцатого числа он кричал гвардейским морякам: «Куда вас несет, сукины дети!» – что было истолковано одним полицейским чином как команда атаковать.
Между тем допросы шли своим чередом. Перед столиком Левашова нарочито вольно стоял князь Оболенский, который, впрочем, отвечал генералу основательно и охотно.
– Правда ли, что Якубович, обещаясь убить императора, скрежетал при этом зубами?
– Точно не помню, но, кажется, скрежетал.
– При обыске у Бестужевых была найдена колода игральных карт, в коей обнаружены подозрительные комбинации. Что значит следующий подбор карт: трефовый король, туз червей, туз пик, десятка пик и четверка бубен?
– Не знаю, что и сказать, ваше превосходительство…
– А по нашим соображениям, этот порядок карт означает замысел поразить государя в сердце утром 14 декабря.
Оболенский посмотрел на Левашова, немного наклоня голову, внимательно и нелепо.
– Хорошо. Правда ли, что смоленский помещик Петр Каховский в своих речах неоднократно оскорблял особу его императорского величества?
– Правда.
– Некоторые ваши сообщники показали, будто Рылеев хотел поджечь Санкт-Петербург; правда ли сие?
– И это правда.
Из дворца большинство арестованных переправляли через Неву в Петропавловскую твердыню и размещали по казематам, со дня основания не знавшим такого многолюдства и тесноты. Комендант крепости генерал Сукин, глухо постукивая своей деревянной ногой, встречал арестованных по-хозяйски, деловито-радушно, и при этом слегка журил незнакомых, а знакомым со слезою в голосе говорил:
– Наш новый ангел – преблагороднейшей души человек, вы только, голубчик, не запирайтесь. Выдавайте всех, к чертовой матери! И оставьте, ради Христа, ваши республиканские предрассудки; Россия – это такая лапландия, что ее только в кулаке и держать!
Михаила Бестужева за строптивое поведение на допросе заковали в кандалы и поместили в самую холодную, угловую, камеру Александровского равелина. Потолок тут был сводчатый, низкий, белый, похожий на внутреннюю гробовую обшивку, маленькое решетчатое окошко под потолком, замазанное мелом, давало так мало света, что едва различалась узкая деревянная койка, рядом с ней стол, стул и в углу у двери – отхожая бадейка с поржавевшими обручами; на стене было нацарапано чем-то острым:
- Пускай цари, мой друг, блистают,
- Зачем завидовать нам им?..
В камере было так студено, что хотелось сжаться в комочек и умереть.
Между тем победители продолжали рыскать по Петербургу. Сообразуясь с приметами Вильгельма Кюхельбекера, составленными его приятелем Фаддеем Булгариным, в ресторане близ Красного Села схватили безвинного помещика Протасова, который, впрочем, не был этому удивлен, так как накануне он собственноручно переписывал к себе в тетрадку двусмысленные стихи. Приехали к Рылееву в дом Русско-американской компании у Синего моста и стали ломиться в дверь; Кондратий Федорович, отворяя, строго сказал:
– Двери компанейские, нечего их ломать!
К литератору Николаю Гречу явился полицмейстер Чихачев и предъявил рукописный вопросник, касающийся лиц, замешанных в мятеже. Греч начал его читать, а полицмейстер скуки ради спросил:
– Знаете ли, кто автор этой бумаги?
– Нет, не знаю.
– Сам государь!
– Однако хорошо пишет…
На перекрестках, возле лавок и у мостов уже собрались группами горожане, которые горячо обсуждали вчерашнее происшествие.
– У миралтейства-то прибрали?
– Прибрали. Ровно как и не было ничего.
– А я, братцы, пользовался слухом, что будто с утра снова была пальба. Только будто бы это было на той стороне Невы, в том месте, где стоят свинки[59].
– Это никак невозможно. Бунтовщиков вечор перестреляли до последнего человека.
– Нет, их нынче много и под арестом сидит. Солдаты бунтовщиков раздевают, а они в обморок падают, потому как у их на теле есть такой тайный знак, по которому все видать.
– Говорят, ту немецкую баронессу, которая им вышивала знамя, сегодня высекут на Сенной. Все немцы, господа! И бунтовать-то по-человечески не умеют!
– Войска Константина были набраны из поляков. Поэтому их и побили. Куда поляку супротив русского?!
– Я поляков знаю: нет такой подлости, на которую он не пойдет, чтобы выжулить сто рублей, а потом выбросить их в окошко.
– Бог с вами, ваше здоровье, при чем тут поляки?! Это солдаты оказывали верность императору Константину, которого Николай Павлович решил престола за то, что он велел барские земли разбирать, а помещиков в Петербург представлять…
– А крестьянам объявил вечную вольность и произвел их в дворяне, потому как у всякого есть свой двор.
– Эк, куда хватил, крестьянам объявлять вольность! Да ведь это вредительство! Вольный сопьется, набезобразит и в каторгу пойдет. Куда лучше за хорошим-то барином!..
– Петрович, ты ли?
– Ну я.
– Удивлению подобно! Это как же тебя до сих пор не взяли?
– Помилуй, батюшка, за что ж меня брать?
– Как за что?! Синельников тебе кум?
– Кум.
– А его взяли! Он вечор на Сенатской площади бунтовал.
– Моя бы власть, я бы велела всех бунтовщиков навечно поместить в умственный дом.
– Патриотическая старушка! Откуда только она заимствовала такие почтенные чувства?!
Стоял уже полный день 15 декабря: кое-где на углах чернели остатки ночных костров, повизгивали полозья саней, скакали верховые, шествовали разносчики в белых фартуках и войлочных малахаях, извозчики в кафтанах кирпичного цвета скучали на перекрестках, лавочки торговали, появились первые пьяные, – словом, жизнь столицы шла будничным чередом. Но во дворце, все еще окруженном на всякий случай пехотой и артиллерией, было по-прежнему неспокойно. В результате вчерашнего потрясения молодая императрица Александра Федоровна нажила нервный тик, который сопровождал ее до самого гроба, и, запершись в своей спальне, теперь ужасалась на себя в зеркало. Но Николай Павлович, хотя и крепко утомленный ночными допросами, а также мучительными хлопотами по поддержанию порядка в столице, уже прикидывал объем первых награждений по делу 14 декабря; предполагалось пожаловать около двадцати флигель-адъютантств, четыре графских достоинства, двоих произвести в фельдмаршалы, шестнадцать человек в полные генералы, тридцать шесть представительниц прекрасного пола во фрейлины и статс-дамы. Дворянство, правду сказать, ожидало большего, например, свободного винокурения, а знаменитый Денис Давыдов в частном письме выражал надежду, что новый царь «авось да устроит какую-нибудь войнишку». Однако дело было еще не кончено.