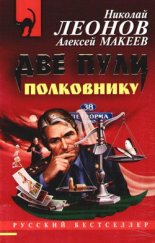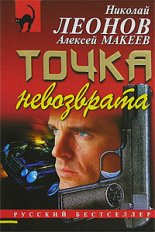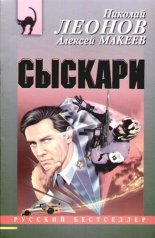Догадки Пьецух Вячеслав
Весь день 15 декабря Иван Якушкин просидел дома. До обеда он кое-что почитал, потом ходил немного подышать воздухом, а после обеда взял клочок синей сахарной бумаги и сел сводить счеты: «Четверть овса – четыре рубля с полтиной, свечи сальные, пуд – шесть с полтиной, пара сапог повару Еремею – три рубля с гривенником, стопа веленевой бумаги – двадцать рублей…»
На стопе веленевой бумаги его отвлек от счетов купец Пахом Тычкин, который в двадцать втором году дотла разорился и с тех пор говорил стихами.
– Что тебе, Пахом Тимофеич? – спросил его Якушкин, откладывая перо.
– Явился я к вам, сударь мой, неспроста, а чтобы хлебушка попросить за ради Христа.
– Хорошо, иди на кухню, я распоряжусь.
– Благослови господь сию христианнейшую обитель, коей хозяин хлебосол и неоскорбитель.
После того как Тычкин ушел на кухню, Якушкин было опять взялся за счеты, но тут в вестибюле зазвенел колокольчик, и он стал дожидаться следующего посетителя, лениво глядя на банку с вьюном, который тогда заменял барометр. Минуты через две в кабинет, потирая с мороза руки, вошел шурин Алексей Шереметев и сказал:
– Давеча получил от Пущина письмецо. Пущин пишет, что наши в Петербурге присягать Николаю Павловичу не станут. Надобно и нам действовать.
Якушкин с тоской посмотрел в окно. Он давно отошел от тайного общества, обзавелся семьей, вообще сильно переменился, но семь лет назад он дал слово быть верным демократическим идеалам до последнего издыхания и нарушить его не смел.
– Хорошо, – сказал Якушкин, – будем действовать. Назвался груздем – полезай в кузов…
– Это ты к чему?
Якушкин смолчал.
Они оделись, вышли на улицу, на ближайшем перекрестке подрядили извозчика, уселись в сани и поехали к отставному генералу Михайле Фонвизину. Захватив напуганного генерала, заговорщики отправились к Митькову на Божедомку, где и состоялось чрезвычайное совещание московской секции общества, на котором также присутствовал Степан Семенов из орловских семинаристов, законник, причем законник настолько блестящий, что впоследствии его так и не сумели привлечь к суду, и какой-то Муханов, детина с предлинными рыжими усами, растущими строго горизонтально, в потертом армейском мундире без аксельбантов, в линялых панталонах без выпушки, кажется, даже не форменных, – вообще этот Муханов выглядел до такой степени неопрятно, что Фонвизин пожимал ему руку с оторопью, скрепя сердце. Из московских республиканцев на совещании отсутствовал только генерал Орлов, который давно оставил тайное общество и мирно жил с семьей у Донского монастыря.
– Господа! – начал Якушкин, блекло-желтый от пламени сальных свечей. – Иван Пущин пишет из Петербурга, что все готово к решительному выступлению. Солдаты присягать не намерены. Начеку шестьдесят членов общества, которые пойдут на все, и тысяча штыков войска. Какие будут пропозиции, господа?
– Полагаю, что нам следует взять свои меры, – сказал Муханов и дунул в ус.
Фонвизин застучал пальцами по подлокотнику кресла, Митьков тяжело вздохнул.
– Принимая в уважение малочисленность наших сил, – заговорил Митьков, до странного живо и даже немного смешно играя каждой черточкой своего бритого, толстоносого, лоснящегося лица, – считаю какие бы то ни было действия с нашей стороны преждевременными и посему обреченными на провал. Я не вижу средств, господа! Шестьдесят конспираторов там, пять здесь и бог знает что на юге… Вообще я желаю перемены управления, а не правления.
– Однако слово дадено, – строго сказал Якушкин, – и поворачивать оглобли в столь важный момент нечестно. Ежели мы теперь ничего не предпримем, то заслужим во всей силе имя законченных подлецов!
– Вот именно! – горячо согласился Муханов. – Подлецов и первых злодеев России! Надобно делом доказать, что мы отечеству истинные сыны. Для начала хорошо было бы фанатиков приобщить.
– Это еще зачем?! – отозвался Фонвизин, вопросительно хмуря свое пухлое лицо со значительным генеральским носом, который вверху немного морщился, как сапог, а внизу соединялся с усиками, устроенными маленьким крендельком.
– Больше для того, что лучше иметь их с собой, чем против себя, – сердито сказал Муханов.
Собрание помолчало.
– Я предлагаю такой план действия, господа, – заговорил Якушкин. – Ты, Михайла Александрович, – при этих словах он ткнул пальцем в Фонвизина, – надеваешь генеральский мундир и под любым предлогом поднимаешь Хамовнические казармы. Затем мы силою войск арестуем корпусного командира графа Толстого и градоначальника Голицына…
– После захвата Москвы, – подхватил Муханов, – надобно вести войска на соединение со второй армией и далее совместно идти на запад. Первый наш враг – Австрийская империя! В отношении Австрии для нас не может быть середины: или мы должны стереть ее имя с карты Европы, или, если в том не успеем, иметь ее по-прежнему своей союзницей…
– Ну, это вы, милостивый государь, совсем уже заехали не туда! – сказал законник Семенов, хранивший до этого намеренное молчание.
Муханов надулся.
– Хорошо, – после некоторой паузы сказал он. – Ежели вы отказываетесь действовать, то я сегодня же поеду в Санкт-Петербург и убью Николая Павловича. У меня на сей случай давно приготовлен пистолет, вделанный в эфес шпаги.
– Ну, это уже прямо каторжная идея! – сказал законник Семенов и принялся застегивать пуговицы сюртука.
Прочие участники совещания также начали собираться. Напоследок Муханов еще предложил Митькову поменять на перочинный ножичек серебряную печатку, получил отказ, и вслед за этим все разъехались по домам.
На другой день не произошло ничего, достойного примечания, а семнадцатого числа до москвичей долетела весть о разгроме восстания в Петербурге. Якушкин сломя голову понесся к Михаилу Орлову, застал его за чтением адрес-календаря и сказал на убитой ноте:
– Tout est fini, gйnйrale![60]
– Comment fini? Ce n’est que le commenзement de la fin![61] – сказал Михаил Орлов, которому, между прочим, брат Алексей уже вымолил прощение у царя; до конца своих дней этот «оставленный без внимания» генерал будет бродить в одиночестве между Басманною и Арбатом и только в 1833 году осмелится напомнить о себе статьей «Мнение действительного члена Московского скакового общества по поводу назначения для призов ежегодно тридцати тысяч рублей».
И в самом деле, настоящий конец был еще впереди – аресты в Москве пошли только в начале нового, двадцать шестого года. Вечером 9 января был взят советник гражданской палаты Василий Петрович Зубков, который даже не подозревал о существовании тайного общества, но был свояком Пущину и слегка знался кое с кем из московских республиканцев. Ближе к вечеру девятого числа Василий Петрович засел за самовар у себя дома, за Яузой, в приходе Козьмы и Демьяна на Швивой горке, а его кот, устроившись напротив, принялся «умываться», и Василий Петрович отметил про себя, что, видимо, быть гостям. Действительно, не прошло и часа, как нагрянул пьяный полицмейстер Обрезков, потребовавший на ревизию хозяйский архив, а затем велевший собираться в дальнюю дорогу, казенный дом. Сначала Василий Петрович предстал перед московским генерал-губернатором князем Голицыным, который, впрочем, принял его любезно, а подвернувшийся князь Черкасский даже одолжил арестованному свою шубу, в каковом поступке князь потом долго оправдывался перед Следственной комиссией, упирая на то, что он ведать не ведал о злонамеренности Зубкова, а если бы ведал, то, конечно, шубы ни под каким видом не одолжил. Переночевал Василий Петрович в холодной, а наутро под траурный звон валдайского колокольчика фельдъегерская тройка понесла его в Петербург. Фельдъегерь Хорунженко, личный дворянин, дед которого был десятским у Пугачева, сребролюбия ради оставлял Василия Петровича без обеда, надсмехался, дерзил и на все претензии отвечал:
– А ты не бунтуй!
В столицу прибыли поздно вечером, и, когда ехали по Гороховой, Василий Петрович, увидя свет в ресторации Андрие, прослезился от обиды на слепую судьбу, которая одним оставляет мирную, приятную жизнь, а других обрекает на незаслуженные страдания.
Во время допроса в Эрмитаже вконец запуганный Василий Петрович либо ошарашенно молчал, либо клялся в своей непричастности к тайному обществу, что было воспринято как хитрое запирательство.
– Ну, ничего, милостивый государь, – сказал ему генерал Левашов, – у нас и не такие птички щебечут! Посидите с недельку в крепости – отца родного выдадите с потрохами!
Василий Петрович попытался было с горя на себя наклепать, но вышло так глупо, что ему не поверили и отослали в Алексеевский равелин. Вопреки ожиданию тут весьма сносно кормили – дважды давали чай с булкой и тремя кусками сахара, а в обед щи и жареную говядину, – но одиночное заключение его до такой степени потрясло, что он стал панически выдумывать для себя правдоподобное преступление. Он то панически выдумывал для себя правдоподобное преступление, то начинал от тоски считать трещины в потолке, то ловил тараканов, то принимался тихонько декламировать стихи и в конце концов пришел к выводу, что изобретатель виселицы и обезглавливания – благодетель человечества, а придумавший одиночное заключение – подлый негодяй. Особенно тягостной была совершенная, неправдоподобная тишина, немыслимая в природе, такая тишина, что казалось, будто все вымерло и он остался один как перст; даже шагов в коридоре не слышно, так как крепостные солдаты ходили в войлочных сапогах; на шестой день сидения в камере ему послышалась трель сверчка, но это была слуховая галлюцинация.
По прошествии шести суток Василия Петровича, впрочем, освободили с оправдательным аттестатом, поскольку ни один из арестованных декабристов идею о его причастности к делу не подтвердил. Однако репутация красного все же за ним осталась, и в следующее царствование свободомыслящие соседи даже выбрали Василия Петровича уездным предводителем дворянства, что укрепило его вот в каком подозрении: во всю его жизнь имели какой-то смысл, вообще были похожи на жизнь только те двенадцать дней, что он просидел в Петропавловской крепости арестантом.
В середине ноября до южной армии дошел слух об опасной болезни императора Александра, и тамошние республиканцы заволновались. Оба Муравьева-Апостола, Сергей и Матвей, и юный Бестужев-Рюмин гостили в это время в Кибницах под Миргородом у вельможи Дмитрия Прокофьевича Трощинского. Житье тут было веселое: ежедневно давалось два отличных обеда, таких обильных, что ели по три часа; во время застолья компанию развлекали два шута-дразнителя, которых за особо обидные выходки хозяин сажал в собственную тюрьму, певчие, оркестр русской музыки, дворовые наяды, танцевавшие без малого голышом, в каких-то газовых сарафанах, поп-расстрига Варфоломей, громадный диковолосый мужчина, безобразник и грубиян, непрестанно ломавшийся за столом, и сточетырехлетний немец барон фон Шиллинг. Варфоломей был вскоре от компании отлучен: в наказание за все его безобразия хозяин велел дворовым умельцам соорудить чучело, совершенно похожее на расстригу, и повесить это чучело перед окнами на осине – Варфоломей обиделся и исчез.
В полдень 23 ноября компания, по обыкновению, встретилась в столовой, чтобы засесть за первый обед. Общий разговор начал Шиллинг, который ни с того ни с сего завел речь о том, что Россия – варварская страна, что русский язык – бычье наречие и что если хорошенько вымыть русского мужика, то получится самоед.
– Немудрено, господа, – продолжал барон Шиллинг, выговаривая слова немного на прусский лад, – что от этого народа ничего не добьешься путем убеждений, а колотушками – все что душе угодно!
В раскрытую форточку вдруг страшно вползла голова расстриги Варфоломея.
– Врешь, колбасник! – пробасил он, и от его голоса тонко задребезжали стаканы какого-то особенного стекла.
– Брысь! – прикрикнул Трощинский, и расстрига как в воду канул.
– Без шуток, господа, – стоял на своем барон. – Помню, ехал я как-то из Петербурга в Москву, и, не доезжая верст двух до Черной Грязи, лошадь моего извозчика по непонятной причине встала. Извозчик побоялся, что я ему денег не заплачу, и по меркантильности характера чего только ни делал: уговаривал свою лошадь, по холке гладил, до того даже опустился, что ее поганую морду целовал – кляча ни «тпру» ни «ну». Тогда он взял в руки палку, и лошадь тронулась, как будто только этого и ждала. Сей эпизод меня убедил, что палка в России все может, – и возможное и, главное, невозможное.
– Это удивительно, Дмитрий Прокофьевич! – сердито сказал Сергей Муравьев-Апостол. – Как вы позволяете говорить в вашем доме такие мерзости о России?!
– А что же, батюшка, делать, коли он истинно говорит? – ответил Трощинский и пригубил стакан с вином. – Ведь и вправду сволочь народ! Мало того, что он вор и бездельник, так из него еще хоть веревки вей, хоть веники делай – словом не обмолвится поперек! Возьмите хотя бы моих поваров; если Митька мне не потрафит, то я его селедкой с горчицей накормлю, в холодную посажу и два дни воды давать не велю – он же мне за науку в ножки после поклонится. А скажи я моему французу просто обидное слово за недожаренную пулярку, он меня ночью в куски изрежет! Ne c’est pas, Maurise?[62]
– C’est vrai, monsieur[63], – механически согласился повар-француз, торчавший в столовой в ожидании замечаний.
– Все наши беды заключаются в том, – сказал Матвей Муравьев-Апостол, поглаживая свои волосы, зачесанные вперед, – что власти у нас не знают народа, которым правят, и посему, натурально, его нисколько не уважают. Нужно держать в предмете, что у нас везде правит палка не потому, что русский человек вор и бездельник, а что он вор и бездельник потому, что у нас везде правит палка. Поразительно, господа: во всем свете не сыщется государства, которому так бы не везло на правителей, как России! То горького пьяницу Бог пошлет, вроде Владимира Святого, то аспида на манер Иоанна Грозного, то какого-нибудь придурка; уж на что Петр I был великий человек, а и то обходился с Россией, как Чингисхан. Словом, у нас двух вещей испокон веков не умеют – веселиться и управлять.
– Нет, не скажите, – возразил Трощинский, сразу напуская на лицо министерское выражение. – Многие российские государи были тонкими правителями, искренне желавшими своим подданным всяческого процветания, да подданным-то не процветания было надобно, а чтобы украсть, пропить и спьяну набезобразить. Возьмите хотя бы блаженной памяти императрицу Екатерину Алексеевну – разве она не пеклась о благе народа?! Сколько одной черноземной землицы у басурман прибрала! А вольная цензура, а упразднение пытки, а путешествие через всю Россию с тем только, чтобы самолично войти в нужды простонародья? Нет, господа, как хотите, а российские государственные устои при несчастном характере нации нашей – это благо, и костить их могут только атеисты, мечтательные подпоручики и прочие мальчишки, которых мозжит глупый французский либерализм.
– Мечтательные подпоручики – это, кажется, на мой счет?.. – сказал, краснея, Бестужев-Рюмин, юноша нервный, странноватый, и, неловко дернув рукой, уронил на пол вилку.
– Бог с вами, сударь, и в уме не было! – оправдался Трощинский, рассеянно глядя по сторонам.
– Не подлежит сомнению также то, – вступил барон Шиллинг, – что русский человек глуп. Более нечем объяснить существование в России строжайшей цензуры и еще того удивительного закона, в соответствии с которым все здания выше двух этажей и длинней, чем в семь окон, должны строиться под присмотром департамента путей сообщения.
– Опять врешь, мумия саксонская! – гаркнул в форточку расстрига Варфоломей. – Русский человек тебя, немца, купит за пятачок медью, а продаст за двугривенный серебром!
Трощинский, как и в прошлый раз, собрался его шугануть, но тут в столовую вошел управляющий, высокий седой старик, склонился к хозяину и заговорщицки зашептал.
– Господа, государь скончался!.. – проговорил Трощинский, опуская уголки рта.
Сергей Муравьев-Апостол пробежал ладонью по своему полному значительному лицу, Матвей забарабанил ногтями о стенку серебряного ведерка, в котором торчала бутылка шампанского, а Бестужев-Рюмин залился слезами и стал прощаться, как прощаются перед боем.
Однако до решительных событий было еще далеко. Только вечером 25 декабря, во время бала, который по поводу полкового праздника, Рождества и начала нового царствования давал в Василькове командир Черниговского полка Густав Иванович Гебель, именно на котильоне, в залу вошли два жандармских офицера и, отыскав среди гостей полковника Гебеля, вручили ему пакет из главной квартиры армии; музыка прекратилась, танец сломался, дамы зашушукались, мужчины насторожились. Выйдя в буфетную, Густав Иванович вскрыл пакет: главная квартира предписывала немедленно арестовать обоих Муравьевых-Апостолов и доставить их в Тульчин под крепкой стражей. Полковник спешно оделся, сел в сани и помчался в сторону Житомира, куда накануне отбыли братья якобы с поздравлениями к корпусному. В то же время держал путь на Житомир жандармский поручик Ланге, у которого был приказ арестовать Бестужева-Рюмина. Неподалеку от деревни Трилесы пути Гебеля и Ланге пересеклись.
А Муравьевы-Апостолы и Бестужев-Рюмин, накануне доставивший братьям два тяжелых известия, – о разгроме восстания в Петербурге и приказе из главной квартиры относительно их ареста, – сидели в жарко, до кислецы, натопленной комнате у полковника Артамона Захаровича Муравьева, командира Ахтырского гусарского полка и старинного члена тайного общества.
– Пробил заветный час! – говорил Сергей Муравьев-Апостол. – Пустое, что в столице дело закончилось полным конфузом, Риего тоже начинал в медвежьем углу. Надобно только бросить брандер в полки, и пламя займется на всю Россию. Не далее как нынче вечером все наши люди получат приглашение к возмущению.
– Что касается меня, – отвечал Артамон Муравьев, рассеянно трогая аксельбант, – то я вообще не хочу слышать ни о каком возмущении. Дело прошлое, господа, пошумели, и будет. Впрочем, ежели вы станете настаивать, то я поеду в Петербург и расскажу обо всем государю. Николай Павлович милостив; он никого не накажет, а прислушается к нашему мнению и облагодетельствует Россию.
– По-моему, это не что иное, как низость духа, – сказал Бестужев-Рюмин, нервно ломая пальцы. – Б point de vue йlevй en tout cas[64].
– Погоди, Миша, – остановил его Сергей Муравьев-Апостол, – это он говорит, чтобы только сделать мне афронт… Послушай, Артамон Захарыч, ведь еще месяц назад ты осыпал нас обещаниями и клялся делать то, чего мы даже не требовали. Теперь ты отказываешься… Как это следует понимать?
– Как хотите, так и понимайте, а я ради вашей авантюры пальцем не шевельну.
– В таком случае я прекращаю с тобой знакомство, дружбу, и с сей минуты все мои отношения с тобой прерваны!
Артамон Муравьев смолчал. Сергей Иванович отвернулся к окошку, покрутил пуговицу на мундире, постучал каблуком о пол, пригладил виски, кашлянул и снова заговорил:
– Ну что ты, честное слово! Давеча сам подбивал общество к решительным действиям, а теперь идешь на попятный двор! Подумай, под какой сюркуп[65] ты ставишь своих товарищей!..
– Черт с ним! – вступил Матвей Муравьев-Апостол. – Пускай хоть лошадей даст, и на том спасибо!
– И лошадей у меня нет.
Гости поднялись и цепочкой пошли на выход. Матвей Иванович, задержавшись в дверях, сказал:
– По крайней мере позволь нам надеяться на твою скромность.
– Это уж как водится, – ответил Артамон Муравьев, глядя куда-то вбок.
У крыльца ждали сани, запряженные парой притомившихся лошадей, которые были покрыты струпьями замерзшего мыла. Возница-солдат подремывал на облучке, но при этом сидел так деревянно-прямо, точно он не дремал, а о чем-то думал, прикрыв глаза. Сергей Иванович толкнул его под локоть и приказал:
– Дирекция на Трилесы. Кстати, как нынче туда дорога?
– Дорога – Сибирь, ваше благородие! – ответил возница и тронул вожжи.
Лошади натужно пошли, сани, присвистывая, покатились.
– Этакий элефант[66], а ведет себя как штык-юнкер, – сказал Бестужев-Рюмин, поминая отступника Муравьева.
– Да, дело табак! – отозвался Матвей Иванович. – Остается только заказать ужин с шампанским и весело застрелиться.
– Застрелиться мы всегда успеем, – сказал Сергей Иванович, кутаясь в шубу на медведях. – А покуда погуляем по Руси с ружьецом да с сабелькой – авось чего-нибудь нагуляем!..
Дорога на Трилесы была, и правда, неудобопроезжей: рыхлый снег перемешался с подмоченным черноземом, и в образовавшейся грязной каше сани постоянно носило из стороны в сторону. Назад к Любарам отступали неоглядные поля, покрытые снегом, и убеленные изморозью пирамидальные тополя, вокруг которых кружило с карканьем воронье.
Прочие участники тайного общества тоже не теряли времени даром. Утром 26 декабря несколько офицеров поскакали в окрестные части передать «приглашение к возмущению», но командиры, прежде бывшие бодрыми сторонниками действия, отказывались выступать.
Подпоручика Якова Андрее2вича послали к полковнику Повало-Швейковскому, который после в Сибири перебивался тем, что выращивал табак и шил картузы на вате. Юнкер Энгельгардт, встретивший Андреевича в сенях, объявил, что полковника нет дома, но Андреевич остался ждать: он сбросил с себя шинель, прошел в горницу, сел за стол и спросил у юнкера чаю.
– Мы нынче не ставили самовара, – сказал ему Энгельгардт.
– Так поставьте, – предложил Андреевич.
– Это будет долго.
– А мне некуда торопиться.
Юнкер что-то еще намерился возразить, но в эту минуту в соседней комнате кто-то кашлянул и притих. Андреевич, поднявшись из-за стола, распахнул створки двери и увидел полковника Повало-Швейковского, который стоял посреди комнаты в халате и плисовом колпачке.
– Что за мальчишество, Иван Семенович?! – обратился к нему Андреевич. – Давеча вы обещали действовать в смысле тайного общества, а теперь прячетесь, точно школьник!
– И вовсе я не прячусь, – багровея, сказал Повало-Швейковский, – с чего вы взяли?..
С этими словами он прошел в горницу, выслал кивком головы Энгельгардта и встал к окну.
– Я приехал вам сообщить, что мы начинаем, – сказал Андреевич. – Согласны ли вы поднять верных людей?
– Не ожидайте от меня ничего. Собственным благополучием я рисковать не желаю, чужим – не могу. Да и ради чего рисковать-то? Все равно мир мы не перевернем.
– Однако нельзя же ничего не делать на том основании, что нельзя сделать все…
– Я не намерен вступать с вами в экспликации. Прошу вас покинуть мой дом. Я ничего не могу для вас сделать.
И полковник демонстративно отвернулся к печке, расписанной фантастическими цветами.
Тем временем оба Муравьева-Апостола и Бестужев-Рюмин были уже в Трилесах и сидели на квартире у командира пятой мушкетерской роты Черниговского пехотного полка поручика Кузьмина, которого они, к крайнему разочарованию, не застали. Сергей Иванович велел хозяйскому денщику подать самовар, написал записку в Васильков верным товарищам по тайному обществу, вызывая их на совет, послал Бестужева-Рюмина поднимать алексопольцев и, не дождавшись чаю, заснул на лавке. Глядя на него, прикорнул и Матвей Иванович.
Не проспали они и часа, как в Трилесы прискакали полковник Гебель и жандармский поручик Ланге, решившие в Трилесах дать коням роздых, а самим погреться у поручика Кузьмина. На крыльце они постучали ногами, сбивая налипший снег, и потом вошли в сени, где их встретил хозяйский денщик, лихо взявший под козырек.
– Кто это там у тебя храпит? – спросил его Гебель.
Денщик отрапортовал.
– Вот так сюрприз! – сказал Гебель, толкнул дверь в горницу и увидел в ней тех, за кем гонялся уже четвертые сутки.
Разбудив братьев, которые на первых порах смотрели в лицо командиру тупо-вопросительными глазами, полковник объявил им, что они арестованы, затем выставил охрану и засел пить чай. Был уже вечер, и за чаем они с поручиком Ланге условились в Трилесах заночевать.
Утром, чуть свет, в расположение пятой роты явились верные товарищи, вызванные запиской, а именно офицеры: Щепило, барон Соловьев, Кузьмин и Сухинов; последний в двадцать восьмом году попытается поднять восстание на Нepчинских рудниках, будет выдан одним из своих сообщников и накануне казни наложит на себя руки.
Первым их увидел поручик Ланге, вышедший на двор справить малую надобность, и, сообразив, что дело принимает драматический оборот, бросился огородами наутек. Сухинов, однако, его догнал и засадил в погреб у здешнего батюшки, но товарищам он вынужден был солгать, будто жандарм-таки убежал, поскольку в то утро они были слишком раздражены и не остановились бы перед самым бессмысленным кровопролитием; спустя некоторое время Ланге, выбравшись из погреба, улизнул.
Полковник Гебель, обеспокоенный исчезновением Ланге, пошел его кликнуть и встретил в сенях Щепило.
– А ты, повеса, почему здесь? – спросил у него полковник, сердито нахмуря брови.
– Вот я тебе сейчас покажу повесу, старый хрен! – на страшной ноте сказал Щепило, вырвал ружье у солдата, караулившего арестованных, и пырнул полковника штыком в левую сторону живота. Вслед за Щепило на Гебеля налетел барон Соловьев, который нанес ему шпагой две раны – в плечо и в шею. Наконец, на шум в сенях выглянул Сергей Муравьев-Апостол: он выхватил ружье у Щепилы, с победным криком опрокинул полковника на пол и, не помня себя, принялся увечить его прикладом. Минуты через три он запыхался, бросил ружье и позвал товарищей в горницу на совет. Караульный, наблюдавший сцену избиения полкового командира, стоял навытяжку, немного пристукивая зубами, и был бледен как простыня.
– Теперь уже некуда отступать, – через отдышку сказал Сергей Муравьев-Апостол, когда совет разместился в горнице, за столом, выкрашенным грязно-голубой краской. – Будем поднимать полк.
– После того, что произошло, ничего другого не остается, – согласился Матвей Иванович. – Дернул вас черт, господа, оказать такую решимость!..
Сквозь маленькие, низкие окошки с крестовидными рамами в горницу тек приятный утренний свет, весело игравший на меди самовара, форменных пуговицах, эполетах; в печке уютно потрескивали дрова.
– Главный вопрос, требующий немедленного решения, это вопрос: куда вести полк? – сказал Сергей Иванович и погладил средним пальцем свой тонкий нос.
– Можно тронуть полк на Брусилов, где стоят алексопольцы и ахтырцы, – предложил барон Соловьев. – Можно взять дирекцию на Житомир, и там есть наши…
– Можно также идти в Белую Церковь на соединение с егерями, – вступил Щепило.
– Погодите, господа, – перебил Кузьмин, увидевший в окошке полковника Гебеля, который, несмотря на побои, три колотые раны и расплющенные кисти рук, тащился, пошатываясь, со двора.
Кузьмин выбежал из дома, нагнал полковника у ворот, сбил его с ног и, выхватив шпагу, один за другим стал наносить удары. В конце концов шпага застряла у полковника в ребрах; Кузьмин ее еле выпростал, плюнул и пошел назад в дом. Гебель немного полежал в снегу, потом трудно поднялся и скрылся с глаз; добить его ни у кого не хватило злости.
После этого совет продолжался еще около часа, и, хотя программа действий так и не определилась, в результате офицеры сошлись на том, что сам факт восстания Черниговского полка должен будет выявить силы союзников и противника, а следовательно, прояснить план движения и борьбы.
Ближе к полудню 29 декабря пятая мушкетерская рота выступила из Трилес и вечером прибыла в соседнюю Ковалевку, где соединилась со второй гренадерской ротой. Утром следующего дня восставшие черниговцы вступили в городок Васильков, который сейчас представляет собой симпатичный районный центр. Васильков встретил восставших безлюдьем, лаем собак и столбами печного дыма, но как только на площади зарокотал барабан, из хат повалили солдаты тех рот, что были расквартированы в городке, и пошло то неистовое веселье, какое, видимо, неизбежно при начале всякого народного мятежа. На радостях даже побили майора Трухина, никогда особенно не притеснявшего нижних чинов, и немного пощипали васильковских богатеев. Правда, Сухинов решительно пресек мародерство и предложил обывателям подавать жалобы с указанием убытков в денежном выражении; нажаловались на 17 721 рубль ассигнациями и на 123 рубля серебром.
Около часу дня без малого весь личный состав полка был построен на заснеженной площади фронтом к двухэтажному зданию штаба, где в наше время располагается районная вневедомственная охрана, а левым флангом к собору со шлемовидными малороссийскими куполами, стоявшему на горе. Сергей Иванович Муравьев-Апостол, переодевшийся в парадную форму, сказал полку речь, коротко объяснявшую цель восстания, и призвал черниговцев единодушно «полететь за славою или смертью», но при этом он оставил за каждым право добровольно примкнуть к восстанию либо посторониться.
Солдаты толкали друг друга локтями.
– Ты как?
– Я так: присягу помню, куда знамя, туда и я.
Затем полковой священник Данила Кайзер прочел черниговцам «Православный катехизис», сочиненный самим Сергеем Ивановичем, в котором утверждалась та новохристианская мысль, что Господь Бог с теми, кто идет против врагов народа и прежде всего царя. Поскольку сам Данила Кайзер этой мысли не разделял, за чтение муравьевского катехизиса ему выдали вперед четыреста рублей, и поэтому перед следствием он не оправдался, а был заключен в один из монастырей Смоленской губернии и так там засиделся, что при амнистии 1856 года был нечаянно позабыт; через некоторое время о нем, правда, вспомнили и даже назначили пенсию в пятьдесят семь рублей четырнадцать копеек почему-то с тремя седьмыми.
Утром 31 декабря Черниговский полк выступил из Василькова в направлении Брусилова, где стояли алексопольцы и ахтырцы.
Накануне ночью в полку не спали: Сергей Иванович все что-то писал, Щепило бродил из роты в роту, подбадривая солдат, что было совсем не нужно, барон Соловьев считал полковые деньги, Кузьмин занимался своими пистолетами, а Сухинов отправился проведать майора Трухина, сидевшего под арестом. Увидев Сухинова, майор рухнул на колени и взмолился:
– Иван Иванович, не убивай!
Сухинов поднял Трухина со словами, что его вовсе не собираются убивать, но только он направился к двери, как майор снова бросился на колени.
– В таком случае вели прислать водки…
Солдаты, набившиеся в хатах, в которых было не продохнуть от печного жара и крепкого армейского духа, замешанного на запахах кожи, пота и табака, чувствовали себя нервно-приподнято, боевито. В хатах наяривали мелом сбрую, то есть широкие ремни ранцев, чистили толченым кирпичом штыки, зашивали прорехи на шинелях второго срока или, праздно пыхтя глиняными хохлацкими трубками, вели нарочито веселые разговоры.
– Понамаренко?!
– Я!
– Давай кремнями меняться, а то мой совсем сбился. Все равно ты молокан: тебе стрелять – зась…
– Ну да!.. Что криво да гнило, то Козьме-Демьяну!..
– А вот я вам, ребята, расскажу про сумасшедшего прусского принца. Меня при нем назначили казаком, когда я еще служил в пермском генерал-губернаторстве…
– А что же этот принц у нас делал?
– Так, самое то есть пустое: травы наберет, каменьев, песок смотрит. Как-то в солончаках говорит мне через толмача: полезай в воду, достань, что на дне. Ну, я достал, как обыкновенно, что на дне бывает. А он спрашивает: «Что внизу, очень холодная вода?» Думаю: нет, брат, меня не проведешь! Сделал я, братцы, фрунт и ответил: «Того, мол, ваша светлость господин Гумплот[67], – его фамилие было Гумплот, – коли служба требует, нам все равно, мы рады стараться!..» Целковый дал… «Иди, – говорит, – опохмелись, геройский русский казак, у нас таких нет!»
– На целковый можно неделю пить…
– Никак нет; только и хватило опохмелиться.
– Когда же это было?
– Это давно было, когда еще начальство не так строго смотрело, чтобы, значит, ошаление производящих напитков ни в коем случае не вкушать.
Бухнула дверь, и в хату вошел барон Соловьев, от которого приятно несло морозцем.
– Ну как вы, ребята? – спросил барон и поморщился. – Однако дух тут у вас!..
– Как обыкновенно, господин капитан: перебиваемся с петельки на пуговку.
– Ужинали?
– Продовольствовались, ваше благородие.
– А что же вы, братцы, не спите?
– До сна ли нам нынче, Вениамин Николаевич, ведь на какое дело завтра идем!
– Да, братцы, на великое дело идем, это он истинно говорит! За всю несчастную Россию нашему полку выпало постоять! Завтра или сбудутся наши патриотические мечтания, или все поляжем на поле брани!
– Все сбудется, как загадано, ваше благородие Вениамин Николаевич. Мы своим командирам верим, мы за своими командирами, как говорится, в огонь и в воду!
– А спать вы все-таки ложитесь.
С этими словами барон ушел. Чуточку помолчали.
– А меня, братцы, в двадцатом годе бил сам граф Алексей Андреевич Аракчеев.
– За что же такая честь?
– За то, что я на посту читал. Стою я, значит, раз на посту, читаю себе «Санкт-Петербургские ведомости», вдруг откуда ни возьмись граф Алексей Андреевич Аракчеев! «Что же ты, – говорит, – делаешь, сукин сын австрийский?!», такая у него была пословица – «сукин сын австрийский». «Читаю, – говорю, – ваше превосходительство». Тут он мне врезал!
– Ну и что дальше?
– А ничего. После того, как граф сделал мне означенное огорчение, я достал свою газетку и опять стал читать…
Под утро, впрочем, в ротах угомонились, а со светом полк выступил из Василькова на Брусилов с развернутыми крестовыми знаменами и походной песней «Наша матушка Расея всему свету голова».
Около двух часов пополудни черниговцы вошли в деревню Мотовиловку, где начались первые неувязки и огорчения: Бестужев-Рюмин, вернувшийся от алексопольцев, сообщил, что полк к восстанию не примкнет; первая гренадерская рота черниговцев, расквартированная в Мотовиловке, также поддержать товарищей отказалась; вдобавок ночью из лагеря сбежало несколько офицеров. Все это до такой степени расстроило Сергея Ивановича, что он отдал гибельный приказ остановиться в деревне на дневку, а сам заперся в хате церковного старшины. Только на второй день нового, 1826, года полк выступил из Мотовиловки в направлении Белой Церкви, чтобы соединиться с распропагандированным 17-м егерским полком, однако разведка, посланная вперед, донесла, что егерей из-под Белой Церкви предусмотрительно увели. Посему за Пологами Сергей Иванович вынужден был повернуть полк на Паволочь, где стояла сочувствовавшая пятая конная рота, а далее предпринять движение на Житомир. Но за деревней Устиновкой дорогу черниговцам загородили гусары генерала Гейсмара и артиллерия участника тайного общества Пыхачева; это был авангард правительственных войск, высланных на подавление мятежа, которые составили полки: Мариупольский, принца Оранского, Александрийский, Ахтырский, Курский, Муромский, Витебский, Полоцкий, 19-й и 20-й егерские, Воронежский, Рыльский, Старооскольский, а также две драгунских и одна пехотная дивизия Литовского корпуса.
Завидя противника, темневшего в заснеженном поле по обе стороны дороги, Сергей Иванович скомандовал полку перестроиться к отражению атаки и вытащил пистолет: щелкнул курком раз, поставив замок на предохранительный взвод, щелкнул еще, поставив на боевой, и внимательно посмотрел в дуло. Черниговцы тем временем рассыпали походную колонну, смешались, но почти мгновенно разобрались в строгие прямоугольники и замерли, перехватив ружья на изготовку; расчехленные знамена волнующе захлопали на ветру.
Сергей Иванович зацепил горсть снега и пожевал. К нему подошел Щепило, увязая в сугробах, а затем Кузьмин с обнаженной саблей.
– Я бы сейчас съел лимбургского сыра, – сказал Щепило.
– А я страсбургского пирога, – добавил Кузьмин. – У Диаманта навынос отличные пироги.
Сергей Иванович выплюнул снег и заговорил:
– Я вот о чем думаю, господа: какое тут к черту может быть сражение, когда снегу по пояс?! Атаковать противника невозможно, обойти противника тоже невозможно… Зимой надо на печке сидеть, а не воевать!
Тем не менее гусары генерала Гейсмара уже настолько приблизились к порядкам Черниговского полка, что различались вензеля на их ташках[68] и кокарды на киверах. Вскоре перед фронтом гусар показались орудия на ярко-зеленых лафетах; тяжело засветились стволы, тут и там потянулись вверх ниточки дыма от фитилей.
– По местам, господа офицеры! – скомандовал Сергей Иванович, но Кузьмин и Щепило не успели сделать даже шагу, как грянул залп.
Щепило нелепо подскочил и обрушился в снег, выставив огромную дымящуюся рану на животе, а Кузьмин так резко упал на колени, как будто у него внезапно отнялись ноги, и, схватившись за правое плечо, жалобно застонал. Муравьева-Апостола картечной пулей задело в голову, и правую половину лица тут же залила кровь. Оттерев ее с глаз, он вытащил шпагу и, обернувшись к черниговцам, закричал:
– Ребята! За волю и отечество, вперед! Ура!
Солдаты стройно отозвались и двинулись на неприятельские орудия, проваливаясь в снегу. Прозвучал другой залп: роты дрогнули, потянулись назад, оставляя в поле неподвижные фигуры раненых и убитых, а затем побежали, разрушив строй. Гусары с посвистом бросились им вдогонку.
Иван Иванович Сухинов бежал вместе с мушкетерами второй роты в направлении деревни Пилиничинцы, которая выходила в поле огородами и садами. На пути встал глубокий овраг; Иван Иванович съехал в него немного впереди мушкетеров, зарылся в снег и притих, мучаясь колотьем в боку, одышкой и радужными пятнами, которые, как нарисованные, стояли перед глазами. Гусары, достигнув края оврага, остановились и стали звать:
– Вылазьте, ребята, все равно ваше дело табак!
Черниговцы, сидевшие на дне оврага по пояс в снегу, отвечали им шутками:
– Ловкие больно!..
– Давай лучше вы к нам, господа гусары! У нас тут и компания, и не дует.
– Да мы бы рады с вами заодно, кабы не та причина, что вы выходите глупые дураки.
– Это почему же мы дураки?
– А как же не дураки?! Взялись бунтовать, так бунтуйте по-настоящему, а не то что таскаться по деревням у девок подолы обрывать! А ну вылазьте, собачьи дети, не то на месте перестреляем!
Черниговцы скрепя сердце один за другим стали выкарабкиваться из оврага.
Иван Иванович Сухинов остался лежать в снегу, от страха внимательно прислушиваясь к стуку в груди и сдерживая дыхание. Он очень надеялся на то, что гусары его не заметят, и они его действительно не заметили, а мушкетеры выдать своего командира не пожелали; единственно унтер-офицер Шутов, минуя его, сказал:
– Прощайте, ваше благородие! Дай вам Бог избежать нашей несчастной участи!..
Вскоре голоса, скрип снега, фырканье лошадей стали удаляться, удаляться и наконец совершенно растворились в подозрительной тишине. Только вороны каркали вдалеке, со стороны деревни доносился лай собак да печально подвывал ветер.
Иван Иванович на всякий случай просидел в овраге до темноты и, когда видимость скрыла сырая мгла, сторожко направился в Пилиничинцы и попросил приюта в первом же крестьянском дворе. На другой день он пошел в соседнее село Гребенки, где жил один знакомый поляк, далее в Каменку, где обретался отставной полковник Давыдов, член тайного общества, потом в Александрию, где гражданским чиновником служил его брат, помогший обзавестись подложными документами, оттуда в Кишинев, где уже были расклеены правительственные афишки с приметами государственного преступника Сухинова, а из Кишинева в направлении русско-турецкой границы, которая тогда проходила по реке Прут. Выйдя однажды утром на берег Прута, Иван Иванович оперся о борт рыбацкой долбленки и призадумался, вперевшись взглядом в турецкий берег. От свободного и относительно безбедного жития его отделяли всего-навсего несколько десятков метров холодной зыби, но турецкий песок на том берегу, турецкий тальник, турецкие ветлы, турецкая даль, совсем не интересная, не тревожная, а какая-то двусмысленная, смотрели неприветливей казематов. А спину, точно нарочно, трогал приятный ветер, в котором, наверное, было что-то от дыхания товарищей, сидевших по крепостям, запаха веселых хохлушек и мамашиных причитаний. Иван Иванович постоял-постоял и пошел назад.
В деревне, населенной мелкими торговцами, рыбаками и контрабандистами, он заглянул в корчму, спросил простой водки и стал смотреть в маленькое окошко. Вскоре после того как ему подали водку, в корчму невзначай забрел капитан-исправник; некоторое время он прилежно изучал Ивана Ивановича в фас и профиль, затем исчез, а через полчаса появился в сопровождении генерала Желтухина, который, вероятно, страдал одышкой, ибо он постоянно делал губами «б-р-р».
– Кто таков? – спросил генерал.
– Офицер Черниговского полка. С радостью отдаюсь в руки правительства; мне тягостно мое положение…
– Чему тут радоваться, милостивый государь? Ведь впереди-то Сибирь! – сказал генерал и сделал губами «б-р-р».
– И в Сибири есть солнце.
Летом 1826 года следствие по делу декабристов было закончено. В доме коменданта Петропавловской крепости, в небольшой комнате с высокой голландской печью, подсудимым объявили приговор, который, соображаясь с тринадцатью степенями виновности, сочиненными премудрым Сперанским, подвергал государственных преступников всем мыслимым наказаниям – от смертной казни четвертованием до высылки из столицы. Приговор не без артистизма зачитывал белокурый молодой человек, которого декабристы частенько видели на пирушках. Якубович, подмигнув товарищам, сказал ему «драгунаду», и все заржали.
В ночь на 13 июля осужденных собрали на крепостной площади и привели в исполнение первую часть приговора: посрывав мундиры со всеми регалиями, подвергли гражданской казни, то есть поломали над головами сто двадцать одну предварительно подпиленную шпажку, что должно было символизировать лишение чинов, дворянства и всех прав состояния. Когда перед этой процедурой еще раз зачитывали приговор, Михаил Лунин сказал:
– Cette belle sentence doit кtre arroseй[69], – и стал расстегивать панталоны.
Той же ночью предполагалось повесить Павла Ивановича Пестеля, Кондратия Федоровича Рылеева, Петра Григорьевича Каховского, Сергея Ивановича Муравьева-Апостола и Михаила Павловича Бестужева-Рюмина[70], но сначала пропала перекладина сборной виселицы, которую по дороге из мастерской потерял подвыпивший ломовик, вследствии чего военного инженера Матушкина, ответственного за ее постройку, разжаловали в рядовые, потом веревки оказались короткими, и казнь совершилась уже наутро. Новые веревки были гнилые, и Рылеев, Муравьев-Апостол, Каховский с виселицы сорвались. Сергей Иванович так сильно расшибся, что в сознание не пришел, Рылеев траурно съязвил на тот счет, что-де в России даже повесить и то путем не умеют, Каховский ругался матом. Палач Степан Сергеевич Карелин, бывший ямщик, взятый в палачи из острога, где он сидел за кражу салопа, слушал Каховского, пристально склоняя голову, и говорил:
– Так!.. Правильно!.. Это по-нашему!..
На понтонном Троицком мосту в совершенной тишине стояла толпа заинтригованных горожан, наблюдавших казнь на почтительном расстоянии. Только после того, как единожды и дважды повешенных вынули из петель, сняли с них саваны, погрузили в телегу и увезли в училище торгового мореплавания, откуда впоследствии переправили по воде до острова Голодай, где и похоронили, в толпе начали робко обмениваться впечатлениями:
– Ну, кажется, начали бар вешать, помогай бог!
– Пуще всего жаль, что кнутом никого не отодрали, как нашего брата, домотканого мужика!
Тем временем готовились уже в дальнюю дорогу фельдъегерские экипажи, которым предстояло доставить осужденных через Нечерноземье, Заволжье, Урал, мучительные сибирские просторы – в остроги, деревеньки и рудники. Многие русские семьи в двадцать шестом году не досчитались своих мужчин, точно война или чума прошлись по России. Один граф Григорий Иванович Чернышев потерял на происшествии 14 декабря сына Захара, дочь Александрину, жену Никиты Муравьева, разделившую его нерчинскую голгофу, племянника Федора Вадковского и целую компанию свояков.
Между тем расправа над тайным обществом вызвала у нации некоторым образом токсикоз, и ретивая ее часть ударилась в доносительство. Писали царю:
«Ваше императорское величество, великий государь Николай Павлович!
Объявление
По истинной правде и необлыжно свидетельствую и доказую на некоторых извергов, который главный всему делу есть подрядчик печник Иван Федоров сын Семаков – живет в Апраксином переулке в доме Конькова с его родным зятем и прочими. Во время происшествия в четырнадцатый день бунту Семаков рабочих печников множество напоил и посылал на площадь бунтовать и бунтовщикам давал своих лошадей ездить в полки. И сам два раза ездил к лейб-гренадерам и в экипаж гвардии, известия о заговоре переносил, о чем я прошу ваше императорское величество оного Семакова взять на испытание, ибо окажется виновным сей зловредный человек. И не отложите вдаль, прикажите вскорости взять ».
Младший брат осужденного Дмитрия Иринарховича Завалишина, Ипполит, достигнув вплавь Елагина острова, лично представил императору Николаю донос на брата, которым разоблачил его как шпиона в пользу нескольких государств, о чем, по его словам, свидетельствовали мешки с английским золотом и гессенским серебром, спрятанные на квартире у Дмитрия, в тайном чулане, справа от бочонка с прованским маслом. Донос оказался ложным, и младшего Завалишина, разжаловав в солдаты, отправили в Оренбург. Дорогой он состряпал доносы на: командира внутренней стражи, нескольких родственников, профессора Казанского университета, одного гражданского губернатора, двух офицеров и двух подданных испанской короны, а по прибытии в Оренбург организовал тайное общество из восьми человек с тем, чтобы единственно его выдать, выдал и снова попал под суд. Во время следствия он отправил донос на председателя суда, в результате чего тот скоропостижно скончался от апоплексического удара.