Дом Солнц Рейнольдс Аластер
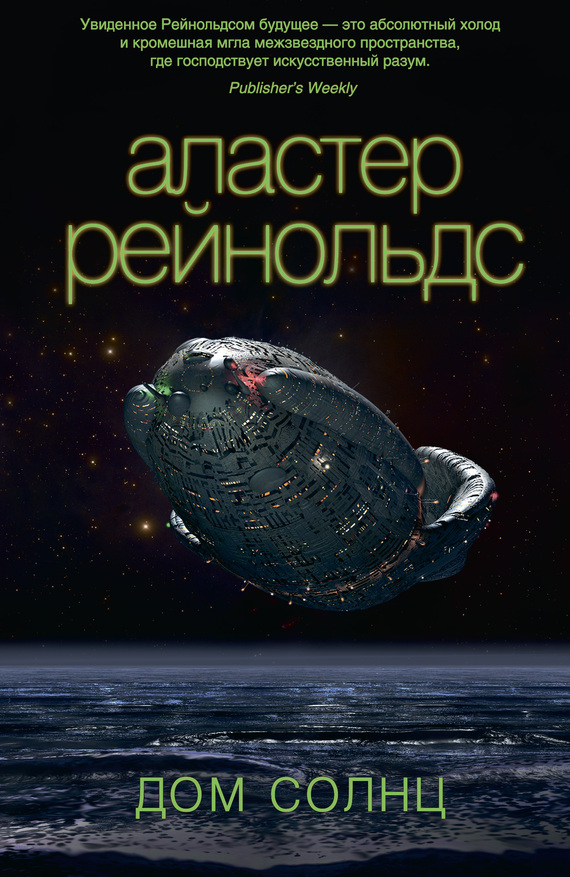
Наутро, еще до завтрака, я столкнулась с роботами.
— Мы слышали горестную новость, — начала Каденция.
— Горестную и печальную, — добавил Каскад. — После всех несчастий потерять еще одного шаттерлинга… Глубину нашего сочувствия словами не передать.
— Спасибо, — отозвалась я.
— Будет какая-то церемония? — спросила Каденция.
— Да, похороны пройдут завтра или послезавтра. Минуарцию обследуют — просканируют мозг, — а потом сразу похоронят.
— На похороны допускаются только шаттерлинги? — спросил Каскад.
— По традиции — да, но на сей раз мы ей вряд ли последуем. Думаю, участие примут и гости — все мы жертвы бойни, и все, включая вас и имирийцев, знали Минуарцию. Должно получиться очень необычно — у нас тела не хоронят. Шаттерлинги гибнут вдали от дома, в тысячах световых лет от собратьев. Не появившихся на одном сборе считают пропавшими, а на двух подряд — погибшими. В таком случае организуются похороны и кому-то поручают изготовить памятник. Поскольку с момента смерти проходит, как минимум, цикл, похороны превращаются в поминки или день памяти. А Минуарцию ждет настоящее погребение — боль и горечь еще не притупились.
— Если нужна наша помощь, пожалуйста, обращайтесь, — сказала Каденция.
— Я передам Чистецу. Он наверняка уже вовсю готовится.
Если роботы уловили горькую иронию — мое недовольство тем, что важные решения принимает один Чистец, — то тактично не показали виду.
— С учетом последних событий наш отлет стоит отложить. Мы по-прежнему полны желания скорее отправиться в путь, но при этом хотели бы отдать последний долг Минуарции. Разумеется, если Линия позволит.
— Несомненно, позволит. Вы молодцы, что приспосабливаетесь к обстоятельствам.
— Мы видели, с каким уважением вы относитесь к Гесперу, — сказала Каденция. — Самое малое из того, что мы можем сделать, — ответить взаимностью.
Я поблагодарила роботов за доброту.
Завтрак стал настоящей мукой. Каждому хотелось выговориться, но нарушить тишину никто не решался. Даже Чистец помалкивал почти до самого конца. Всех терзало подозрение, что убийца Минуарции сидит за этим самым столом и корчит из себя убитого горем.
— Похороны состоятся завтра, — наконец проговорил Чистец, и сперва показалось, что на этом все, но он потер подбородок и добавил: — Сегодня Волчник продолжит допрашивать пленных. Недавние события подталкивают к активным действиям, поэтому я дал ей разрешение вывести обоих из стазиса.
— Мы их потеряем, — предостерег Лихнис.
— Придется рискнуть, хотя, по-моему, это маловероятно. Камера Синюшки в куда лучшем состоянии, чем камера Бархатницы. Я считаю, что у нас великолепные шансы успешно разбудить по крайней мере одного из них. — Чистец насупил брови и заглянул Лихнису прямо в глаза. — Если ты настроен так же, как в прошлый раз, тебе лучше не присутствовать.
— Пусть приходит, если есть желание, — вмешалась Волчник, вытирая пальцы салфеткой, — лишь бы больше не лез.
— Делай что хочешь, — покачал головой Лихнис. — Я найду занятие интереснее, чем смотреть, как ты терроризируешь и пытаешь пленных.
— Раз добровольно они ничего не рассказывают, у меня нет выбора. — Волчник свернула салфетку и положила ее на стол. — В любом случае спор уже неактуален. Как сказал Чистец, первая стадия допросов закончена. К обеду у меня будут проснувшиеся живые пленные, по крайней мере один.
— Если не повезет, ни одного не останется.
Волчник пригвоздила Лихниса немигающим взглядом:
— Аппарат для рассечения готов. Буду очень рада, если ты придешь посмотреть.
— Мы все придем, — пообещал Чистец. — Сегодня никаких отговорок, отсутствовать вправе лишь те, кто в патруле. Портулак, тебя это тоже касается.
— Скоро ты начнешь указывать мне, когда дышать, — съязвила я.
— Я хочу, чтобы все присутствовали. Мы станем наблюдать за реакцией, и увидим, кому не по себе.
— Мне будет не по себе, — сказал Лихнис.
— Дерзить сейчас не время, — предупредил Чистец.
Лихнис пожал плечами и поднялся — он все сказал. Вслед за ним я отошла к перилам террасы, подальше от чужих ушей. Тем утром мы едва разговаривали. Я проснулась на заре, а Лихнис уже сидел на балконе и смотрел на темно-серебристые дюны. Глаза у него покраснели от слез.
— Мы справимся, — сказала я ему сейчас.
Лихнис сжал мою ладонь:
— Пытаюсь себя в этом убедить, но не могу. Мне проще поверить, что завтра Линии Горечавки наступит конец.
— Именно сейчас нужно быть сильными. Предрассветный час самый темный — и так далее.
— Можно и без избитых фраз, — буркнул Лихнис и отвернулся.
— Избитые фразы вроде этой есть у любой цивилизации — и не зря. Порой нужно просто делать свое дело и верить, что жизнь наладится. Иначе не уцелеть. В истории миллионы раз случались кризисы, которые усугубились бы, если бы люди смирились с неизбежным. Иные уничтожили бы человечество, если бы отчаянные, безумные оптимисты не цеплялиь за соломинку надежды.
— Честное слово, Портулак, я цепляюсь. Только соломинка с каждым днем все тоньше.
— Значит, нужно крепиться и ждать перемен к лучшему. Они обязательно наступят. Минуарцию очень жаль. Но это хотя бы свидетельствует, что мы напали на след. Кто-то испугался настолько, что уничтожил ее. Убийство доказывает, что она слишком глубоко копнула.
— Теперь получается, что Минуарция старалась напрасно.
— Нет, ее работу продолжит другой шаттерлинг. Минуарция была лучшим кандидатом для восстановления твоей нити, но это не значит, что никто, кроме нее, не справится. Просто уйдет чуть больше времени.
— А может, именно это и нужно предателю — чуть больше времени, а потом будет не важно.
Я переступила с ноги на ногу, не представляя, как на такое реагировать:
— Лихнис, я знаю, что ты чувствовал к Минуарции. У тебя, наверное, сердце разрывается.
— Ты ненавидишь меня за это?
— За то, что она тебе нравилась? С моей стороны ненависть говорила бы о мелочности, особенно сейчас. Минуарция была гордостью нашей Линии и редкой красавицей, не думай, что я не в курсе. Сложно упрекать тебя за восхищение ею.
— Как хорошо, что у меня есть ты! Мои чувства к Минуарции не идут ни в какое сравнение…
— Знаю, — перебила я и приложила палец к его губам. — Об этом можно не говорить. Ни сейчас, ни вообще. Главное… чувствуй, ладно? Чувствуй и не уходи.
— Я никуда не собираюсь, — проговорил Лихнис.
Часть пятая
В руках я держала письмо, написанное на тончайшей бумаге, бархатной, как ухо щенка, пахнущей нежно, как постель куртизанки. Письмо благоухало сиренью, миндалем и редкими специями Далеких островов и архипелага, что лежал на самом краю света, за Королевством и соседними империями, за Щитовыми горами и омывающими их морями, за опасными водами Океана Белого Чудища. Черную восковую печать украшала решетка из костей — эмблема графа Мордекса, придуманная, чтобы пугать и выбивать из колеи. Я сломала печать ногтем — сердце бешено застучало в ожидании вестей.
Предчувствие не обмануло — эти слова очень точно передают переживания. Письмо действительно написал мой сводный брат, граф Мордекс. Он не изменил изысканному стилю и повелительному тону и на сей раз. Любовные письма граф писал в том же ключе, что смертные приговоры. Сегодняшнее послание не было ни тем ни другим.
В письме говорилось, что мою фрейлину, пленницу графа, казнят, если я не сообщу, где находится Калидрий. Казнят ее способом, «соответствующим» моему упрямству. Если приму меры в течение ближайших часов — спасу ее, если до конца дня — облегчу страдания, а если промедлю — обреку на мучительную гибель.
— Я не могу так поступить, — сказала я мажордому Добентону.
Разговор происходил в зале, где обычно заседает военный совет, у массивного дубового стола, заваленного картами, планами, акрами тяжелого пергамента и кожи. В зале были темные стрельчатые своды, а зарешеченные оконца якобы охлаждали пыл шпионов и убийц. Свечи едва разбавляли гнетущий мрак. Ничего хорошего в этих стенах не замышляли — одни наказания да смерть. Рядом с Добентоном стоял главный стражник Цирлий.
— Как я предам Калидрия после того, что он для нас сделал?
— Миледи, вы при всем желании не предадите Калидрия, — молвил Цирлий, поглаживая багровый шрам, напоминание о давней дуэли. — Даже лучшим шпионам моим неведомо, где скрывается чародей. Такова его воля — исчезнуть и для врагов и для друзей.
— Калидрию должно жить в людном месте, — напомнила я. — В этом его сила и его слабость. Ни один из чародеев не сравнится с Калидрием. Только магия — стихия особая, она заражает разум тех, кто ее использует. Один чародей чувствует разум другого чародея, пылающий, словно маяк во тьме. Единственный способ укрыться — окружить себя народом. Магия есть в каждом. Наши умы не сияют так ярко, как у Калидрия, но способны его замаскировать. В городе, большом или малом, даже в деревне, скроет Калидрий свой ослепительный разум среди слабо мерцающих разумов соседей. Быстро его не найти никому, даже другому чародею. В этом его сила. Но в этом же и слабость, ибо странствия, хоть и со свитой, становятся опасны. Если некто, подобный Мордексу, замыслит разыскать Калидрия, ему придется истребить не одну деревню Королевства, пока чародей себя не выдаст.
— Нам уже докладывают о разбойниках, поджигающих деревни у восточной опушки Леса Теней, — сказал Добентон. — Они являются с востока, говорят по-бандитски грубо…
— Не сомневаюсь, что это люди Мордекса, — сокрушенно кивнула я. — Не сомневаюсь и в том, что они не пощадят ни одну деревню, где, по их мнению, может скрываться Калидрий. Наша армия ослаблена, нам каждое селение не защитить. — Я отложила ненавистное послание, мерзкое надушенное письмо сводного брата. — Не могу допустить, чтобы сжигали ни в чем не повинных людей. Граф Мордекс казнит мою фрейлину, но разве он на этом успокоится?
— Боюсь, миледи права, — проговорил Добентон. — Только что это меняет? Калидрия нам не разыскать.
— Я разыщу.
— Каким образом? — осведомился Цирлий.
— Людмила даст мне схемы кораблей, — ответила я.
Добентон нахмурился:
— Миледи?
Я устыдилась своего детского выпада, хотя слова вырвались сами собой. Людмила Марцеллин, принцесса другого королевства, властительница небесных кораблей и летающих замков, жила в моих снах.
В реальности ей не место.
— Прошу прощения. От недосыпания ерунду болтаю.
— Ничего страшного, миледи, — отозвался Цирлий. — Но касательно Калидрия…
— Я найду его. Прежде чем исчезнуть, Калидрий сделал мне подарок. — Из складок платья я извлекла вышитый прямоугольник набора для рукоделия.
Добентон и Цирлий опасливо на него взглянули, не понимая, в чем дело. Я открыла набор и разложила на коленях. Иглы, булавки, наперстки и вышивка были там, где я их оставила.
— Миледи! — снова окликнул меня Добентон.
Я потянулась к кармашку с иглами и вытащила самую маленькую, которую никогда не использовала при шитье:
— Вот что мне подарил Калидрий. — Я подняла иглу повыше, и она замерцала в неровном свете свечей. — На первый взгляд самая заурядная игла, но это не так. На нее Калидрий наложил заклинание кровной связи.
— Я о таком не слышал, — признался Цирлий.
— И я тоже до некоторых пор. Это магическая уловка. Калидрий понимал, что ему нужно исчезнуть, поэтому и спрятался средь бесталанных простолюдинов. Но мудрость подсказывала ему: в один прекрасный день он очень понадобится Королевству. Придет тяжелая пора, когда нас спасет только магия.
— Магия Калидрия едва не расколола наш мир пополам, — напомнил побледневший Добентон.
Я не могла не согласиться. Темная сила Калидрия распахнула врата ада.
— Так, может, его магия спасет наш мир, когда его раскалывает другая сила? Калидрий это предчувствовал. Он далеко не глуп и лучше всех в Королевстве осознавал опасность. Однако он дал мне иглу кровной связи. Она поможет мне его вызвать. Стоит уколоть палец, выдавить капельку крови — и Калидрий услышит мой зов.
— Но как?
— Невидимая игла уколет ему палец и пустит кровь. Калидрий почувствует это, обратит взор на Облачный Дворец и поймет, что нужен мне.
— Вы готовы его вызвать? — спросил Цирлий.
— Других вариантов нет, — проговорил Добентон.
— Секунду назад вы не были так уверены, — напомнила я.
— Лучше дать свободу магии, чем смотреть, как облавы графа Мордекса губят Королевство, — устало пожал плечами Добентон. — Конечно, мы из двух зол выбираем меньшее, но альтернативы я не вижу.
— Потому что ее нет, — подсказала я. — Нам нужен Калидрий.
— Чтобы выдать Мордексу в обмен на фрейлину и безопасность наших деревень? — спросил Цирлий. — Вариантов впрямь нет? А что Реликт, тот нерадивый ученик, паршивая овца? Он ведь у нас под стражей. Реликт нас не выручит?
— Я пообещала Калидрию, что даже в самый недобрый час не обращусь к Реликту. Калидрий не доверял своему ученику. Магический дар Реликта он считал темным и извращенным.
— алидрий не мог предвидеть наших нынешних бед, — заметил Цирлий.
— Это несущественно. Я не намерена выдавать Калидрия Мордексу. Граф своих обязательств по договору ни за что не выполнит. Уж я его знаю. Одно время нас с ним хотели поженить.
— Миледи, граф Мордекс — ваш сводный брат, — тактично напомнил Добентон.
Замешательство на миг спутало мне мысли. Я не сомневалась: нас с графом хотели поженить, пока закулисная политика не сделала помолвку невозможной. Откуда я могла знать его голос, его манерность и неумение держать слово, если не входила в ближайшее окружение Мордекса на правах будущей супруги?
— Он прилетал ко мне играть… — Я осеклась, почувствовав, сколь нелепы мои слова. — Я помню его корабль, роботов…
— Миледи нужно выспаться, — проговорил Добентон. — До полного изнеможения довела она себя заботами о своем народе.
Цирлий молча смотрел на меня. Я не знала, о чем он думает.
— Калидрий должен вернуться, — увереннее прежнего сказала я. — Не для того, чтобы мы обменяли его на фрейлину, а чтобы использовать магию против Мордекса. Какого чародея им ни выдай, наши враги из Черного Замка могут нарушить свои обещания.
— Истинная правда, — согласился Добентон.
— Я отдаю отчет в том, что говорю, и настроена решительно. Время пришло.
— Решать вам, миледи, — проговорил Цирлий.
— Да, — отозвалась я. — Да будет так во веки веков.
Я уколола палец иглой кровной связи и выдавила чисто-алую каплю. Больно не было. Где-то в Королевстве Калидрий, могущественнейший из чародеев, прочувствовал боль за двоих.
Глава 21
— Ты же неглуп, — сказала Волчник нарочито громко, чтобы слышали все собравшиеся, хотя она обращалась к пленному. — Опыта тебе не занимать — многое в жизни повидал. Ты прекрасно понимаешь, какую участь я тебе уготовила.
— Так давай к делу, — отозвался Синюшка. — Ты уже надоела мне до смерти.
Допрос проводили на свежем воздухе — на одном из самых больших балконов имирской башни. Синюшку вывели из стазиса. Шаттерлингу Бархатницы повезло меньше — он превратился в кучку пепла, а вот Синюшка уцелел. Как и предполагала Волчник, его стазокамера была в лучшем состоянии, чем три другие. Переход в реальное время он выдержал без проблем и теперь, в прямом и переносном смысле, оказался в руках Горечавок.
Точнее, оказался на несколько минут. Опасаясь, что Синюшка лишит себя жизни или возможности полноценно отвечать на вопросы, Волчник распорядилась поместить его в ограничитель — стойку сложной конструкции, жесткий каркас с прозрачным параллелепипедом из механогеля, — в который Синюшку, теперь раздетого, усадили силой. Ограничитель позволял дышать и общаться, а выбраться из него пленник не мог. Предположение об имплантированном устройстве для самоубийства мы отмели сразу — Синюшка активировал бы его еще в стазокамере, когда ради допросов уменьшали кратность сжатия времени.
Аппарат для рассечения поставили в центр балкона, подсоединив ограничитель, в котором сидел Синюшка. Над ограничителем повисли вертикальные стеклянные панели, каждая длиной и шириной с жесткую стойку. Расположились они правильным кругом, над каждой — серая перекладина с фланцем и леваторами. Панели могли выполнять элементарные команды Волчник. Все это синтезаторы изготовили по древним чертежам.
Механогель, проникнув Синюшке в легкие, действовал на нервную систему, поставлял воздух и информацию, позволял дышать, двигаться, правда до определенных пределов, и слышать вопросы. Мы видели, как вздымается его грудь, как его глаза следят за Волчник, расхаживающей взад-вперед.
— Трех твоих сообщников я уже убила, — начала она. — Я и тебя убила бы без колебаний, да ситуация изменилась. Погибла наша сестра. Ее уничтожили, потому что она докопалась до важной информации. Поэтому тебя я не убью, то есть пока не убью — сперва выжму все соки, а там, глядишь, и интерес потеряю. Ты для меня — ничто, лишь хранилище известных тебе сведений. Их я из тебя выбью, если не сразу, то постепенно.
— Делай что хочешь — ничего у тебя не получится.
— Опустить панель! — скомандовала Волчник, глянув в сторону.
Одна панель тотчас отделилась от группы и опустилась до самого ограничителя. На миг она замерла в этом положении, потом по команде Волчник двинулась дальше — пробила невидимое стекло и, словно острый нож, прорезала механогель. Саму панель мы почти не видели, только бледный опускающийся край.
— Ты почувствуешь, как тебя пронзает, — пообещала Волчник пленному. — По-настоящему больно не будет — нервные окончания восстанавливаются сразу после повреждения. Зато неприятные ощущения гарантирую — сквозь тебя словно холодный фронт пройдет, да еще с острыми краями. Когда панель опустится, у тебя не останется сомнений, что часть тебя с одной стороны от нее, часть — с другой.
Панель двинулась Синюшке сквозь череп: лицо осталось с одной стороны, затылок и уши — с другой. Ползла она медленно, примерно на один сантиметр в секунду, но не плавно, а будто периодически сталкивалась с биоструктурами поплотнее и посложнее.
Я знал, что толщина устройства не превышает микрона, но Синюшку оно рассекало не хуже металлической гильотины. Тот не умер, более того, продолжал мыслить, хотя его мозг разрезали пополам. Стекло практически не нарушало основные биофункции — они выполнялись сквозь него, будто сохранилась целостность мозга. Наверное, не много биоматериала проникало сквозь стекло в целом виде, — скорее, он распадался на атомы или простые молекулы, поглощался подвижной самоадаптирующейся матрицей и восстанавливался по другую сторону от него в соответствии с нарушенными циркуляторными паттернами. То же самое касалось электрических и химических сигналов, связанных с синаптической функцией.
Панель прорзала голову и двинулась дальше, к плечам и верхней части груди. Синюшку слегка перекосило, хотя это можно было списать на плывущие над балконом облака и игру светотени. Механогель позволял ему напрягать мышцы ровно настолько, чтобы на лице отразилось волнение или страх от происходящего с ним. Даже реши он сейчас заговорить, для Волчник мало что изменилось бы.
С благоговейным ужасом я наблюдал за рассечением до самого конца. Панель коснулась нижнего ограничителя и замерла. Бледные края мы больше не видели, и казалось, что Синюшка цел. Разумеется, только казалось. Один жест Волчник, и он распался на половины — переднюю и заднюю. Половины отогнулись в разные стороны, и Синюшка раскрылся для нашего обозрения, словно богато иллюстрированная книга. Похоже, панель раскололась на две тонкие пластины, каждая из которых удерживала красно-бело-багрово-розовый слой костей, плоти и сухожилий. Видимые части ничем не отличались, повторяя друг друга в зеркальном отражении. Но зеркало было живым — Синюшка еще дышал. За стеклом просматривались вздымающаяся грудь, очертания плевральной полости, работающее сердце, напоминающее бутон, который раскрывался и закрывался, как при ускоренной съемке.
Рассеченное тело мы разглядывали еще минуту, потом Волчник развернула переднюю половину на сто восемьдесят градусов — теперь Синюшка смотрел на свою заднюю половину.
— Это ты, — проговорила мучительница, показывая на красно-бело-багрово-розовый слой за прозрачной панелью — чем не анатомическая таблица? — Это не проекция, а ты, рассеченный посредине и зафиксированный стеклом. Принципиально важно, чтобы ты понимал суть происходящего. Если понимаешь, кивни — механогель позволит сделать это движение.
Думаю, Синюшка не мог не кивнуть или его заставило кивнуть устройство, к которому его привязали. Передняя часть шевельнула головой, задняя повторила это движение без ощутимой задержки. В итоге задняя половина наклонилась вперед, к стеклу, и мы увидели безостановочно шевелящийся мозг в поперечном разрезе.
— Это последнее сознательное движение в твоей жизни, — сказала Волчник. — Ты будешь дышать, кровь будет циркулировать по телу, но шевелиться ты не сможешь. Разумеется, предложение ответить на вопросы еще в силе — мне нужно лишь твое согласие. — Волчник повернулась к нам и, явно играя на публику, добавила: — Рассчение продолжится, пока ты не превратишься в сотню тонких слоев, разделенных стеклом. Уверяю, я готова на такое. Ты можешь остановить меня в любой момент, если внятно ответишь на наши вопросы.
— Сказать мне нечего, — отозвался Синюшка; голос у него не изменился, что удивляло, ведь говорила только половина.
Волчник кивнула, словно ждала именно такого ответа.
— Останови ты меня сейчас, я расстроилась бы, — проговорила она.
Еще две панели отделились от группы и зависли над половинами Синюшки, параллельно первому сечению.
Раз! — и Волчник снова разрезала пленного, потом еще и еще. Число истончающихся слоев увеличивалось в геометрической прогрессии.
Я встал, чтобы уйти. Думал, что решился на такое одним из первых, но увидел, что Портулак меня опередила.
Когда объявили, что мозг Минуарции просканирован, ее тело вынесли на парящую платформу, которую слегка наклонили вперед, чтобы все убедились, что наша сестра погибла, и увидели ее раны. Тело почти не изменилось с тех пор, как мы его нашли, только поза стала другой — теперь казалось, что Минуарция отдыхает. Под простыней угадывались очертания ее конечностей — руки положили вдоль тела, ноги выпрямили, торчавшие кости вправили, раны очистили от крови. Лица у несчастной почти не осталось, но, судя по наклону головы, Минуарция выжидающе смотрела в вечернее небо. В сопровождении четырех шаттерлингов платформа остановилась у похожей на стол глыбы и медленно опустилась на нее. Остальные встали полукругом, подняли факелы и неспешно приблизились. Нас было не пятьдесят один, а только пятьдесят: одного — сегодня настал черед Клевера — отправили в патруль. А вот факелов было пятьдесят один, по одному на каждого выжившего плюс один запасной, который передавался из рук в руки в знак уважения отсутствующего.
Приглашенные на похороны — шаттерлинги других Линий, наши гости, высокопоставленные лица из Имира и других городов Невмы — стояли в почтительном отдалении, выстроившись на круглом постаменте. Они явились в трауре, мы тоже оделись соответствующе — во все черное с черными же вышитыми цветами в качестве единственных знаков различия, которые совершенно не бросались в глаза. Портулак зачесала волосы назад и заколола простой заколкой-цветком. Как и другие сестры, она пришла без макияжа и украшений. Было холодно, но мы запретили одежде нас греть и поддерживать факелы. Мой факел оттягивал руку — чем дольше он светил, тем тяжелее казался.
Я не удивился, что говорить вызвался Чистец, и в кои веки не упрекал его за желание высунуться. Минуарцию я знал не хуже остальных, хотя близким другом ей не был — те погибли в бойне, я же в лучшем случае считался хорошим знакомым. Чувствуя некую связь с Минуарцией, я верил, что порой понимал ее, как никто другой. Только не хотелось обижать Портулак, рассуждая о своих чувствах к погибшей. Между нами не было ничего, кроме тени шанса, а сейчас не стало и ее. К тому же традиции Линии я знаю не так хорошо. Мы с Портулак правильно объяснили роботам: похороны, подобные нынешним, чрезвычайно редки. Обычно нет ни тела, ни исчерпывающих доказательств гибели шаттерлинга.
Речь Чистеца была недолгой. Он подчеркнул, что гибель Минуарции бросает тень на остатки Линии, что обстоятельства гибели выясняются и могут привести к неприятным разоблачениям, но это не мешает ее помянуть. Минуарция многое повидала. Не счесть славных поступков, которые она совершила, и жизней, в которых оставила след. Нити воспоминаний она несла шесть миллионов лет. Ее любили, ею восхищались, ей завидовали. Чистец назвал с десяток важнейших вех в жизни Минуарции, не забыв и события далекого прошлого.
Как ни старался я возмутиться словами Чистеца, к своему вящему неудовольствию, ничего возмутительного в них не обнаружил. Позднее, когда на небе показали самые яркие моменты жизни Минуарции, я вспомнил его выступление и признался себе, что ничего не изменил бы и не добавил. Рассказ Чистеца получился как хайку — четким, ясным, отточенным, говорил он искренне, с уважением и любовью, о которой сам упоминал. Меня откровенно бесило, что Чистец стал командовать Линией, но, слушая его поминальную речь, я окончательно убедился: он не убийца.
После выступления Чистец стянул простыню с Минуарции, открыв ее страшные раны. Наша сестра лежала обнаженной, лишь на пальцах остались кольца. Содрогнулись все, даже те, кто уже видел ее тело после падения. Чистец отдал свой факел стоявшему рядом Церве, вытащил из кармана большой черный тюбик механогеля, выдавил немного на ладонь и помазал Минуарции руку — то место, где после падения торчали кости, прорвавшие кожу. Потом он отступил, передал тюбик Церве и забрал у него оба факела. Церва нанес механогель на помятый лоб и передал тюбик Горчице, который смазал блестящей массой живот Минуарции. Так продолжалось, пока к тюбику не приложились все присутствующие. Не знаю, как я оказался последним — либо случайно, либо шаттерлинги сообща решили доверить финальный аккорд мне. К тому времени несмазанным у Минуарции осталось лишь искореженное лицо. Нанося гель, я невольно коснулся жестких неровностей — из-под кожи выпирали хрящи и кости. Рыдать я себе запретил, и меня аж трясло от напряжения. Я отступил, забрал у Портулак свой факел, а руки все дрожали. Круг расширился, шаттерлинги на пару шагов отошли от неподвижного тела.
Когда я нанес свой мазок, механогель уже начал действовать. Он впитывался в тело Минуарции, залечивал раны. Раз! — и руке вернулась естественная форма, пальцы задрожали, словно Минуарция спала. Рана стала закрываться и там, где кости прорвали кожу. Вмятина на лбу разгладилась, разбитый нос выпрямился. Механогель не возвращал Минуарцию к жизни — для этого было слишком поздно. Хотя иллюзию жизни он создать мог — реанимировать труп, восстановить клетки, перезапустить их метаболический цикл. Покойница села бы, улыбнулась, начала бы ходить, говорить, смеяться. Только глаза ее не светились бы разумом, по крайней мере разумом Минуарции.
Пока механогель действовал и искореженный труп уподоблялся телу спящей женщины, над Имиром собралась наша эскадрилья. Корабли не кружили по орбите, а застыли за ионосферой Невмы, аккурат над местом похорон. Солнце уже село, но они были так высоко, что лучи касались корпусов, превратив эскадрилью в созвездие месяцев с ослепительно-ярким серебряным, золотым или алым контуром. Корабли выстроились квадратом, заняв тысячи километров космического пространства, активировали защитное поле и направили его вниз, в ионосферу, входящую в магнитосферу Невмы. Они мяли, загибали, растягивали силовую линию поля магнитосферы и окрашивали небо в пастельные тона. От горизонта к горизонту побежали светло-зеленые и нежно-розовые волны. Цвета усилились, почти скрыв из виду корабли, которые стали незаметными, беззвучными кукловодами. Они выпускали в атмосферу ионы, и те раскрашивали цветовые полотнища. Полотнища вспыхивали, мерцали, переплетались, кружились быстрее и быстрее, наполняясь новыми красками, пока не появились очертания, которые быстро переросли в картины: перед нами мелькали эпизоды из нитей Минуарции, набранные из архива ее корабля. Нам показывали поля, города, планеты, спутники — то, что доводится повидать каждому шаттерлингу. Самой Минуарции на картинах почти не было, от этого ее редкие появления воспринимались еще болезненнее. Она стояла спиной к нам, всегда вдали, на скале или высоком здании. Одна рука на поясе, другая заслоняет глаза от солнца — Минуарция упивалась бескрайним миром и жизнью человека, невероятно удачливой обезьяны. Голубовато-белые, как хвост кометы, волосы струились по плечам, словно их ласково колыхал солнечный ветер.
Пока мы смотрели подборку картин-эпизодов, которые корабли вывели на небо, механогель восстанавливал тело. Наконец блестящая оболочка закончила работу и соскользнула, ожидая новых заданий. Теперь позолоченная светом наших факелов Минуарция выглядела невредимой. Лицо дышало безмятежностью. Глаза были закрыты, но, казалось, один громкий возглас или смешок — и она стряхнет дрему.
Платформа оторвалась от каменной глыбы. Сперва она поднималась медленно — до уровня глаз ползла целую минуту, потом быстрее и быстрее. Факел до сих пор казался тяжелым, а тут словно таять начал. В какой-то миг он стал невесомым, а секундой позже рвался у меня из рук, точно его тянула невидимая нить. Другие шаттерлинги вцепились в свои факелы, чтобы не выпустить раньше времени.
— Отпускаем! — негромко скомандовал Чистец, и мы разом разжали пальцы.
Момент он выбрал бесподобно — факелы взмыли в небо огненным кольцом, которое не распалось, пока они не поравнялись с платформой. У всех шаттерлингов от напряжения болели руки. Мы вместе смотрели, как прямоугольник платформы тает в вышине и превращается в огненную точку.
До космоса Минуарция долетит не скоро. Нам же осталось пересматривать картины ее жизни и размышлять о том, сколько она для нас значила. Я чувствовал солидарность с каждым присутствующим, даже с Чистецом, даже с Волчник, даже с теми, кого считал ответственным за наказание Портулак. Однако я не сомневался: среди нас есть некто, кому не жаль Минуарцию. В каждом скорбном лице я искал фальшь, злорадное удовлетворение тем, что Минуарция устранена, но видел лишь искреннее горе.
Сегодня мы не просто прощались с сестрой. Ее похороны открыли в наших сердцах невидимую дверь, которую мы прежде не отпирали. Сегодня мы впервые оплакивали более восьмисот шаттерлингов, погибших в бойне. Настанет время — и каждому воздадут почести, как велят традиции, каждому соорудят памятник, но скорбеть можно и сейчас. Необычные похороны подействовали — я четче прежнего осознал, что сотворили с нашей Линией, впервые оценил истинный масштаб преступления и… содрогнулся от леденящего ужаса.
Наконец Минуарция долетела до космоса, соскользнула с платформы и начала падать в атмосферу Невмы. На наших глазах она прочертила в небе чудесную огненную линию. Сперва тонкая, линия обернулась нежно-голубой лентой, вспыхнула так, что мы зажмурились, медленно побледнела и рассыпалась на блекнущие красные стрелы. Атом за атомом таяло тело Минуарции, ее опыт, все, чем она была и могла быть, пока от нее не остался лишь образ в нашей памяти.
Корабли еще долго проигрывали эпизоды жизни Минуарции, но вот погасли и они. Магнитосфера Невмы обрела нормальную конфигурацию, а потемневшие корабли вернулись на орбиту. Шаттерлинги других Линий, наши гости и имирийцы стали расходиться, дрожа, хотя одежда наконец начала греть.
Похороны завершились. Мы проводили Минуарцию с почестями. Линии Горечавки следовало жить дальше.
Тем же вечером, когда Портулак легла спать, я стоял на балконе, вспоминал, как на небе проигрывались картины жизни Минуарции, выстраивал их в логической последовательности и гадал, что сказала бы она сама, если бы увидела это зрелище. Потом во мраке я почувствовал присутствие кого-то тяжелого, неуклюжего и услышал шорох, словно ковер терся о камни. Я огляделся, держа в руке пустой винный бокал. Полупьяный, я затерялся у размытой границы между ностальгией и черной трясиной меланхолии.
Это был Угарит-Пант, слоноподобный сверхчеловек, с которым я разговаривал вскоре после прибытия на Невму.
— Добрый вечер, господин посол! — Я приветственно поднял бокал. — Как вам наша церемония?
Угарит-Пант был в паре метров от моего балкона, но хоботом мог запросто хлестнуть меня по лицу.
— Получилось очень трогательно, — ответил он; под длинным, сморщенным, мерзкого вида отростком шевелились вполне человеческие губы.
— Минуарция была одной из лучших Горечавок. Я буду очень по ней скучать.
— Так же, как скучали бы по своей цивилизации, если бы она исчезла?
У посла едва получалось смотреть прямо на меня: глаза у него не спереди, а по бокам. Чтобы равномерно нагрузить оба полушария, ему приходилось коситься, поворачиваться ко мне то одним глазом, то другим.
Я попытался стряхнуть алкогольный туман.
— Иные личности для меня важнее целой Линии Горечавки. Если я прежде этого не понимал, то сейчас понял.
— Как не понять, если твоя Линия на грани вымирания!
Тон посла сильно меня задел. Я отступил от края балкона, вспоминая долгое падение тела Минуарции. Посол по особым поручениям Содружества Тысячи Миров не из мелких, он весит раз в двадцать больше меня, даже без учета тяжелых на вид доспехов и металлических украшений. Я под мухой становлюсь неловким, а о том, что в подобном состоянии натворит посол, и думать не хотелось. Я стал гадать, рассчитаны ли балконы имирийцев на такие крупные особи.
— Вымирание — это всегда страшно, — проговорил я с приторно-сочувственной улыбкой.
— Вот именно. — Угарит-Пант приблизился на шаг, точнее, на четыре, по одному каждой ножищей толщиной с дерево. Его зловонное дыхание обожгло мне лицо, словно открыли заслонку печи, полной гнилых фруктов. — Шаттерлинг, ты чуть не прокололся. А сам небось решил, что обошлось.
— Когда это?
— При нашей первой встрече. Ты мне посочувствовал.
— Неужели?
— Ты пожалел мою цивилизацию, уничтоженную аварией на звездамбе.
— Я ошибся — думал о Пантропической Цепи, совершенно другой цивилизации. Я даже спиральные рукава спутал!
— Ну конечно! Твоя ошибка сильно меня удивила. Ты говорил так уверенно, соболезновал так искренне, что я потерял покой.
Я огляделся по сторонам, отчаянно надеясь, что меня спасут:
— Да я ошибся.
— Не усугубляй свою ошибку ложью. В тот вечер я обратился к космотекам Линии Горечавки. Почему-то гостевой доступ был временно заблокирован. Наутро мне все объяснили: мол, к системе подключают новую группу выживших, вот и возникли проблемы с настройками безопасности.
— Ну, тогда не о чем беспокоиться.
— Это по-твоему, а я при первой же возможности проверил снова. И разыскал статью о своей цивилизации, Содружестве Тысячи Миров. В ней впрямь упоминалась звездамба, о которой мне прекрасно известно. Ее построили Горечавки. К моему облегчению, об аварии на ней в космотеке не упоминалось.
— Вот и славно, — отозвался я, старательно показывая, что хочу сменить тему.
— Меня грызли сомнения. Не в силах успокоиться, я разыскал статью о Пантропической Цепи. В жизни не слышал о такой цивилизации, а тут нашел вместе с сообщением, что ее уничтожило крушение звездамбы Горечавок. — Посол сильно наморщил широкий серый лоб — бреши между бронепластинами позволяли это разглядеть.
— Это единственная наша неудача.
— Ты уверен?
— В этом вопросе Горечавки не допускают небрежности. Линия гордится своим мастерством, а звездамбы — его воплощение. Даже с поправкой на ту единственную аварию мы спасли миллионы жизней, только… Только от этого не легче. Ничуть не легче.
— Шаттерлинг, я рад, что ты так рассуждаешь. Но, видишь ли, мои тревоги не улеглись. В голове мелькнуло: вдруг звездамба Содружества таки рухнула? Линия Горечавки поторопилась бы мне об этом сообщить?
— Мы не стали бы лгать. Рухни та звездамба, мы взяли бы на себя ответственность.
— А как насчет лжи во спасение? Вдруг Линия Горечавки в первую очередь беспокоилась о моем душевном здравии? Вдруг вы посчитали, что я не вынесу правды? Ну, что я теперь один во Вселенной, что стал последним представителем Содружества? Вдруг вы решили, что правда меня убьет? Разве тогда вы не солгали бы?
— Но Пантропическая Цепь…
Посол презрительно махнул хоботом:
— Это ложь, экспромт, сочиненный, чтобы прикрыть досадную оплошность.
— А космотеки?
— Насколько мне известно, данные космотек отредактировали, чтобы скрыть от меня правду. Я ведь обращался только к местным источникам: космотеки у вас на кораблях могли бы сообщить мне совершенно иное. Только иное было не для моих глаз. Мне следовало поверить вашей информации — не бросать же тень на честность Горечавок!
— Тут, пожалуй, вы правы.
— Но при желании всегда найдешь лазейку. Снедаемый томлением, я кое-что вспомнил. Для вас, шаттерлингов, очень важен Всеобщий актуарий. Вы и циклы свои планируете, и маршруты составляете с учетом информации порой тысячелетней давности.
— Либо так, либо монетки подкидывать.
— По мне, монетки перспективнее. Видишь ли, я уговорил одного из ваших открыть мне доступ к Всеобщему актуарию.
Кровь у меня в жилах похолодела до температуры сверхтекучего гелия.
— Кто же это был?!
— Ну, не ругай его! Калган понятия не имел, чего я добиваюсь. Я беседовал с ним, как и с другими шаттерлингами, незаметно свел разговор к Всеобщему актуарию и изобразил интерес. Другие мое любопытство не поощряли, а вот Калган оказался на диво отзывчив. Думаю, ему польстило внимание.
— Идиот! — в сердцах пробормотал я.
— Вообще-то, вины Калгана тут нет. Убеждать я умею, а откуда ему знать про мои скрытые мотивы? Я заявил, что интересуюсь самим Актуарием, не уточнив, что ищу информацию о Содружестве. А ты догадался бы? Данные Актуария под космотеки не подогнали. Ни один из вас не подумал, что я так основательно разворошу ваши секреты.
Я тяжело вздохнул, хотя, если честно, на душе полегчало.
— Как по-вашему, господин посол, стоит дальше ломать комедию?
— Конечно нет.
— Не знаю, утешит ли вас, но мое сочувствие было искренним.
— Я в этом не сомневался.
— Меня не проинструктировали. Наверное, тут Чистец виноват: не предупредил, что отдельные темы под строгим запретом. Хотя, думаю, он врал вам так долго, что привык. — Я пожал плечами. — Или сам я виноват — болтаю лишнее, суюсь куда не следует. Однако уверяю вас: в первую очередь Линия заботилась о вашем спокойствии, а не оправдывала свою ошибку.
— Уничтожение целой цивилизации — ошибка?
— Мы спасли сотни цивилизаций, — парировал я. — Понимаю, звучит жестоко, но такая позиция единственно верная. Трагедию это не уменьшает, и вы имеете полное право злиться…






