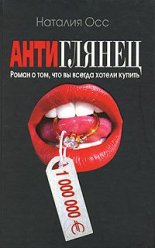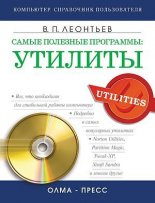Правила бегства Куваев Олег
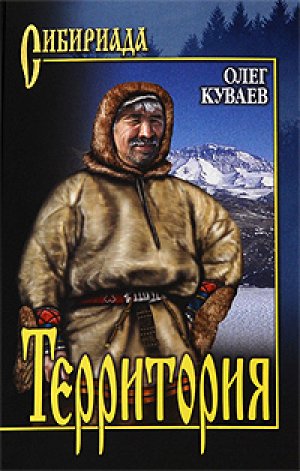
О, боже! И что впереди, что впереди? Рождаемся как бессмысленные комки плоти и живем, живем, не зная даже, что ждет нас за ближайшим углом, и наша единственная и неповторимая уходит на что? Ну оглянитесь, прохожие, на что уходит паша единственная неповторимая? Сколько в нашей жизни звездных минут – когда мы знаем миг безошибочной истины? А ведь, каждая минута паша, каждая секунда неповторима Судьба обращается с нами, как циничный анекдотчик, и даже костер, на который взошел Джордано Бруно, для нас не горит. А может, надо знать, что каждый Бруно сам находит свой собственный костер и никто за тебя, дорогой товарищ, его не подготовит для тебя? И ты сгниешь без свету, памяти, пламени. Выйди в ночной нормальный снегопад декабря, на улицы нормального города. Вернись в свой дом и посмотри на жилье, на приобретенные ценности другими глазами. Где твой костер? Кто ты?
И – мелкое, гадко-радостное предвидение пользы от того, что твоя мать возненавидела твою жену. Тление обыденки.
Я вернулся из своей первой научной экспедиции в институт и, конечно, сразу пошел к Ка Эс. В конце концов именно он был моим научным руководителем и именно он оставил меня в НИСе – научно-исследовательском секторе. Был час занятий, в коридорах пусто. Лишь запах сигарет и запах схлынувшей толчеи. Я издали увидел, что дверь в кабинет Ка Эс приоткрыта, там горел свет, и я вздохнул с облегчением. Поймать Ка Эс для душевной беседы, то есть с глазу на глаз, было затруднительно.
Ка Эс сидел за столом и читал. Читал он странно – вздернув очки на лоб и далеко откинув массивную голову. Горела настольная лампа – в этом крыле институтского здания всегда было темно.
– Рыбу привезли? – спросил Ка Эс, едва я приоткрыл дверь и ступил на порог.
– Какую рыбу? – ошалело спросил я.
– Садитесь, Возмищев. – Ка Эс положил книгу на стол и подождал, пока я усядусь. Он смотрел на меня, и глаза его были как две тусклые голубоватые лампочки, затянутые паутиной склеротических жилок. Эти лампочки слабо светили в обширном подвале мудрости и житейского опыта Ка Эс.
– Вы приехали из краев, где есть лучшая в мире рыба. Осенний вяленый чир, осенний омуль слабого семужного посола. – Ка Эс пожевал губами. – Я, знаете, едал в Париже, едал в былые времена и в Москве. Лучшей рыбы, чем в тех местах, где вы были, не было и не может быть. А вы не могли доставить удовольствие старику.
– Я хочу еще поехать туда, – сказал я. – Знаете… – Скажи-и-и-те на ми-ло-ость. – Ка Эс водрузил очки. – В вас что же, полярные инстинкты проснулись? Или инстинкт исследователя?
– Нет, – честно сказал я. – Но там что-то есть. В местности, в людях. А что – я понять не успел. – Я даже пощелкал для убедительности пальцами.
Ка Эс покачался в кресле. Массивная седая голова его колыхалась в тени лампы, как белый шар. Светили корешки книг. Пахло книгами и, как ни странно, табаком, хотя Ка Эс не курил и запрещал курить при нем. Бывает так, мгновенно проскочит длинная и объемная мысль, и в какой-то краткий миг я успел подумать об удивительной жизни этого старика, потомка аристократов, который уцелел, прошел сквозь гражданскую, но эмигрировал и сумел занять себе место в новом государстве, место и образ жизни, к которому он привык. Рассказывал ли он это? Я охватил взглядом книги, новых книг Ка Эс не терпел, и большинство из них были старыми – на английском, французском и еще черт его знает на каких языках. Ка Эс пробормотал фразу на фарси, это я угадал, потом еще на каком-то, затем на английском. По-английски я уловил лишь одно слово… Он снова в упор посмотрел на меня, и опять две тусклых голубоватых лампочки горели в обширном подвале каэсовских знаний. Я молчал.
– Я сказал одну и ту же поговорку на трех языках. Вы поняли?
– А по-русски можно? – попросил я.
– Вот, – назидательно поднял палец Ка Эс. – Вы, Возмищев, имеете высшее образование. Гуманитарное. Знаете ли вы хоть один язык? Пишете, читаете со словарем, так, кажется, по анкете? Вам, как говорится, открыты все дороги. Какую же дорогу выбираете? Не вы лично, ваше поколение и ваши сверстники. Вы стремитесь читать Диккенса в подлиннике? Шекспира? Монтеня? Вы стремитесь успеть, ухватить, проскочить, пролезть, дьявол вас побери. В аспирантуру, в кандидаты наук, в удобную квартиру. На русском хотя бы вы Диккенса читали?
– Я Монтеня люблю, – признался я. – И Диккенса я читал. Не все, конечно.
– Поверьте старцу, – со вздохом сказал Ка Эс. – Ценно лишь знание, все остальное не стоит затрат. Ценно умение. Хороший столяр ценнее плохого доктора наук. А вы… В следующую экспедицию вы поедете, конечно. Чем черт не шутит, и вдруг Возмищева озарит. Я же…
Но тут раздался стук каблучков, торопливое дыхание, смех, и в кабинет Ка Эс впорхнули студентки. Они окружили, затормошили, защебетали, все сразу, все вдруг.Ка Эс вздыбил спою гриву, заулыбался, глаза его увлажнились, я понял, что я тут уж совсем ни к чему, и встал. Одна из студенток перевернула книгу, которую читал Ка Эс. Выходя из кабинета, я успел заметить, что читал он Агату Кристи. На русском.
«Старый балбес», – с неожиданной злостью подумал я о своем благодетеле. Я знал, что злость пройдет, и думал, кому бы послать телеграмму, чтобы прислали эту проклятую знаменитую рыбу. Эх, взятки борзыми щенками! Мать моя работала в закрытой, видно привилегированной, точке. Там, видно, не простые смертные жуют антрекоты. Не работяги. Значит, можно черта жареного достать. Но я чувствовал, что Ка Эс не обманешь, не проведешь. У меня чутье на людей, я знаю. Нужен подлинник, нужна рыба с низовьев сибирских рек, сделанная безвестными мастерами засолки и копчения. Не перевод, не пересказ, подлинник нужен. «Рулева попрошу, кого же еще, напишу, поймет ситуацию.Конечно, Рулева!»
Письмо я ему написал в тот же вечер и выслал на адрес газеты. Хорошее было название у газеты Вадика Глушина – «Полярная звезда». Приятно было надписывать адрес.
…Я стал ходить на службу, пытался как-то оформить летние записные книжки, заполненные моим сумбурным почерком. И как-то вечером, проезжая станцию «Комсомольская», когда волна пригородных пассажиров валом, как прорвавшаяся плотина, заполнила вестибюль, и все спешили, и каждый четко знал свою цель, минуту отхода электрички, время подъема по эскалатору, время, чтобы схватить «Вечерку», – все было рассчитано по секундам, я вдруг вспомнил закат над тундрой, красную от заката равнину воды и моторку, летевшую в шальном реве спаренных подвесных двигателей.
– Э-эх! – сказал тогда сидевший рядом со мной поречанин. – Ку-да-а летишь, куда-а-а стремищща? Ведь за рыбой? За ней. А рыба-то тихо плавает, не торопясь. Да-а!
Запах папирос «Байкал», травы, рыбы, воды, закаты, дождики и неспешные разговоры вошли вдруг мне в душу сразу все целиком. Кто-то толкнул меня: «Заснул, что ли?» Но я не обиделся. Я улыбнулся в спину обидчика. Я, Возмищев, выдерну себя из суеты. Лучше встать на час раньше, но побриться без спешки и без спешки идти на работу, лучше… среди всеобщего грохота и суеты надеть на себя стеклянный футляр тишины и неторопливости.
Так я решил.
Но ровно через неделю в нашу с Лидой жизнь вошло слово «кооператив», «квартира», и появился человек по имени Боря.
Ваше постоянное место жительства. Адрес. Телефон.
Собственно говоря, Боря появился раньше, где-то в промежутке между временем Боба Горбачева и временем нашей с Лидой женитьбы. Он появился незаметно и вел себя незаметно. Усаживался в углу и внимательно помаргивал глазами, слушал. Предлагали выпить – выпивал. Предлагали кофе – пил и кофе и всегда говорил «спасибо». Думаю, что любимым напитком Бори было пиво. Об этом говорил и ранний животик, и особая налитость, даже, можно сказать, свежесть щек, которая бывает у молодых мужчин, очень любящих пиво. Если ты встречался с ним взглядом, Боря всегда улыбался: «Старик, я все понимаю. Все это туфта, старик. Но ты хороший парень и вот увидишь – Боря тоже хороший парень, убедишься». Так можно было истолковать его улыбку. Чувствовалось, что Боря рангом ниже всей компании, не интеллектуален, нет. Но видно было, что Боря имеет и свои достоинства, иначе Лида не привела бы его. А привела его она, это теперь я хорошо понимаю. Одевался Боря всегда точно. Если джинсы, так замшевая курточка, и полосатая модная рубашка, и замшевые туфли. Если уж костюм… Одежда на нем сидела неловко, нельзя носить джинсы при Борином заде и животике, он, чувствовалось, сам это понимал. И в улыбке его можно было прочесть: «Старик, я сам понимаю: грош цена этому барахлу и мне на него… с высоким башни. Но так принято, старик, зачем выделяться?»
Загадочный хозяин комнаты, где мы жили, объявился. На пятый год. Пришла открытка: «Возвращаюсь в Москву, прошу освободить комнату к 1 февраля». И неразборчивая подпись.
Был конец ноября, Лида с утра куда-то ушла, я сидел (библиотечный день), курил и думал, как теперь быть. За окном было мокро, шел мокрый снег, тут же таял, леденел -черти что. Люди шли по тротуарам, как канатоходцы, ветер вздувал полы пальто.
Щелкнул замок.
– Входи, входи, – сказала Лида. И вошел Боря.
Он поздоровался со мной за руку, поставил на пол портфель, снял пальто и сел, поставив свой стул точно против моего стула. Боря улыбался, от ветра щеки его зарумянились, и на меня вдруг пахнуло покоем: как-нибудь все уладится.
Ляда ушла на кухню, гремела там посудой. Вышла с двумя чашками кофе и поставила на стол.
– Нет уж. Это не для меня, – сказал Боря и вдруг засмеялся неизвестно чему. – Лидок, принеси какую-нибудь кружку.
Он открыл портфель, вынул бутылку чешского пива и ловко карманным ключом сковырнул пробку. Пробка звякнула на пол.
– Ничего, я подниму, – сказала Лида и поставила перед Борей фужер.
Боря залпом выпил первый фужер пива, залпом выпил второй и вылил остатки. Закурил. Лида стояла сбоку от меня, спиной к окну. Она тоже закурила.
– Как я понимаю, нужна немедленно кооперативная фанза о двух комнатах, – сказал Боря и стряхнул пепел в мое кофейное блюдце. Он выжидательно смотрел на меня. И Лида смотрела.
– Нужна, – сказал я. – Где ее взять?
– Раз так, – Боря хлопнул меня по коленке, – нон проблемас, как говорят в Мексике. Тысяча сверху. И вся забота моя.
– Это очень недорого, – сказала Лида.
Боря вынул вторую бутылку пива. Пробка не открывалась, и Боря деловито возился с нею.
– Где ее взять? – сказал я. – За кооператив ведь тоже надо платить. А мои доходы…
– Возьми у своей матери, – сказала Лида. – У нее есть.
Боря всецело погрузился в возню с пробкой.
– Как же я возьму? Да она и не даст, – пробормотал я.
Лида молчала. Я посмотрел на нее. Она держала сигарету между пальцами, и я видел, что рука ее мелко дрожит. От этого и дым поднимался вверх такой интересной спиралькой. Лида смотрела на меня, я смотрел на эту дрожащую руку, и, не зная почему, мне вдруг стало жаль эту руку и Лиду, которая уставала на работе. Она работала каким-то клерком, делопроизводителем в Министерстве культуры, работы по профессии в Москве не нашлось. И как она злилась на эти бумаги. Иногда она останавливалась посреди комнаты и бормотала: «Я своего добьюсь, я своего добьюсь, я своего…» Я многое вспомнил и поэтому сам для себя неожиданно сказал:
– Я попробую.
Пробка открылась, забулькало пиво.
– Нон проблемас, – сказал весело Боря. – За деньгами я зайду послезавтра. За тысячей. Она ведь, сам понимаешь, старик, не мне.
– Боря на этом ни рубля не берет. И то, что так дешево, скажи спасибо ему, – добавила Лида.
– Для друзей. Только так, – сказал Боря. – Я на этом теряю, ибо буду должен своим друзьям, которые все устроят. Но для Лиды.
Он допил пиво.
Я чувствовал, что должен что-то возразить, поставить условие, я же мужчина, хозяин дома, и деньги, черт побери, мои.
– Но только в этом районе, – сказал я. – Я здесь привык.
– Разумно, старик, – сказал Боря. – Это за городом и в центре города. Тишина. Парк рядом. Этот район еще просто не все раскусили. Договорились, старик. На твоей улице не обещаю. Но поблизости будешь. Нон проблемас.
…Ночью я спросил Лиду:
– А что ты имеешь в виду, когда говоришь вот так: «Я своего добьюсь, я своего добьюсь». Чего ты должна добиться?
Лида молчала. Я слышал лишь ее короткое дыхание и видел огонек сигареты. По окнам проползал свет от автомобильных фар. Кто-то орал в трубку телефона-автомата под окном: «Тоня, ты меня слышишь. Тоня! А, черт побери!» Звякнул автомат, хлопнула дверь. Торопливые шаги.
– Я не для того кончала два института, чтобы подшивать бумажки в министерстве. Я должна быть завлитом в театре. И буду.
– Завлит – это что? Вроде режиссера?
Это человек, который первым читает поступившие пьесы. И от него зависит…
– Поставит или не поставит? – перебил я.
– Нет. Поступит пьеса наверх или не поступит. Не всегда. Но очень часто. Завлит также работает с авторами пьес, – голос у Лиды был ровный. А она всегда злилась, когда я задавал глупые, по ее мнению, вопросы.
– Ну, а если…
Поговорим завтра. Я выпила две таблетки снотворного,– сказала Лида. – Я сплю.
Она задышала ровно и глубоко. Но огонек сигареты светился.
Матери я позвонил на другой день с работы. Мы договорились встретиться на проспекте Мира у кафе «Юность». Для этого пришлось на полчаса раньше уйти с работы. Я ждал мать недолго. Сквозь стекло в кафе я видел официанток, которые судачили, подперев локтями могучие груди. Был пустой час, когда народ еще не пошел по кафе, а дневная суета кончилась. Мать была в темном пальто с воротником из норки и вязаной шапочке. Я почти с гордостью оценил, что она одета лучше, гораздо более со вкусом, чем все проходившие мимо женщины. Даже девушки. И лицо ее было не старше, чем в прошлый раз, даже свежее. Лишь морщины у глаз стали глубже и резче, и темный бабкин пламень в них вроде бы полыхал сильнее.
Я рассказал, в чем дело. Мать взяла меня под руку. Мы медленно шли по направлению к Выставке.
– А он не жулик? – спросила мать.
– Лида говорит, нет. Она говорит, что это ее старый знакомый.
– Я дам деньги, – сказала мать. – Взамен ты сделаешь следующее. Ты дашь расписку о том, что полностью отказываешься от прав на отцовский дом в мою пользу.
– Там же отец! – с изумлением сказал я. – Бабка! Зачем он тебе?
– Отец твой скоро умрет. Бабка, может быть, еще раньше.
– Ну я тебе так просто его отдам. Мне он не нужен. Мать подняла голову. Взгляд ее был короткий и какой-то жалостливый. Она жалела меня.
– Ты же ученый, – сказала мать. – Институт кончил. Тебе известно, что был такой царь Соломон. Он носил золотое кольцо с надписью: «Все проходит».
– Это не о том надпись, – сказал я.
– О том! Все проходит. Любовь, жалость. Благодарность. Благодарность проходит быстрее всего. Поэтому лучше расписку.
– Дом-то тебе зачем?
– Дачу устрою, – коротко и зло сказала мать. – Тысячу я занесу завтра утром. И чтобы этой… твоей… не было дома. Я с ней говорить не хочу.
– Ладно, – сказал я. – Расписку когда оформим, сейчас?
– Сейчас я пойду, – сказала мать. – Поймаю такси и поеду. Не провожай.
…Дома меня ждала посылка Рулева. От посылки шел знакомый запах слегка подкопченного чира. На почтовом квитке «для письма» рукой Рулева было написано: «Растешь, юноша. Мужаешь. Но все-таки помни, что я у тебя есть».
Утром мать принесла деньги. Вечером явился Боря. Теперь, когда он был в своей сфере, молчаливость и застенчивость у него исчезли. Боря шумно хлопнул дверью и, не раздеваясь, прошел к дивану. Он сел, положил руки на колени и начал смеяться. Он мотал головой, животик его подрагивал, и короткие пальцы весело барабанили по коленям.
– Посадили, – отдышавшись, сказал Боря. – Сашку позавчера посадили.
– Как посадили? – спросила Лида. – Сашка, который в очках?
– Ну как? Обычно! Пришел майор Пронин и сказал: «Пройдемте».
– Что же ты веселишься?
– Сгорел Сашка, – сказал своим коленям Боря. – Коньяк любил. Армянский. Баб любил. Тощеньких. Чтобы вместо ягодиц два теннисных мячика, и в них спички воткнули вместо ног. Обожал таких мымр. Сгорел Сашка.
– Прекрати! – сказала Лида.
– Ты прекрати, – отмахнулся Боря. – Если бы я твои деньги ему позавчера отдал. А? То-то!
– А ты, ты не замешан? Тебя не арестуют?
– Нее, – сказал Боря. Веселость его прошла, и он как-то отяжелел. – Я, Лидок, свои полтора года отбыл и больше не хочу. Я со всех сторон всегда чистый.
– А как с кооперативом?
– Дураки вы, что ли? Я же говорю: сгорел Сашка.
– Но может быть…
– Нон проблемас. Но в другом районе. На окраине нашей прекрасной столицы. И еще тысячу сверху.
– Зачем еще тысяча? – тоскливо спросил я.
– Потому что другой район. Потому что там не Сашка, а другой человек.
– Пятьсот я достану, – быстро сказала Лида.
– Не буду и больше просить у матери, – сказал я.
– Ваше дело, бобики. Решайте, – Боря вздохнул и расстегнул пальто.
И вдруг я вспомнил приписку Рулева: «Помни, что я у тебя ость».
– Есть шанс, – сказал я. – Пожалуй, пойду и прямо сейчас дам телеграмму.
…К февралю мы въехали в двухкомнатную квартиру, похожую на тысячи других квартир, в доме, похожем на тысячи других домов. Это был новый район Москвы. Здесь было тихо, и воздух был как в пригороде. Въехали – но то слово. Вошли. Все наше имущество уместилось в трех чемоданах. В двух была одежда и белье, в одном книги. Из моих книг были два тома Монтеня – «Опыты». Я купил их случайно. Мне нравилось слово «Опыты», нравилась биография Монтеня.
Я перестану писать о квартире, потому что теперь все взяла на себя Лида. Я был отстранен и только рад был этому. Осталась лишь клятва, что я верну матери деньги, несмотря на расписку о доме, которую я дал взамен. Осталось еще что-то. Не знаю что. Чистоплюйство, в общем.
Читайте Монтеня, «Опыты». У вас ведь были свои опыты, приятель. А?
В марте у меня был отпуск. Я решил поехать к отцу. Отношение в нашем НИСе ко мне как-то изменилось. Не знаю, какими путями, но все знали, что я вступил в кооператив, и оказалось, что я как бы попал в некий клан заговорщиков, в какую-то секту. Со мной говорили о высоте потолков, о разделенных и, напротив, совмещенных санузлах, смежных комнатах и комнатах с отдельным входом. Я отмалчивался, отшучивался и говорил, что все это жена моя – Лида, я тут ни при чем. Но все как бы не замечали моих возражений. Я был член сообщества, и членским билетом был ордер ЖСК. Как раз перед самым отпуском мне сказали: «Небось по уши в долгах, Возмищев? Есть работенка. Оплачивается хорошо. И для тебя».
Выяснилось, что весьма именитый ученый написал труд «Поговорка и прибаутка как жанр народного словесного искусства». Я должен был сделать ему подборку народов Сибири. По литературным источникам, разумеется. За это он давал мне прямо в руки пятьсот рублей.
– Шестьсот, – сказал я.
Почему шестьсот? Потому что Лида сказала: «Чтобы не жить на раскладушках и не есть на полу, нам надо вначале шестьсот рублей».
Сделка была заключена, и весь отпуск я просидел в Ленинской библиотеке. Три последних дня я сидел там от открытия до закрытия. Почему? Потому что моим предком был упрямый казак Возмищев и я решил повидать отца.
…Отец не постарел, только стал еще суше, и голова его как-то стала сползать вниз. Если раньше спина его напоминала обтянутую пиджаком жердь, то теперь это была как бы жердь с надломленным кончиком.
Дом наш был мал, темен, и я лишь по запахам узнавал его. Улица тонула в весенней грязи. Бабки не было. Она уехала к своим родственникам в соседней станице.
– Помирать, – объяснил отец. – Она ведь тут для тебя жила. Ты побывай.
Говорить нам с отцом было не о чем. Поставить на стол бутылку мы не могли, потому что я не пью.
– Жалко, бабку не повидаю, – сказал я. – Мне завтра уезжать.
– Может быть, задержишься? – вздохнул отец. – Мне на работу. Отпуск кончился.
– Работу нельзя пропускать, – сказал отец. – Это правильно.
Ночью я слышал, как отец вздыхает и ворочается на кровати. Я встал и пошел к нему. Он лежал под одеялом, глаза его были открыты.
– Плюнь ты на все это, отец, – сказал я. – У меня двухкомнатная квартира в Москве. Будешь жить с нами.
Отец вздохнул долго и тяжко.
– Уезжать мне нельзя. Дом. Бабка. Потом как тут без меня. Народ стал жить хорошо. За моей колбасой из машинах за сто километров приезжают.
– Ну, передай рецепт, обучи кого-нибудь.
– Там будет видно, – сказал отец и повернулся набок. Культяпка ноги на миг высунулась из-под одеяла. Отец лежал на боку, глаза его были открыты, и теперь по шее, по запавшим в седой щетине щекам я видел, что он постарел сильно.
Я сидел.
– Ты не переживай, – сказал отец. – Я ведь не одинокий. Всю жизнь тут. У меня, считай, весь город – знакомые. Заболел или что – за день десять человек народу зайдет.
Отец улыбнулся. Вот что-что, а улыбки его я не помнил. Это была не улыбка, а как бы тень от нее, намек на улыбку, но от этого лицо отца сильно менялось.
– Правда или нет? – спросил он. – В городе у вас, в домах, живешь год, два, а соседа по лестничной площадке и фамилию не знаешь?
– Правда, – сказал я.
Отец вздохнул. Я продолжал сидеть. Я думал о том, что план мой перевезти его в Москву, мягко выражаясь, нереален. Как они уживутся с Лидой? Как вообще он примет город, где не знают фамилию соседа по лестничной площадке? Это будет похоже на то, как Арсеньев привез гольда Дерсу Узала в Хабаровск.
– Помру я скоро, – сказал отец.
– Да брось ты, – торопливо возразил я.
– Это я тебе сообщаю. Не для того, чтобы ты меня жалел, ты тоже помрешь. Просто сообщаю как сыну, что скоро помру.
– Да брось ты, – повторил я.
– Ты не переживай. Я не маршал и не министр, чего переживать. И на памятник не траться. Такие, как я, из навоза вышли и в навоз уйдут. Такие, как я, – удобрение. Вот видишь, тебя вырастил. Ученый. Большой ученый. Меня спрашивают: что сын-то? Я отвечаю – ученый. Занят. Приятно. – Отец снова улыбнулся, и я вышел. Не мог я видеть эту улыбку, не было ее раньше у отца. Что-то в мире сменилась? Что?
Когда я ехал обратно, мне пришла в голову мысль. Как положено, я выписывал и читал толстые журналы. Проза в большинстве своем шла деревенская, там говорили нутряным голосом простые слова и произносили точные речи. Я вдруг вспомнил о гольде Дерсу, о его встрече с Арсеньевым, их дружбе и о том, как Арсеньев привел гольда Дерсу в Хабаровск. При всей их дружбе был европеец Арсеньев и был гольд Дерсу. И первый смотрел на второго именно как на мудрого туземца.
Что же случилось, что писатели наши, мы все, отцов своих воспринимаем, как Арсеньев воспринимал гольда? Своих же отцов? Что с нами случилось?
Дома меня ждало короткое письмо от Рулева. «Юноша! (Или теперь ты уже муж?) Если хочешь видеть Великий Эксперимент Рулева – приезжай. Тут чудеса творятся. Зарницы в небе и лики ангелов возникают среди облаков. Пообещай своему научному мастодонту тонну рыбы высшего качества (я тебе ее достану) и бери командировку на год».
II. ЭКСПЕРИМЕНТ. ЖИТИЕ С. РУЛЕВА. ЧАСТНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ.
Была улица, сверстники, и был парк Сокольники. В этом парке Рулев-мальчишка рано познал тайны сношения полов, силу денежных отношений, силу кулака как довода в споре, дружескую взаимовыручку, законы стаи, и он познал там росу на траве, свист птиц и великое очарование деревьев, травы, кустов и облаков на небе. Он познал науку догонять, убегать, зарабатывать трояк на мороженое, научился подползать к пьяным парочкам, познал сладость шкоды и тяжесть расплаты.
Я думаю, что главным уроком, который усвоил Рулев, наблюдая за ночной жизнью столичного парка, за человечеством, которое отдыхает, главным уроком было то, что нет стандарта. Не существует. Градации людей, которых ты встретишь в течение минуты, могут идти от загулявшего бандюги с финкой в кармане до умиротворенной старушки на лавочке, которая с улыбкой смотрит на пробегающих мимо мальчиков (среди них Рулев). И где-то посредине был отец семейства с женой, дочкой, сыном, который вышел в воскресный день подышать с семейством свежим воздухом или вышел один, в расстегнутой на груди рубашке и в пиджаке, наброшенном на трудовые плечи, потолкаться у пивного ларька, пройтись, покурить и потрепаться. Нет стандарта – это твердо усвоил юный Рулев.
Было суворовское училище. Может, Рулев оказался там из-за раннего знакомства с сокольнической шпаной, и у него все-таки был отец и была мать (о ней я ничего не знаю).
Как ни странно, я никогда не замечал в Рулеве следов выучки суворовского училища, которое, как известно, на детей готовит будущих воинов со всеми необходимыми профессиональному военному нравственными качествами. Одно знаю твердо, что Рулев усвоил в суворовском силу коллектива. Роты, спальной комнаты, строя. Закон именно коллектива, а не стаи, которую он узнал раньше.
Артиллерийское училище, которое окончил Рулев, было следствием суворовского, и о нем не стоит писать. Это было задолго до того, как в артиллерию мощно вошла электроника и другие хитрые науки, задолго до появления ракетных войск, и потому на мой вопрос, что он узнал в училище, Рулев кратко ответил: «Пушку калибра восемьдесят шесть миллиметров».
Была служба. Где-то под Хабаровском. Гарнизон. Женитьба. Дочь. Рота. Наверное, Рулев был плохим офицером, ибо ум его, рано узнавший разнообразие стилей и способов жизни, не мог устремиться по нужному, необходимому для кадрового офицера руслу: служба, высшее военное училище, служба, академия, высокое звание, служба. Он не годился в профессиональные военные в мирное время, хотя, убежден, во время военное был бы командиром батареи не хуже прочих. Рулев вышел в запас старшим лейтенантом. Наверное, здесь сыграло роль и то, что он имел неглупое, именно по-человечески понимающее начальство и смутное, но неотвратимое стремление найти смысл бытия. С женой он развелся. Я твердо знаю, что он регулярно и добровольно высылал ей деньги, большие, чем требовали бы алименты. Как бы там ни было, но армия воспитала в нем чувство долга.
Университет. Среди толпы юношей, заполнявших аудитории в ту пору, когда поступать в институт было легко, Рулев был переростком, почти стариком, ибо позади у него был опыт жизни. Посему он самостоятельно понял то, что сейчас начинают понимать многие: диплом о высшем образовании – это еще не паспорт жизни, куда как нет. Дремавшая в Рулеве буйная сила тянула его к жизни нерегламентированной, где новое решение надо принимать каждый момент и где есть свобода выбора. Учеба и диплом – это та же армия. Преподавание или работа в каком-нибудь НИСе. Возможно, на истфаке он понял, что история пишется прихотливо и странно, что она течет в границах, продиктованных объективными законами, но границы эти широки, и внутри них история мечется бешеной странной рекой и то и дело выкидывает на отмели личности, стили жизни, эпохи и целые государства.
В ту пору я был уже с ним знаком, и его мансарда, в которой я бывал, была наследием после раздела отцовской квартиры.
Когда я в следующий раз прилетел в Кресты, я не узнал ни аэродрома, ни поселка. На Низине, к западу от реки, среди огромных болотистых тундр начали искать нефть. Я только теперь понял, вижу, какое это огромное и даже пугающее понятие «нефть».
Поселок был забит вездеходами, завален буровыми трубами, вокруг аэродрома городом раскинулись палатки, из палаток торчали печные трубы, из труб шли дымы, и через реку, на запад, в холодное марево Низины днем и ночью шли тракторные колонны, ревели моторы, и лед на реке был черным от гусениц, разбросанного барахла, смазочного масла, а где-то там, в тундрах, гусеницы безжалостно крошили землю и лед, строились другие палаточные поселки, дыбились к небу буровые вышки, грохотали дизели – и все это была еще не нефть, это были поиски нефти, и они должны были смениться либо новым, еще не виданным обрушением человека и техники на тундру, либо вдруг сгинуть, схлынуть, точно грохочущая волна, чтобы возникнуть в другом месте, в других тундрах или пустынях.
Маленькие домики поселка с оконцами, все еще по-зимнему закрытыми ставнями, обитыми оленьим мехом, потерялись, вросли в землю, как бы задавленные толпами громкоголосых мужиков в сапогах, распахнутых куртках, с лицами, коричневыми от ветра, с размашистыми движениями рук, привыкших не к карандашику, нет – к буровым трубам, гаечному ключу, рычагам грубых машин.
Была весна, был гомон.
В апреле белая ночь уже почти началась, и поселок не затихал до позднего ночного часа, и лишь где-то часа в четыре утра, в краткий миг тишины, тоскливо и испуганно выли хором ездовые собаки. Для них тоже рушилась привычная жизнь, и псы, поколениями тянувшие примитивные нарты, как бы предчувствовали близкую свою ненужность, смерть от заряда собачьего ликвидатора, сочувствовали растерянности своих хозяев-поречан. Впрочем, многие из собак уже находили себе новых хозяев и уезжали на тракторных санях на запад, чтобы там, где-то на куске тундры, не имеющем географического названия, животным своим простодушием согревать человеческие сердца. И как истинный работяга не может долго оставаться без дела, так, наверное, эти псы в новой бездельной своей должности будут тосковать по тяжести алыка и сладкой усталости собачьей работы, когда съеденный до последнего атома кусок мяса или вяленой рыбы честно заработан собачьим трудом.
Ну, а бичи? Они исчезли. Может быть, этого они и ждали, ночуя в коробах и заброшенных баржах, – ждали нашествия нерегламентированной работы, нерегламентированной оплаты труда, экспедиционной вольности и размаха, чтобы на один сезон (или насовсем?) включить свое не пропитое еще умение и обрести положительный социальный статус.
Ну, а те, кто были уже безнадежны, наверное, «работали» при щедрых коллективах щедрых ребят побирушками и трепачами. А может, отправились в тихое место, а может, занялись опасной работой мелкого воровства, карточного жульничества – работой очень опасной, ибо щедрые коллективы щедрых ребят безжалостны на расправу за подлость.
Я ждал самолета к Рулеву. Я решил даже не заглядывать в Пристанное и другие поселки поречан. Мыслишка у меня возникла.
Самолета к Рулеву не было – вся авиация была захвачена энергичными и напористыми, как танки, снабженцами нефтеразведчиков. Они орали в телефонную трубку в отделе перевозок, обняв за плечи, вели куда-то в угол замотанного начальника аэропорта или пилота и там, заговорщически оглядываясь, энергично и таинственно сообщали нечто. Они орали кому-то облеченному полномочиями. Слова: «райком», «обком», «министерство», «распоряжение главка», «указание товарища…» – висели в воздухе. Куда было тут крохотному самодельному «хозяйству Рулева», зашвырнутому в земли, куда еще толком не пришла жизнь.
Иногда мне казалось, что той таежной реки, того аэродромчика из дырчатого железа и прижатого к нему поселочка вовсе не существует, как не существует оленьих стад и тонконогих пастухов возле них. Другая планета, другой век…
Никогда я не чувствовал себя еще настолько потерянным. Специальность моя, аспирантура и тема диссертации казались ненужными, как обнаруженный на чердаке лист газеты десятилетней давности. Детские мечты о том, чтобы быть единой частью горячего бегущего стада, травили душу, и я бродил по улицам, боязливо и вежливо уступая дорогу шумным парням. Что говорить, я хотел быть с ними! Что говорить!
Моя двухкомнатная квартира в Москве и будущее научное положение не стоили крепкого матюга, с каким тракторист оглядывал перекособочившиеся на уличном ухабе тракторные сани.
Комплекс неполноценности – так это называется.
Жил я в старой комнате Рулева у кочегарки – гостиницу напрочь забило нефтяное начальство. Комнату теперь занимал юный журналист Мишка. Он приходил с работы поздно, а придя, демонстративно заваливался лицом к стене, спиной ко мне – читал Шервуда Андерсона. Может быть, страдания молодого парня в провинциальном городке Иоганнесбурге, Огайо, были созвучны его душе. И ненавидел он меня, может быть, за то, что видел во мне некое отражение своего «худшего я», может быть, тоже маялся комплексом. Известно, что в ближнем мы прежде ненавидим недостатки, присущие нам самим. Лишь однажды он соизволил поделиться со мной заботами жизни. Сидел на койке, дул чай и ерошил черные кудри. И сказал, глядя в пол:
– Нефтяники газетенку нашу из рук рвут. Понятно _ прибыли в местность, хотят приобщиться. Тираж надо увеличивать. Организовать как-то и заброску ее к ним в тундру. О них надо писать. Какое там! Чучело наше пальцем шевельнуть боится. Вдруг райком не одобрит. Так ты, черт возьми, запроси райком: одобрит или не одобрит. Боится! Вдруг инициативу не так воспримут. Напиться, что ли?
– Компанию не могу составить, – сказал я.
– Знаю! – Мишка глянул на меня то ли с ненавистью, то ли с презрением и залег с Шервудом Андерсоном – лицом к стене, спиной ко мне.
Я вышел на улицу. Пошел в сторону дома деда Лыскова. Стоял домик, отрешенный от суеты, от мирской жизни. Поблескивал темными пустыми окнами. И вдруг меня осенило: тему диссертации я нашел. «Мы тут от века колхозом живем. Нам что возражать против колхоза?» – вспомнил я. Итак: «Некоторые вопросы колхозного строительства в отдаленных районах Арктики». Блестящая диссертация. Проходная. В два счета. И трудов-то – посидеть месяц в краевом архиве, почитать газетки давних времен. К Рулеву надо, к Рулеву. У него я увижу, так сказать, свежие кровоточащие впечатления. В архивах найду фактики. И ни забот, ни хлопот.
Радостный и возбужденный шел я по улицам, и теперь шумные ребята на улицах казались мне чуть ли не ровней.
У Мишки сидел геолог. Интервью давал. Молодой парень, насмешливый, этакий весь ленинградский.
– Валер Валерыч, – представился он.
Мишке не хотелось говорить с ним при мне, но я не уходил. Нравился мне Валер Валерыч. Хотя бы тем, что был вроде меня – нормального физического сложения человек, не мамонт, не ходячая тумба. Если угодно, и я могу быть геологом.
Они с Мишкой пили спирт.
– Эх, господа журналисты, – Валер Валерыч вздыхал снисходительно. Меня он, видимо, тоже считал журналистом. – У вас все сразу. А мы по этой Низине десять лет ползали. Геофизики в основном. Теперь вот лет пять бурить будем. Нефть – это вещь, но легко она не дается. Если удача – в газетах будет: «в этом году геологи добились новых удивительных открытий…» То, что к этим открытиям пятнадцать лет шли, – в газетках не будет.
– Ну, а вы как считаете, есть нефть? – спросил Мишка.
– Шеф мой предполагает. Остальное знает бог, – ответил Валер Валерыч. – Мое дело четвертичка. Сплавлюсь вот по реке, и так далее. Завтра нас забрасывают.
Он вскоре ушел. Унес с собой мою симпатию. И вроде унес кусок времени.
Как-то мгновенно схлынула волна, опустел поселок, исчезли снабженцы, и вездеходы, и тракторы, лишь грязные следы гусениц уводили через реку на запад.
И вновь стал тихим поселок Кресты, и ездовые собаки обрели покой, и из низких домишек со ставнями, обитыми оленьим мехом, вылезли поречане и стали смотреть на реку, как веками смотрели их предки – ждать ледохода и первой рыбы.
Я вылетел к Рулеву.
Я летел в пустом ЛИ-2. Фюзеляж как-то радостно и облегченно поскрипывал после нефтяной страды, моторы гудели умиротворенно и тихо, как самовар на отцовском столе. Казалось, что самолет ЛИ-2 был живым, казалось, он летел в отпуск.
А внизу была белая тундра, и я улыбался, увидев первые иголочки лиственниц, выбежавшие меня встречать из еще далекой тайги.
Дорогие однопланетники! Наверное, и вы, и я, все мы родились бродягами. Но почему именно этот полет в усталом и радостном самолете ЛИ-2 я запомнил? Не знаю. Но и вы ведь запоминаете какой-то один переулок в какой-то единственный вечер, в какой-то единственный и неповторимый час. Переулок, речку; возникшее в беге жизни и в нем же исчезнувшее лицо неизвестной девушки. В тот полет, дорогие однопланетники, я вдруг кожей, кровью, своими смертными клетками смертного организма почувствовал, что я живу. «Я мыслю, значит, я существую», – сказал Декарт. «Я двигаюсь и чувствую, значит, я существую», – сказал Возмищев в тот трехчасовой отрезок счастья.
О, наивность счастливых моментов! Я смотрел вниз, слушал ласковый рокот моторов, и я мечтал о сите, об этаком нравственном решете. Сквозь то решето безошибочно, четко и мудро мы могли бы в самих себе отсеивать дурное от хорошего. Дурное складывать в герметические контейнеры, а хорошее ссыпать обратно в амбары души. А жизнь бы шла, и производство исходной массы для сита не прекращалось, и решето бы работало, и, значит, хорошее ворохами копилось бы в наших душах, и, значит, день ото дня все становилось бы безмятежнее, яснее, ласковее, чище, проще…
Я не дурак, у меня высшее образование. Конечно, я знаю закон природы – ничто без борьбы. Но мне не хотелось скепсиса, не хотелось сомнений. Я смотрел на коричневую хвою тайги и мечтал, лелеял, холил в себе минуту счастья. Полетная эйфория. Да черт с ним!
Я сохранил эту радость на все три часа и даже больше. И обнял Рулева, пришедшего меня встречать.
– Ну-ну, – сказал Рулев. – Я рад, что ты рад меня видеть, филолог.
– Я думаю о связях понятий, о связях слов, филолог, – сказал мне Рулев. Никогда я не видел еще у пего такой горькой усмешки.
– Поясни, – сказал я.
– Когда появилось слово «лицемерие»? Наверное, тогда же, когда появились слова «человеколюбие» и «справедливость». Согласен?
– Черт его знает, – сказал я.
– Я так думаю, что все мы рождаемся простыми и добрыми. А потом что-то теряем. Знаешь, жадность, успех, всякое там честолюбие, стремление… Что получается? Быть простым и добрым – это завещано тебе от начала. Но мы завещание не выполняем. Потому, наверное, умираем так быстро. Изменяем собственной сущности.
– На религию, что ли, тебя потянуло? – полюбопытствовал я.
– Нет. На зависть. Вот Кляушкину завидую.
Мы шли в медпункт. Его выстроили уже без меня. Здесь, в тайге, среди чистого снега, весна чувствовалась меньше. Светило солнце, было тепло, тихо – как погожий февральский день на материке. В солнечном резком свете помноженное отражением от снега лицо Рулева выглядело бледным, нездоровым. Может, болеет? Рулев шел сбоку, мимо редкой улицы далеко друг от друга стоящих домишек. Домики стояли только с одной стороны «улицы», но каждый уже имел свой облик: который для тепла обвален снегом, у которого щели обмазаны глиной, которые как есть – с пустыми темными окнами. Хозяин или в тайге, или еще просто не объявился.
Медпункт был на отшибе, метрах в двухстах за поселком. Он стоял посреди чистой, окруженной лиственничками полянки. Я вспомнил дом деда Лыскова, но тут же откинул сравнение. Бревенчатый сдвоенный срубик стоял не то, что уютно, он тут «по делу» стоял. Двери были распахнуты. Внутри постукивал молоток.
Мы вошли. Маленькая квадратная комната отблескивала свежей фанерой и краской. Одна стена была выкрашена свинцовыми белилами. Высокий тонкий парень, стоя на табуретке, приколачивал к стене фанерный лист, а внизу стоял и держал угол листа Мишка-штрафбатовец. Он подмигнул Рулеву, улыбнулся мне и показал глазами на человека на табуретке, вот, мол, горит трудящийся на работе. Я смотрел на спину, обтянутую пиджачком, на узкий светловолосый затылок, и мне вдруг померещилась спина отца – было в чем-то неуловимое сходство. Наконец парень кончил прибивать лист и слез с табуретки. Увидев нас, он улыбнулся. Улыбка была симпатичная, чуть смущенная. И лицо было симпатичное, типично сибирского облика – нос уточкой, твердый подбородок, серые глаза, прямые волосы.
– Фельдшер Кляушкин, – представился он мне. – Сегодня закончим, – сообщил он Рулеву.
– Ты, Коля, что-то все сам да сам, – теплым голосом сказал Рулев. – Есть плотники. Все сделают, ты наблюдай.
– Наблюдать-то что? Мы с Мишей вдвоем все и сделаем. Главное, чтобы аккуратно. Вольфсон принимать медпункт прилетит – всякую щелку осмотрит, как краску клали, проверит. Он к моим медпунктам привык. Я везде сам делаю, – говорил Кляушкин. Говор у него был точно – сибирский.
Мы прошли во вторую половину, жилье Кляушкина. Насколько в медчасти чувствовался порядок – даже в недостроенной, – настолько тут – в достроенной, готовой части – был бедлам. Валялся на полу полуразобранный рюкзак, два раскрытых, тоже полуразобранных чемодана, свитера, рубашки, костюм, какие-то книжки – все вперемежку, как в винегрете. Стоял примус и неряшливая кастрюля с недоеденным варевом.
– Что же так живешь, доктор? – спросил Рулев. – Порядка не вижу.
– Я фельдшер, – скромно возразил Кляушкин, – не доктор.