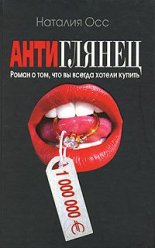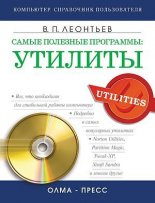Правила бегства Куваев Олег
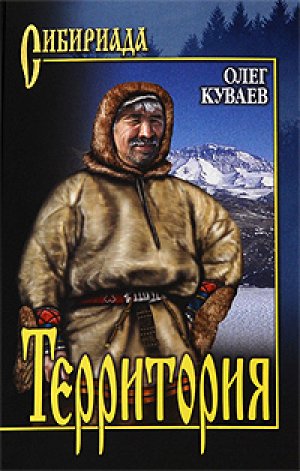
– Где? Кто?
– Позаботятся без тебя.
– Жить он у меня будет?
– Отказался он у тебя жить. Он у моего брата жить будет.
– Я и не знал, что у тебя брат есть.
– А что ты обо мне знаешь, филолог? – сухо сказал Рулев.
Но я на него не обиделся. До меня добрался заветный пакетик из забытой людьми и богом деревни Походск. Добрейший старина Гаврилов, председатель Походского сельсовета, прислал мне его по первой же просьбе. В пакетике том были ученические тетради, коряво исписанные химическим карандашом. А карандаш тот держала рука самого Гаврилова, первого председателя Походского колхоза. И были там бесценные протоколы заседаний, в коих считалось число собак, тонны пойманной рыбы и доклады о поддержке Советской власти и международном положении и о том, как «раскулачивали» Гаврю Шкулева.
Постановили. 1. Объявить Гаврю Шкулева кулаком и изъять ездовых собак и запасы рыбы, а самого Шкулева выслать в центральные районы – поселок Нижние Кресты. 2. Ввиду того, что семья Шкулева останется без кормильца, а сам он хороший рыбак и может служить трудовым примером, пункт 1-й считать недействительным. 3. Однако самого Шкулева отныне считать кулаком и врагом мирового пролетариата и не разговаривать с ним до его добровольного вступления в колхоз.
Мы вылетели с Лошаком в Москву. В Москве было лето. Доктор Кляушкин до отлета привел ноги Лошака в сносный порядок, дал запас бинтов и самолично сшил из рукавов телогрейки этакие чехольчики, даже брезентовые подошвы подшил аккуратными косыми стежками. Но бинты не пригодились. Не знаю почему, Лошак меня не терпел. Раньше у нас были сносные отношения. Он отказывался, чтобы я перебинтовал ему ноги, сам ел, зажав ломоть хлеба между культяпками, и сам ходил в туалет. Не знаю, как он там управлялся.
В Москву мы прилетели глубокой ночью. Никто нас не встречал. Только теперь я сообразил, что из-за хлопот с Лошаком не дал телеграмму Лиде – жене. И как-то мельком, как-то с холодком даже вдруг подумал, что почти не вспоминал о ней. Ну, ладно.
Мы взяли такси и поехали по адресу, который дал Рулев. Было это где-то в Новых Черемушках. Нашли дом. Поднялись. Я нажал кнопку звонка. Дверь тотчас открылась, точно стояли за дверью и ждали. Перед нами стоял парень, красивый, как Жерар Филип, киноактер.
– Ну-ну, – сказал он. – Прибыли? Входите.
Парень улыбнулся, и вдруг я увидел у него на лице лучшую из улыбок Рулева и вдруг понял, что мне в ней нравилось – это же была знаменитая «дуэльная» улыбка Жерара Филипа.
– А меня брат-Володя зовут, – сказал парень. – Двоюродный я.
Комнатка у парня была пустая. Человек приходил сюда ночевать, не жил. Я подумал, что сей брат-Володя вот так и живет где-то открыто среди людей и ночует здесь редко.
Лошак позволил ему довести себя до дивана. Брат-Володя сел напротив него и спросил:
– Что, друг, прижало?
– Прижало, – сказал Лошак, и я впервые увидел, как он пусть горько, но улыбнулся.
– Займемся мы с тобой завтра. Все будет лучше, чем у людей. Деньги привез?
– В пиджаке зашиты, – сказал Лошак. – Он сам зашивал.
– Все будет лучше, чем у людей, – повторил брат-Володя. – Водки выпьешь?
– Налей немного, чтобы заснуть, – сказал Лошак. – К твари этой я теперь равнодушен. Отныне и навсегда. Заснуть надо.
Я поехал домой. Такси удалось поймать быстро. После дальних краев, откуда я прибыл, ночная Москва казалась красивым, удобным для жизни городом.
Я поднялся к себе на третий этаж, буксируя картонный ящик с рыбой для Ка Эс. Ключ у меня был, но дверь была закрыта на защелку изнутри. Стоя на площадке, я подивился тому, как быстро обветшал, загадился мой еще столь недавно чистый подъезд.
– Кто там? – спросила Лида.
– Водопроводчик с милицией, – сказал я.
– Это ты? – тихо спросила Лида.
…Все было просто, ясно и гнусно. По ее просьбе я спустился вниз и сел на лавочке. (Она проверила это из окна.) Вскоре из подъезда вышел парень и, не глянув в мою сторону, пошел по улице. Это был Боря. Это был не тот Боря, который устроил мне эту квартиру, это был другой, но все равно это был Боря. Он был в каком-то легком плащике, наверное, очень хорошем. Невдалеке от меня остановился, щелкнула зажигалка. В походке его, во всей его спине было написано простодушное, беззлобное изумление, а может, презрение к мужьям, которые отсутствуют по полгода и прилетают без телеграммы.
Ах, боже ты мой!
Я поднялся, прошел на кухню. На столе стояла початая бутылка коньяка и две рюмки. Я налил себе и, не чувствуя ни запаха, ни вкуса, выпил. Налил еще и выпил.
Пришла Лида. Она была похудевшая, причесанная, в самом строгом из своих строгих платьев. Я налил еще рюмку и выпил. Она отставила бутылку.
– Между прочим, ты пьешь из его рюмки. И коньяк принес он, – сказала она.
– А мне… с ним, – сказал я. Я впервые в жизни выпил и впервые в жизни выматерился. Такой я человек.
– Ты всегда был слизняк, – сказала она. Я повторил свой тезис.
– Однако, – сказала она. – На севере ты кое-чему обучился.
– Уйди отсюда, б… – сказал я.
Она курила и рассматривала меня, как некую картину, о которой известно, что это хорошая, известная картина, но надо понять ее внутренний смысл.
– А я все-таки стала завлитом в театре. – Она пустила дым мне в лицо, и подбородочек ее выдвинулся вперед.
– Через этого?
– Ага. Что скажешь?
– А пошла ты! – коньяк уже начинал оказывать свое действие.
– Я постелю тебе на диване, – сказала она.
– Я не буду спать дома. – Я уже решил, что поеду к своим ребятам, брату-Володе и несчастному Лошаку. Мне с ними будет жить проще и лучше.
Между прочим, у тебя отец умер, – сказала из комнаты Лида.
– Между прочим? – Меня удивил не факт, а то, как это она сказала.
– Телеграмму дали на неправильный адрес. Она шла четыре дня.
– Заткнись!
Я придвинул к себе его коньяк и налил в е г о рюмку. Я измывался над самим собой, как последний неврастенический хлюпик. Странно, но смерть отца меня нисколько не ошеломила. Со стеклянной ясностью я вдруг понял, что для меня отец умер очень давно, наверное, с тех пор, после тех лет, как он сидел у моей постели в чулане, где я лежал с поврежденной спиной и мне нельзя было шевелиться. Тогда он был мне отец и мать. А потом я ушел, сбежал от него. Убегая, ты предаешь.
Ясно и просто, как спички.
Грязь и боль, все смешалось. Может быть, поэтому сработал какой-то переключатель, и я стал думать о вещах, вовсе далеких от измены жены и смерти отца.
Лишь мелькнула мысль о том, что я собирался поехать к брату-Володе.
И еще о расписке на отцовский дом, которую я дал матери задолго до смерти отца.
И о Мельпомене. Он прилетел к нам перед самым вскрытием реки. Северьян и Поручик с утра ждали его на аэродроме. АН-2, арендованный совхозом, плюхнулся, подрулил, выскочил второй пилот, и неторопливо показался Мельпомен в коротком полушубке и коротко обрезанных резиновых сапогах.
Северьян и Поручик кинулись к нему, как малые дети, но где-то на полдороге застеснялись и чинно протянули ладошки.
– Рыбачить со мной будете? – сразу спросил Мельпомен.
– С удовольствием, – сказал Поручик.
– А то! – сказал Северьян.
– Тогда таскайте. – И Мельпомен первый полез обратно в фюзеляж. Оттуда полетели мешки с сетями, связки наплавов из пенопласта, нанизанные, как бублики, проволочные кольцевые грузила для сетей. Затем Мельпомен лично вынес два плотницких топора с калошами, надетыми на острия.
– Да ить топоры-то! Да неужто мы тут без топоров живем! – донесся возглас Северьяна.
Они перетаскали все это к аэропортовской избе и затем стали выносить пачки связанных проволокой досок. Даже я видел, что это очень хорошие, отборные доски, распиленные и просушенные надлежащим образом, что в них нет сучков, трещин, косых слоев и так далее. Северьян таскал эти пачки, как ценности. По-моему, руку мне он жал куда менее бережно. Поручик вынес замотанный в старую телогрейку подвесной мотор. Мельпомен вымел веничком оставшийся мусор, стряхнул его на аэродромное железо и сказал в пространство: «Все! Прилетел я, ребята!»
А аэродромные ребята уже щупали кольца-грузила, лезли в мешки с сетями, ковыряли пенопласт наплавов, и было видно, что в каждом из здешних сидит рыбак и они отчаянно завидуют Мельпомену – вольному человеку, который сменил мундир юриста на почтенный рыбацкий труд.
Мельпомен поздоровался с ними со всеми по-дружески, вежливо. Неожиданно появился Саяпин. Его неделю назад вывезли из стада вертолетом. Как и Мельпомен, он был в коротком полушубке и коротких резиновых сапогах. Была в них похожесть.
– А-а! Праведник объявился, – сказал Саяпин. Он как-то нехорошо улыбался.
Мельпомен вскинул голову: «И ты здесь? Ну-ну!» Саяпин отвернулся и полез наверх, к метеорологам. Пойдемте, я отведу вас в приготовленное жилье,– вежливо сказал Поручик.
– Избу уж натопили. Ждем, – бухнул Северьян. Мельпомен оглядел сети, прошелся как-то по лицам аэропортовских, поднял голову на будочку метеорологов, куда улез Саяпин, и сказал:
– Сети, грузила надо с собой прихватить. И доски. Аэропортовские рассмеялись.
– Да бери нашу машину. Вон Дядьвась идет. Дядь-вась! Подкати телегу, будешь все лето с рыбой!
Дядьвась издали оценил обстановку – бывалый северный человек – и пошел заводить грузовик.
Какая собака, когда пробежала между Саяпиным и Мельпоменой?
Что за Боря № 2 возник между мной и бывшей женой?
Что было между матерью и умершим отцом?
Не знаю. Лучше о другом.
К примеру. Я видел счастливых людей.
Я видел счастливых людей под яростным солнцем конца мая на Севере. На берегу протоки, подходившей к проселку, Мельпомен организовал свой рыбацкий стан. Тут была верфь для лодок, и колья для растягивания сетей, и котел для смолы, и тут неизменно горел костер с неизменно висящим над ним чайником.
Северьян в своем свитерке из груды лиственниц вырубал кокоры для лодочных шпангоутов, Мельпомен сортировал доски, а Поручик с цигаркой в зубах перемещался меж полотнищ сетей и штопал разные малые дырки. Не знаю, как на лесорубной работе, но здесь Поручик вовсе не походил на человека, который когда-то в Вене пил кофе со сливками. Это был небритый, худощавый малый в грязноватой рубашке, обвисших брезентовых штанах, и лишь взгляд у Поручика оставался прежним: виноватым, внимательным, ласковым и все понимающим одновременно. Он был здесь на месте. Северьян бубнил что-то нечленораздельное, крушил листвяк, по-моему, больше пальцами, чем топором, а Мельпомен с первородным изумлением говорил: «Вот доска, так это доска-а! Мы ее на борт пустим».
А однажды я увидел, что они работают вчетвером. Четвертым был Рулев. Он присоединился к Поручику и штопал сети с не меньшей сноровкой, чем тот. Они работали и изредка обменивались взглядами, и я даже возревновал Поручика, ибо раньше лишь мне Поручик выражал взглядом тайное родство и сходство наших заблудших душ.
Рулев проработал весь день и к вечеру был обгорелым от солнца, точно вернулся с Кавказа. Он сидел у окошечка нашей комнаты, смотрел в синеватый свет за окном и вдруг сказал:
– А ну бы все к черту! – И сам себе ответил: – Нельзя!
Я вжился в роль рулевского секретаря и знал, когда не надо к нему лезть с разговорами. Посему я молчал, делал себе конспектик работы.
– А Мельпомен наш с бо-ольшой заносцей мужик, – сказал Рулев добрым голосом, я чувствовал, что он улыбается. Я видел на фоне окна рулевский профиль. Я вдруг заметил, что он отяжелел со времен нашего знакомства, не было той городской обаятельной легкости. И умные залысины Рулева как-то раплылись, стали шире, и отяжелели щеки. И как бы чувствуя мои мысли, Рулев сказал сам себе, это уж точно:
– Директор! Да!
И снова передо мной поплыло солнце, и три фигуры на берегу протоки, и дым костра у воды и… наверное, тогда я и заснул.
Проснулся я утром. Я спал, положив голову на стол. Прежде всего я взял бутылку и рюмку и вынес все это в мусоропровод. И лишь потом увидел записку на холодильнике: «Несколько дней поживу у подруги. Давай разойдемся по-человечески. А по-человечески – это значит на моих условиях. Лида».
III. СВЕТЛОЕ И КРАТКОЕ.
То лето мне представляется бесконечным, длинным, как день, когда ты поднялся в шесть утра, не имея определенного плана и цели. И, ложась в двенадцатом часу ночи спать, ты думаешь о всяких непредвиденных событиях, которые произошли, и о том, что бывают удивительно длинные дни, и о всяком другом.
Например.
Как историк, занимающийся колхозным строительством и Арктике, и видел ликвидацию последнего единоличника. Может быть, это был последний сельский единоличник в государство.
Я не знаю, какими путями Саяпин нащупал летний маршрут стада Кеулькая. Может, просто логикой. А когда логика сопряжена с вертолетом, все становится проще.
Когда я прилетел, они уже получили разрешение. Ждали лишь вертолет. И, видимо, позади были какие-то крепкие споры. Я понял это по официальным отношениям между Саяпиным и Рулевым и по тому, что случилось дальше.
Мы вылетели втроем. Саяпин, Рулев и я. Рулев счел необходимым взять меня. Саяпин на это только хмыкнул.
– Фотоаппарат пусть захватит, – сказал он Рулеву, хотя я стоял рядом.
– А я снимать не умею, – сказал я. – В жизни в руках не держал фотоаппарата.
Саяпин вздохнул, и во вздохе этом было: «А что ты вообще-то умеешь?»
Мы вылетели в восемь утра. Дырчатая железная полоса аэродрома была мокрой от ночного дождика. Лиственницы за взлетной дорожкой уже начали желтеть, и где-то в глубинах их ползли тихие клочья тумана. Была тишина, птицы почему-то молчали, и из колхозного поселка доносились резкие и редкие человеческие голоса. Потом вдруг резко затрещал пускач, и тотчас мирно и убаюкивающе заклокотал дизель – это опробовали поселковую электростанцию. Дизель и все оборудование для нее завезли самолетами, и вместе с тяжелыми замасленными ящиками прибыли два новых жителя – один специалист по установке этих малых электростанций, в меховой куртке, и еще трясущаяся личность – будущий дизелист, которого Рулев подобрал, по своему обыкновению, на какой-то человеческой свалке.
Вертолет оглушительно дребезжал. Я сел на скользкую металлическую лавочку, тоскливо посмотрел на красную надпись «Не курить» и прильнул к иллюминатору. Вертолет вначале пошел косо, как лист, гонимый осенним ветром, потом выровнялся. Внизу была наша Река. Она блестела десятками проток, зеленела островами, и дальше шли серые сухие русла, тайга, а еще дальше желтая, заросшая осокой равнина с рыжими пятнами марей, где-то на одной из них Щербаковская заимка, а еще дальше уже синели голые хребты.
Мы шли над рекой, и где-то минут через десять я, честное слово, увидел рыбацкий стан Мельпомена – две четкие палатки на берегу тихой и гладкой заводи, был дым от костра, и по заводи, как водяной жучок, двигалась моторка, и от носа ее разбегались усы. У меня вдруг кольнуло сердце от той тишины. Там, внизу, людей я, конечно, не успел рассмотреть, но увидел дым костра, потом все это исчезло, и остался лишь железный грохот.
Саяпин вынул из-за пазухи сложенный лист карты, посмотрел на него и по железной лесенке полез наверх, в кабину пилотов. Рулев полулежал на своей металлической лавочке и не смотрел ни на меня, ни на ноги Саяпина, торчавшие из кабины на лесенке, ни в иллюминатор. Он смотрел в трясущийся металлический потолок.
Через полчаса вертолет снова накренился. Река исчезла. Под нами осталась тайга, сверху она была совсем рыжей, и чем дальше, тем рыжее, ее прорезали какие-то малые ручейки, они были сверху серыми от гальки, и в серости этой изредка отблескивала вода. Я все смотрел, смотрел, пока не зарябило в глазах, потом отвернулся, а когда посмотрел снова, то мы уже шли вверх, под нами был черный и серый от лишайников камень хребта. Кое-где в хребты врезались широкие цирки верховьев ручьев, и они были ярко-красными. Я знал, что это от полярной березки, которая краснеет от увядания.
Вертолет грохотал и грохотал. Хотелось спать. И Рулев перестал разглядывать трясущийся потолок, закрыл глаза. Я, наверное, задремал, потому что очнулся от толчка. Толкал меня Саяпин и что-то кричал. Я угадал слово «Есть!», а Рулев уже смотрел в иллюминатор.
Саяпин возбужденно полез снова вверх по лесенке. Я смотрел и видел лишь красный от увядшей березки цирк, дальше серые камни склона, еще дальше черную щебенку. Вертолет накренился в одну сторону, в другую, и вдруг я увидел на краю красного и серого пеструю ленту, она двигалась, была живой. То было оленье стадо. Вертолет стал снижаться, и я успел увидеть в самом центре цирка островерхий пастуший чум и дымок костра. Костра Кеулькая. Последнего единоличника в государстве.
Вертолет сел на желтой травянистой полянке, окруженной желтыми лиственницами. После грохота настала тишина. Мы спрыгнули на твердые кочки, и вдруг показалось, что ничего этого не было, ни пестрой ленты оленьего стада, ни четкого силуэта чума. Лиственнички и тишина и еще запах бензина, который здесь, на земле, чувствовался почему то острее, чем в вертолете.
– Там! – сказал Сияпин и махнул рукой. На плече у него откуда-то взялся карабин.
Второй пилот и бортмеханик спустились на землю вслед за ним. А командир остался в кресле и смотрел на нас с высоты, отодвинув форточку.
– Оставь карабин, – сказал Рулев. Но Саяпин уже споро двинулся к лиственничкам. Рулев в два счета догнал его.
– Оставь карабин, – сказал Рулев. Саяпин остановился, и какое-то время они с Рулевым смотрели друг на друга. Рулев протянул руку, снял с плеча Саяпина ремень и вернулся к вертолету. Он сунул карабин в руки второго пилота, совсем молоденького, в аккуратной летной форме.
Саяпин топтался на месте.
– Пойдем, – сказал мне Рулев.
И мы пошли. Впереди шел Саяпин, за ним Рулев, последним шел я. Саяпин споро месил землю своими кирзовыми сапогами, Рулев шел, а я скоро начал задыхаться. Но мы уже вошли в лиственнички, они были редкими, а земля между ними щебенистой и твердой. Эти двое ходили куда как лучше меня, они шли затылок в затылок, а я то шагал широко, то пускался в мелкую пробежку, и молотилось сердце, и липкий нехороший пот закрывал лицо и спину. «Курить надо бросать, – думал я, – курить надо бросать». Я уже не думал ни о чем, только бы не отстать.
И вдруг Саяпин остановился.
– Сейчас выйдем, – сказал он. И добавил: – Или убегает. Или с винтовкой залег. Зря карабин не взяли.
– А что бы ты делал с ним? – спросил Рулев, глядя в сторону. – Стрелял бы, что ли? Таких полномочий нам не давали.
Саяпин промолчал.
– Пошли, – сказал Рулев. – Пусти-ка меня вперед. В тебя, Саяпин, стрельнуть могут.
И Рулев неторопливо пошел вперед. Саяпин тяжко ступал за ним и все смотрел вперед. Лиственнички кончились.
И тут я увидел метрах в двухстах чум на красной поляне, за ним были горы, гладкий хребет полого убегал вверх в бледное небо. У чума все так же дымился костер, и я увидел фигуру, которая сидела у костра лицом к нам.
– Идите за мной метрах в пятидесяти, – сказал Рулев и, не оглядываясь, пошел вперед. Когда до костра осталось метров сто, Рулев раскинул руки и распахнул куртку, показывая, что у него нет оружия. Фигура у костра не шевельнулась.
Это был глубокий старик. Он сидел, скрестив ноги, и смотрел на нас с Саяпиным. Я слышал, как Рулев сказал «здравствуйте», но старик не повернул головы. Рулев сел. Старик смотрел на одного Саяпина. Мы подошли к костру. Сели. Я не видел в глазах старика страха, пожалуй, в них была усталость и еще какой-то вопрос. Я поздоровался, старик не ответил. Он смотрел на Саяпина. Тот сел на корточки как раз через костер от старика. Саяпин молчал. Молчали и мы. Из-за перистых облаков вышло солнце, и поляна вспыхнула темно-красным светом, а дым костра вдруг посинел. Было тихо.
Я рассматривал старика. Он был без бороды и совершенно сед. Вытертая летняя кухлянка была надета на голое тело, и в вороте я видел темно-коричневую сморщенную кожу на груди, и лицо старика было темно-коричневым, как кожа на старом потертом портфеле. И вдруг я вспомнил. Я вспомнил однажды пришедшее ко мне удивление. Был у меня такой период в жизни, когда я шатался по музеям. Мне нравилась тишина, которая была в них, и, наверное, я хотел найти в себе такую же тишину. И разглядывая портреты работы старых мастеров, я вдруг поразился однажды силе страстей, которая была на лицах умерших сотни лет назад кардиналов, пап, герцогов, неизвестных мужчин. Их лица были выразительны. В них была жестокость, алчность, скупость, в них был характер. И долго потом после этого удивления я не мог привыкнуть к лицам в метро и на улице, они казались бледными промокашками с полувысохшего текста жизни. Лишь позднее, гораздо позднее я встретил подобные лица у старых летчиков полярной авиации, лица, в которых была жизнь и характер, а не мелкая каждодневная суета.
У Кеулькая было грубое, морщинистое, загорелое лицо человека, имевшего страсти.
Старик все так же смотрел на Саяпина и вдруг что-то сказал. Голос у него был тихий и хриплый.
– Жалеет, что не убил меня, – громко перевел Саяпин и тут же ответил старику. Старик сунул руку за пазуху и вынул деревянную пастушью трубку. К трубке был привязан кисет из почерневшей от пота и времени кожи. Старик набил трубку, как я заметил, самой обыкновенной махоркой. Теперь он смотрел на Рулева. Оп снова что-то сказал.
– Говорит, что устал бегать. Что мы можем убить его, если нам хочется. Он устал бегать. Он старый, – перевел Саяпин. Из чума вдруг вышел парень лет двадцати. Он был в пастушьей обычной одежде, и, по-моему, он был эвенк, только у эвенков можно встретить эту тонкость, изящество и эти полудетские мягкие и правильные черты лица. Я видел, как дернулся Саяпин и как он вдруг затих, разглядывая парня. Он думал, что выйдет его сын. Но это был явно не его сын. Парень сел рядом со стариком. Он разглядывал нас, и в глазах у него был и испуг и любопытство. Следом вышла женщина. Она была коренаста и неуклюжа. Неуклюжесть эту еще больше подчеркивал меховой комбинезон-керкер, который носят местные женщины. В темные волосы были трогательно вплетены красные, потемневшие от времени и грязи тряпочки. Это и была дочь Кеулькая, которая родила от Саяпина сына.
Женщина села на землю поодаль от нас, за спинами Кеулькая и юноши-эвенка.
Саяпин спросил. Кеулькай ответил, коротко кивнув головой. Я понял, что Саяпин спрашивал о своем сыне, и понял, что сын его сейчас как раз у стада. На женщину Саяпин не смотрел. Они стали переговариваться со стариком короткими, как бы вззешенными на интервалах между ними фразами. Рулев молчал. Молчал и я. Я закурил, перехватив взгляд, каким парень-эвенк смотрел на мои сигареты, и протянул ему пачку. Он смотрел на сигареты, на меня, на старика и не протягивал руки. Я положил пачку перед ним. Парень взял ее. Руки у него были маленькие, женственные и очень правильной формы, как это бывает у эвенков. Он взял пачку, покрутил ее и вдруг улыбнулся. И тут мне захотелось плакать. Это была дикая, больная и беззащитная улыбка ненормального человека. Он вынул сигарету, взял от костра прутик и стал прикуривать ее с обратного конца, с желтого фильтра. Сигарета не разгоралась.
– Нет, – сказал я. Взял пачку и продемонстрировал, что фильтр надо брать в зубы, и снова положил пачку перед ним. Парень глянул на меня, и в темных узких глазах его мелькнула благодарность, понимание, жажда общения и черт его знает, что там еще было, в этих темных блестящих глазах, глазах больного зверя, которого вы палкой загнали в угол, но почему-то не бьете. А! Говорю – плакать хотелось.
– Это сирота, эвенк. Достался Кеулькаю в подарок от такого же бродяги, как он, – мимоходом обронил Саяпин и продолжал говорить со стариком.
Я улыбнулся парню, и он с такой поспешной готовностью улыбнулся мне своей дикой, обнажающей десны улыбкой, что я отвернулся.
– Сволочи мы, – сказал я Рулеву. – Сволочи и наглецы.
– Почему? – не поднимая головы, тихо спросил Рулев.
– Чего к людям лезем? Они нас не трогают, мы их не должны трогать. Пусть живут так, как им нравится.
– Кому? Кому нравится? – тихо спросил Рулев. – Кеулькаю? Его дочери? Или этому… из магазина подарков? Кому?
Я не ответил.
Кеулькай кратко обронил что-то. Парень тотчас поднялся. Исчез в чуме и тотчас вынырнул из него. Я понял, что Кеулькай отправляет его к стаду, чтобы сменить сына. Парень еще раз оглянулся на костер, на нас. Я видел, как в глазах у него мечется мысль и растерянность. Затем он побежал. Не пошел, а именно побежал, легко выбрасывая тонкие, обтянутые кожаными штанами ноги. Не знаю, какая пружина меня вскинула, ноя бросился вслед за ним.
– Эй! – крикнул я. – Эй!
Парень остановился. Я подбежал к нему, сунул в руки пачку сигарет и свою японскую зажигалку. Она была бензиновая, с электровоспламенителем. Кремни ему не нужны, а бензин можно взять у вертолетчиков. Он взял сигареты, по лицу металась пугающая его улыбка, и, зажав зажигалку, вопросительно посмотрел на меня. Я показал. Я говорил ему о том, что надо заливать бензин, и еще молол что-то. Он щелкнул, посмотрел на пламя. Прикрыл, снова щелкнул.
– Долго нельзя жечь, прикурил и закрывай, – орал я и махал руками.
– Ы! Ы! – сказал парень. – Ы!
Он был немой. Я сунул ему зажигалку в руки и пошел прочь. Он побежал. Он бежал неровно, легко и нервно, как бежали бы мы в ночной темноте в незнакомом переулке, где ямы, мусор и лужи. Он еще остановился и оглянулся и, увидев, что я смотрю вслед, тут же метнулся дальше. И исчез.
– Переведи ему, – говорил у костра Рулев, – что я предлагаю ему продать оленей совхозу.
– Лучше убить его. Он оленевод и не может жить без оленей, – перевел ответ Саяпин.
– Он останется при своих оленях. Я назначу его бригадиром, хозяином стада. Он будет жить при нем до конца своих дней, – терпеливо сказал Рулев.
Саяпин перевел.
Кеулькай молчал, видно, обдумывая это странное предложение.
– Переведи. Он старый человек. Зачем он лишает жизни дочь, внука, приемного сына. Все равно впереди у них ничего нет.
Саяпин перевел. Кеулькай молчал.
– Его никто не тронет. С совхозным стадом он будет кочевать открыто. Будет чай, мука, патроны – все, что они хотят.
Саяпин перевел.
– Он все равно будет богатый человек. За стадо он получит деньги, которых нет у нас всех вместе взятых, – сказал Рулев.
Кеулькай молчал.
Женщина встала и вскоре пришла с чайником. Чайник был странной формы, на лоснящихся боках его блестели капельки воды. Она поставила чайник у костра, потом принесла прокопченную деревянную треногу. С треноги свисала простая капканная цепочка. Она поставила треногу над костром и зацепила крючок на дужке чайника за цепочку. Саяпин пододвинул в кучу прутики и перевесил чайник чуть ниже. Он глянул на женщину и чуть усмехнулся. Но она уже сидела неподвижно и смотрела куда-то в долину.
Чайник закипел. Она поднялась и вернулась из чума с мешочком. В мешочке был истолченный кирпичный чай вперемешку с брусничными листьями и какими-то корешками. Она сняла чайник. Но Рулев движением руки остановил ее. Он открыл полевую сумку и вынул из сумки газету. Расстелив газетку, Рулев с какой-то бережной тщательностью прижал камушками ее углы и положил на газету три пачки плиточного чая. Я видел, что дочь Кеулькая обрадовалась. Она отломила от одной пачки кусок и бросила его в чайник. Саяпин снова повесил чайник на цепочку, а когда он запузырился, снял и отставил в сторону. Рулев меж тем вынул из сумки несколько пачек патронов для малопульки, три обоймы винтовочных патронов и картонную коробку патронов для охотничьего карабина калибра 8,2. Он жестом показал все это Кеулькаю.
Кеулькай взял патроны от малопульки и обоймы. Охотничьи патроны он не тронул. Все это исчезло тут же в вырезе кухлянки. Рулев убрал патроны. Дочь Кеулькая унесла чай и принесла нанизанные на палочку кружки.
И в это время послышался топот, и из-за чума вылетел и затормозил, как осаженный конь, огромного роста мужчина в оранжевой летней кухлянке, оранжевых ровдужных штанах, с винтовкой через плечо. Он затормозил, как осаженный конь, по-моему, даже камни брызнули из-под торбасов. И тут же подошел, и сел рядом с Кеулькаем, и посмотрел на нас открыто, дико и выжидающе. У него была правильная фигура, правильной формы лицо с негустыми усами и длинные, точно по моде, волосы. У метисов здесь всегда бывают правильные лица и великолепные правильные фигуры. Это был сын Саяпина. Он все еще тяжело дышал, и глаза его перебегали с Рулева на Саяпина, с Саяпина на меня. Старик тихо сказал ему что-то. Парень задышал еще сильнее и выпрямился. У него был вид человека, который получил единственный шанс в своей жизни и не хочет его упустить.
– Здра-в-ствуй-те, – вдруг с усилием выговорил парень и задышал еще сильнее.
– Скажи ему, – обронил Рулев. – По-моему, он тут всем и заправляет.
Саяпин заговорил.
Парень кивал головой. Саяпин все говорил. Парень кивал головой. Потом он сунул руку за пазуху и вытащил… мои сигареты и, небрежно щелкнув, прикурил от моей зажигалки и небрежно оперся на локоть – крепкий зверь в мехах.
Саяпин вдруг охнул и засмеялся каким-то клохчущим смехом.
– Уже! Отнял! Кровь! Вот что значит кровь, – сквозь смех простонал Саяпин. Я отвернулся.
Саяпин снова заговорил, и парень ответил ему кратко тремя тыркающими резкими словами.
– Он согласен. Все согласны, – торжественно объявил Саяпин. Парень с жадной заинтересованностью смотрел на Рулева. Кеулькай снова закурил свою трубку. У него был вид человека, измученного неизвестной болезнью, и вот теперь ему объявили, что у него рак. Дочь Кеулькая все так же безучастно смотрела в долину.
– Иди, посмотри оленей, – сказал Рулев Саяпину. – Оцени их примерно и прикинь, сколько. Хотя бы с точностью до сотни.
– До десятка угадаю с первого взгляда, – громко ответил Саяпин и тут же обратился к сыну. Тот с готовностью вскочил, метнул только взгляд на отца, на Рулева.
Они ушли. Парень был на голову выше отца и, пожалуй, шире в плечах, хотя Саяпин был куда как кряжист.
– А ты, филолог, топай к вертолетчикам. Скажи, что задерживаемся. Что так надо.
От вертолетчиков я вернулся с бутылкой авиационного бензина. Мне налили ее из отстойника. Я все же надеялся, что зажигалка будет у немого эвенка. Так я хотел, и так должно было быть.
Солнце село ниже. Похолодало. Перистые облака разошлись, и от них остались лишь тонкие белесые ниточки. Рыжая тайга под нами потемнела и стала похожей на старое золото.
Саяпин с сыном вернулись возбужденные. Ну, возбуждение молодого Кеулькая было можно понять. А Саяпин?
– Не олени, а кони! – издали крикнул он. Подошел к Кеулькаю и покровительственно похлопал старика по плечу. – Ну, силен! Ну, специалист. Таких мамонтов вырастить. Все как гвардейцы.
Кеулькай даже не шевельнулся.
– Тысяча четыреста штук, торжественно сказал Саяпин Рулеву. – Высшая кондиция. Высшая категория. Вот так!
– Надо, чтобы кто-то из них, или отец, или сын, полетел с нами, – сказал Рулев. Он сидел, сгорбившись, и обдумывал что-то свое. – Документы на покупку оформить надо. Бригаду оформить надо. Скажи, что доставим обратно с товарами.
Саяпин сказал.
Молодой Кеулькай тревожно выпрямился, и на лбу у него выступил пот. И тут же он трижды кивнул. Дочь Кеулькая стала что-то монотонно перечислять. И старик безучастно обронил несколько фраз.
– Заказы дает. Говорят, что будут ждать на этом же месте, – торжественно объявил Саяпин.
Зажигалку я так и не забрал.
В вертолете молодой Кеулькай сидел безучастно и неподвижно. Чего-чего, а гордости у него хватало.
В правлении я был свидетелем того, как на счет бригадира Кеулькая было начислено двадцать семь тысяч рублей в новых деньгах.
Двести рублей молодой Кеулькай получил наличными и отбыл в сопровождении Саяпина с грузом муки, ситца, чая, сахара, конфет, табака, папирос, винтовочных патронов. Я научил его обращению с зажигалкой и передал через Саяпина, что принадлежит она немому пастуху Эму. Ему же я послал блок сигарет «ВТ». Одним словом, осчастливил.
Как раз выяснилось, где Лошак раздобыл спирт. Так это происходило. Еще весной, когда мы ездили в стадо, Саяпин отправил с Лошаком четыре шкурки пыжика, которые он взял у пастухов. Три шкурки Лошак должен был запаковать, надписать адрес и отправить в Геленджик знакомой Саяпина. Одна шкурка шла Лошаку в качестве гонорара. На нее он и выменял спирт у нашего завхоза – майора-отставника. Из одной шкурки как раз выходила одна шапка. Пыжиковая шапка в те времена стоила семьдесят рублей. Не мог майор устоять.
– Если. Еще раз. И никакой Лажников тебе не поможет, – сказал Рулев Саяпину. – Ты мужик битый. Я знаю. Но я тоже битый. Ты крепкий. Но я тоже крепкий. Помни.
– А мать его перемать! – возмущенно ответил Саяпин. – Ну, свихнулись нынче все на этих мехах. Бабы. Юг. Обещал я прислать. Мне эти бабы еще пригодятся, еще я живой. Пропади оно пропадом! А мне не грози, директор, не надо.
Было все это в нашей комнате, и Рулев сидел, уставившись в единственное окно, а Саяпин с шумом пил чай.
– Мне эти меха только одно место подтирать, – сказал, уходя, Саяпин. – На кой они мне нужны? Кому обещал, выслал, а так… я на них на всю жизнь насмотрелся.
– Пиши объяспительную, – сказал Рулев майору Федору Филипповичу. – Как обменял шкурку, как из-за этого погиб человек.
– Не буду, – сказал кладовщик. – Не буду. Было видно, что он отчаянно трусит, и еще было видно, что он крепко округлился и посвежел в родной атмосфере накладных, фактур и отчетных ведомостей.
– Не будешь – передам дело в суд, – сказал Рулев.
Майор сел и написал.
«Мною был произведен фактический обмен 1 (одной) бутылки спирта на 1 (одну) шкурку пыжика, которую мне предложил вездеходчик совхоза Глушенко А. А.».
Подпись.
– А почему не написал, что из этого получилось? – спросил Рулев.
– А я мог это знать? – резонно возразил майор.
– Тогда поставь дату, когда был произведен этот фактический обмен, и подпишись.
– Уволюсь, – сказал майор, выполнив требование Рулева.
– Не-е! – усмехнулся Рулев и повернулся к нему от своего излюбленного оконца. – Не дам я тебе уволиться.
– Почему? – испуганно спросил майор.
– Во-первых, ты у меня на крючке. Значит, воровать будешь с оглядкой. Во-вторых, здесь у меня твой брат, который тебя насквозь видит. Он об этой бутылке и о том, что ты ее дал, сказал четыре месяца тому назад.
– Мишка! – с ненавистью произнес майор.
– Ну и, в-трётьих, ты отлично знаешь, что такую хлебную должность тебе в этих краях нигде не добыть. Контингент, Федор Филиппыч, у меня в основном со странностями. Алкоголика ставить завхозом я не могу. Ты у меня будешь завхозом. Понятно?
– Грубить-то зачем? – вздохнул майор. – Ну, дал слабинку. А кто ж его знал, что будет? А кто ж ее не дает, слабинку-то?