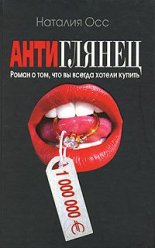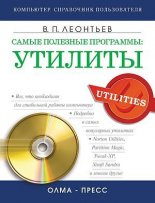Правила бегства Куваев Олег
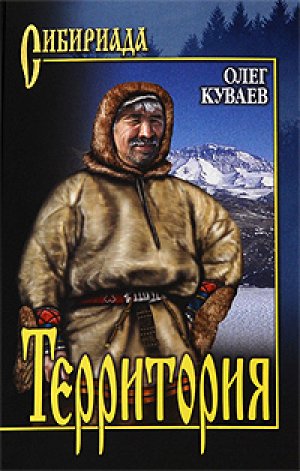
– Такие вещи учительница начальных классов знает, – ответил Рулев, и голос у него был жесткий. – Мы взрослые мужики. И обязаны думать как взрослые мужики.
Получилось так, что первым реальным продуктом, который выдал внешнему миру оленеводческий совхоз Рулева, оказалась рыба. Рыбу эту поймал, приготовил к продаже Мельпомен. Его моторка с широкой плоскодонкой на прицепе спустилась с заводей верхнего течения реки. В моторке и плоскодонке лежали аккуратно завязанные бумажные мешки. В таких мешках возят почту. За сотню метров от них шел запах копчения – запах рыбы, хорошего дыма и еще чего-то, от чего набегает слюна. В мешках была тонна отборного, слабопосоленного и затем выдержанного в дыму чира – лучшей рыбы северо-востока.
Лодка причалила к берегу поселковой протоки, сразу образовав вокруг себя облако запаха, где к запаху рыбы еще примешивался запах бензина, реки.
Мельпомен вышел на площадку, где они делали лодки и чинили сети, и закурил. Он курил и удовлетворенно рассматривал домики поселка, торчавшую над лесом диспетчерскую вышку аэропорта вдали, новое здание электростанции и тесовый гараж для вездеходов справа. Лицо у Мельпомена было загорелым, тщательно выбритым и умиротворенным. Он неспешно курил и курил свою нескончаемую папиросу, а мимо него туда-обратно бухал сапожищами Северьян, который таскал рыбу на склад. Мельпомен докурил и тоже стал таскать мешки. И я, грешным делом, присоединился. В каждом мешке было килограммов сорок рыбы. Такой груз мне, наверное, разрешил бы носить любой врач. Я отнес два мешка, а когда взялся за третий, Мельпомен сказал:
– Иди, зови директора. Где кладовщик?
Когда мы с Рулевым пришли к гофрированной из американского металла стенке склада, мешки уже были уложены, а Мельпомен и Северьян, добродетельные труженики, разглядывали плоды трудов своих сквозь синий табачный дым.
Мельпомен сказал Рулеву:
– Выбирай любой мешок. Проба.
– Вот этот, – сказал Рулев.
– Вскрой. – Мельпомен протянул Рулеву узкое длинное лезвие – рыбацкий нож.
Рулев вскрыл.
– Суй руку, тащи любой хвост. Пробуй. Рулев сунул руку и вытащил «хвост».
Рыба была окрашена в оттенки коричневого цвета. Она была распластана со спины, и брюшко ее дымчатой нежно просвечивало на солнце. От нее шел горьковатый и щемящий аромат осени. Рулев держал ее за хвост, и на одном из грудных плавников повисла прозрачная капелька жира. Рулев положил рыбину на мешок, отхватил кус и протянул мне. Потом отрезал себе.
– Такую закусь. Всухую… Грех. – Северьян посмотрел на небо.
Рыба была прекрасна. Она горчила и таяла на языке. Она отдавала сладостью и травой. Нигде я такой рыбы не ел и есть, конечно, не буду.
Рулев отдал нож Мельпомену и вытер руки о штаны.
– Так! Так! – сказал он. – Договорная цена у нас?
– Два пятьдесят за копченую, – ответил Северьян. – Для этих, значит, нефтяников и прочего городского населения Нижних Крестов.
– Нет, – сказал Рулев. – Нет.
Сбоку от него уже топтался наш кладовщик. Мельпомен и ему протянул нож, и он, деликатно отрезав кусок, жевал его. Лицо у майора было задумчивое, а ноги беспокойно топтались на месте.
– Сейчас еще лето, – сказал Рулев. – Значит, народ летит из отпуска или в отпуск. Туда или сюда, но мимо этой рыбы никто не проедет. Около аэропорта. Ларек. Пять рублей килограмм.
– Кто торговать будет? – спросил майор.
– Ты, – ответил Рулев.
– Я торговать не нанимался. Я завхоз.
– Здесь тонна. Проверим на весах. Значит, пять тысяч рублей. Усушка, утруска и прочее. Четыре с половиной тысячи рублей в кассу, Федор Филиппыч.
– Слушаюсь, – сказал майор.
Мельпомен молчал, как будто этот разговор его не касался.
– Эту тонну, ежли летная погода, разберут за день, – рассудительно сказал Северьян.
– Я что думаю, – майор сплюнул шкурку, вытер губы носовым платком. -Усушка, утруска, контакты, конечно, налажу. А если контакты налажены, надо гнать следующий груз. Когда будет другой груз?
– Рыба пошла, – сказал Мельпомен. – Через неделю будет еще тонна копченой. И через неделю еще. А также малосольная в бочках.
– Десять бочек берем для совхоза. Для работников центральной усадьбы.
– Это понятно, – согласился Мельпомен. – Но договор с нефтяниками выполнять надо. Им пойдет в бочках и часть копченой.
– Да, – сказал Рулев. Конечно.
– Рук не хватает, – вздохнул Мельпомен. – Три хороших заводи рядом. Все сети раскиданы. Проверяем через четыре часа. Я проверяю. Поручик и Северьян пластают и солят. Собственно, я солю, но готовят они. А огонь в коптилке держать некому.
– А вот он будет его держать, – Рулев кивнул па меня. – Он у нас научный сотрудник, ему деньги нужны. Может он у вас заработать?
– А почему нет? Почему нет? – сказал Мельпомен.
– Эт-та у нас-та, – Северьян положил мне на плечо руку, как штангу. – Человека мы не обидим.
Вечером я укладывал в рюкзак свои свитера и шерстяные носки. Рулев, придвинув стол к своему излюбленному окну, заполнял месячную отчетность. Я видел затылок Рулева с длинными прямыми черными волосами, слышал поскрипывание пера и стук его о дно чернильницы – Рулев почему-то не признавал авторучек. Потом скрип пера затих, и я увидел, что Рулев давно уж смотрит в окно. И вздыхает.
– Смешно, – голос Рулева был торжественно грустным. – Лыжня.
– Какая лыжня? – Я знал, что ему нужна реплика.
– Такая. Бежишь ты по лесу на лыжах. Лыжня вправо, ты вправо, она прямо, ты прямо. А свернуть и срезать угол нельзя, потому что кругом снег, целина, а лыжи у тебя узкие, пригодные лишь для лыжни. И она диктует тебе направление. Два выбора у тебя: либо по ней вперед, либо, развернувшись, обратно.
– Не понял, – подал я свою реплику.
– А что понимать? Совхоз у меня становится совхозом. Завтра отправляем первую товарную продукцию. В активе два оленьих стада. Осенью будет три, и будет товарная продукция оленины. И я директор всего. А что у меня есть для директора? Ничего, кроме небольшого знания людей. В экономике я полный дуб. В оленеводстве – дуб трехкратный. И какой идиот сказал, что можно руководить хозяйством без специальных знаний? – Рулев помолчал. И тихо добавил: – Совхоз этот я никому не отдам. Я притащил сюда людей и обязан их довести до черты. Вот что решил: осенью рвану в центр и найду себе заместителя. Обязательно с высшим сельскохозяйственным и обязательно молодого и злого. Все хозяйство – ему. Мне – люди и общая политика. Единственное решение.
– Наверное, единственное, – согласился я.
– Я шлю тебя на рыбалку не для того, чтобы ты коптилку топил. Хотя и это тебе не вредно. Но главное – присмотрись.
– К чему?
– Вообще присмотрись. Ты же дилетант. А дилетанты всегда все хорошо подмечают.
– Попробую, – сказал я. – Хоть и не представляю, что я должен подметить.
– У меня штук сто биографий в башке, – сказал Рулев. – Штук сто медицинских анамнезов. И что? Хоть бы один пошел в бичи по причине «разочарование, душевный надлом, житейская катастрофа». Все пошли «просто так» – спиваются, гибнут без заданной цели, без всяких причин. Это-то меня и бесит, это мне труднее всего. Когда у человека причина или у него цель – легко доказать ему ложность причины и цели. А если ему нечего тебе возразить? Если он только вздыхает и кается? Крепкое желание взять кирпич и трахнуть им по курчавой бестолковке. Но нельзя.
– Почему?
– Любителей «метода кирпича» очень много кругом. А я, видишь ли, всегда любил индивидуальность, всегда любил жить собственным методом, – хмыкнул Рулев.
«Круговращение бытия», – бормотал я, просыпаясь. И, засыпая под ночные шумы, слабый шорох брезента, какие-то звериные вопли на дальних протоках, я бормотал: «Круговращение бытия». Слова эти прицепились ко мне на рыбалке Мельпомена, и я жил как усыпленный этой лишенной информации фразой: «Круговращение бытия».
Распорядка дня не было. Костер горел круглые сутки, и почти круглые сутки на нем висел трехлитровый чайник с дегтярной заваркой, а рядом стояла черная ведерная кастрюля с ухой. Из ухи густо торчали рыбьи головы и хвосты. Пододвинь, разогрей, зачерпни миску, поешь, сполосни миску в воде, налей кружку чая и высеки спинкой ножа искры из куска сахара, который лежал тут же, в другой кастрюле.
То утром, то поздним вечером, когда дальние сопки становились почти черными, а закат полыхал на полнеба, на реке щелкала, вжикала пружина стартера, начинал тонко трещать мотор, и на заводь выползала лодка. Мельпомен ехал проверять сети. Он возвращался, причаливал ниже лагеря, и Северьян с Поручиком, выпив напоследок по кружке чая, влезали в короткие резиновые сапоги и шли к реке. Разделочный стол был поставлен прямо в воде. Поручик и Северьян входили в воду, набирали на стол груду оловянных скользких чиров я вытаскивали ножи. Вжик – взрезана, вжик – внутренности летят в воду, а рыба тяжко плюхается в цинковое корыто у берега. Когда корыто наполнялось, они цепляли его проволочным крюком и волоком тащили к бочкам, где Мельпомен уже готовил тузлук. Миска серой соли из рогожных мешков, ведро воды, миска соли… «Три, четыре, соль крепкая… воды», – бормотал, священнодействуя, Мельпомен. Рыба плотными пластами укладывалась в сухую бочку, и сверху лился мутный белесоватый от соли тузлук.
– Эти две откатить, уже готовы, в коптилку, – командовал Мельпомен, и Северьян, натужившись, катил по ребру днища забитую соленой рыбой бочку. Он катил ее к брезенту, где лежал ворох коричневых палочек _ распорок для брюшка и ворох блестящих от копоти железных крючков. А чуть поодаль лежал мой топор – легкий, с длинным прямым топорищем и широкой полосой заточки, которую любовно навел для меня Северьян.
Я шел в лес искать сухую лиственницу и сухую иву-чозению. Их надо было нарубить на метровые полешки и класть в топку, вырытую в обрыве берега. От топки вверх шла канава, покрытая железными листами и присыпанная галькой, – это был дымовод. Он выходил наверх, в плотно сколоченный брезентовый куб, который круглые сутки сочился дымом. Внутри в три этажа была плотно развешана рыба. Раз в двое суток мы гасили огонь, открывали брезентовую, на рейках дверь и выбирали чуть теплую, пахнущую дымом и жиром рыбу и относили ее на упаковку под брезентовый навес и заполняли коптилку снова. Раз – берется скользкая от рассола рыбья туша, два – меж грудных плавников вставляется деревянная палочка, которая расправляет рыбу в белую пластину, три – около хвоста рядом с позвоночником втыкается острый конец проволочного крючка, который изогнут латинским S, четыре – второй конец крючка цепляется па проволоку, натянтую внутри коптилки.
Когда два верхних ряда были заполнены, я брал топор и шел в лес. Сухой лиственницы и сухой ивы поблизости становилось меньше, и я каждый раз уходил все дальше, в прозрачную сырость тайги, где ноги до колен тонули в путанице полярной березки, и вдруг все это кончалось, и я выходил на сухую протоку. Она была выстлана серой галькой и убегала вдаль и вперед, как лента стратегического шоссе, и вдруг появлялся откуда-то шальной заяц и мчался, заложив уши, по гальке и лужам, или с диким клацанием и шумом вламывался лось и бежал, нес бронзовое литое тело, и галька с шрапнельным свистом вырывалась из-под его копыт, или с шумом, доводящим до сердечного обморока, взрывался под ягодным кустом глухарь.
Тайга была забита черной смородиной, мощные сизые кисти ее свисали с кустов, как грозди винограда «изабелла», здешняя смородина почти не уступала по величине этому винограду, а там, где кончалась смородина, начинался шиповник, и весь нижний этаж тайги был забит красными продолговатыми прозрачными ягодами шиповника. Сквозь мякоть его просвечивали семечки, и так тянулось на сотни километров, как склад витамина С и зверинец.
Как-то Мельпомен и Поручик отмыли, просушили на ветерке две неиспользованные под рыбу бочки, потом с мешками ушли в лес. За какой-то час они набили бочку смородиной, и Северьян взял чурбак и принялся толочь смородину прямо в бочке. Сок брызгал, и Северьян работал чурбаком как поршнем, а сок брызгал и поливал его брезентовую робу и длинное лицо, а Поручик в расстегнутой на груди ковбойке все бегал в лес и приходил обратно с полным мешком смородины. Потом они слили сок в другую деревянную бочку, налив чуть больше половины, и бросили туда две палочки дрожжей. А Поручик вытряхнул полкастрюли с сахаром.
– Для затравки, – сказал Северьян, размазывая сок по лицу.
– Далее процесс пойдет самостоятельно, – сообщил Поручик.
Мельпомен сидел в стороне, курил и поглядывал на своих оживленных кадров, как смотрит отец на взрослых разбаловавшихся сыновей.
Теперь по утрам мы совали кружку в пену над бочкой, пока кружка упруго не утыкалась в жидкость. Мы пили эту темно-красную вишневую жидкость, щипало в носу, было кисло-сладко, и через пять минут голова становилась прозрачной, а жизнь вдруг как бы раскрывала другое измерение, и ты понимал, что жизнь светла, прозрачна и коротка.
– Напиток! – выдыхал Северьян.
– Естественный природный продукт с большим количеством витаминов, – сообщал Поручик, запускал кружку и нес ее Мельпомену.
– Ну-ну, – говорил Мельпомен. Он выпивал свою кружку, и по краям губ и на верхней губе оставался вишневый след, и Мельпомен со своим крупным, покрытым оспой лицом приобретал вид раскрашенного китайского бога.
– А ну! – говорил Мельпомен. – Нам деньги за что платят? – И шел к реке, и от реки тотчас доносился скрип днища лодки по гальке, щелканье стартерной пружины и следом тонкий и оглушительный треск мотора.
Я думаю, это были лучшие дни в моей жизни.
– Человек не токарный станок. Он вообще не станок, – сообщил Мельпомен. Мы сидели с ним у костра, переваривали уху и курили. Был прохладный вечер. Северьян и Поручик, с утра без передыха разделывавшие удачный в это утро улов, ушли спать. Дальние хребты были бархатно-синими, и закат в этот вечер полыхал красным ужасом – представьте себе ровно половину неба, залитую красной дымящейся кровью.
– Нет, не станок, – продолжил Мельпомен, и в голосе его я уловил размышления и грусть. – Нас учили, и мы учим детей, а они будут учить наших внуков, что главное в жизни – это работа. Что работа – единственная функция человека. Это справедливо для машины. А человек? Без работы нет человека, я с этим согласен. Но нет человека, состоящего из одной работы, – пусть другие согласятся со мной.
– С этим доводом трудно не согласиться, – голосом Поручика сказал я. Не знаю, зачем я так сделал, но я сказал, как сказал бы Поручик. Мельпомен внимательно посмотрел мне в глаза. Его серые глаза были чуть покрасневшими, наверное, от постоянных отблесков на воде. Это были умные и внимательные глаза.
– Вот мой брат Саяпин. Или я…
– Как брат?
– Эх вы… наука, – насмешливо вздохнул Мельпомен. – Я тогда в аэропорту заметил, что у вас от любопытства рот приоткрылся. А тайна проста – мы с Саяпиным братья. Отцы у нас разные, а мать одна. Вот что бывает, товарищ научный работник.
Я молчал. Я многому научился, общаясь с Рулевым. Мельпомен неторопливо закурил, бросил головешку обратно в огонь.
– Сейчас расскажу. Зачем – неизвестно. Но расскажу» – ровным голосом сказал он. – Мы оба с Алтая. Из староверов. На Алтае много староверов – бежали еще во времена блистательной императрицы Екатерины. И после тоже бежали. Мать у меня была первой красавицей на деревне. Отдали ее замуж за бедняка. Отдали потому, что он строго жил староверским уставом. Отца я не помню, ого кедром придавило во время сбора орехов. Мать вышла замуж второй раз. За богатого вдовца Илью Саяпина. Он мельницу держал, пушнину у местных скупал. И родился Ванька.
– Иван Ильич?
– Для кого Иван Ильич, для меня Ванька. Я его как раз нянчил. В деревне принято, что старший младшего нянчит. Отец его, Илья, меня не обижал. Держал как сына. Но, конечно, наследство для Ваньки метил. И Ванька на этом сломался. Зубки у него прорезались. В общем, в двадцать лет я ушел к дяде по матери в город. Булочки продавать у поездов. Так и школу закончил, и как сын бедняка поступил в университет. К тому времени, как я стал юристом, Илью Саяпина раскулачили, и Ванька вместе с ним пошел в ссылку. В ссылке мой отчим и умер. А я вызволил Ваньку. Написал товарищам, что никакой он не кулак, так… под влиянием. И предложил использовать его в сельском хозяйстве, так как у Ваньки с детских лет интерес к коровам и лошадям. Послушали мой совет и отправили Ваньку в тундру. А потом…
Мельпомен закашлялся, потом засмеялся и снова закашлялся.
– Потом мой Ванька, бывший кулак, стал уполномоченным по организации колхозов в глубинке. В глубинке здесь колхозы поздно организовывали. Оно так – организуют колхоз, все путем. А приходит осень или зима – нет колхоза. Укочевал, расплылся на разные стада. Надо снова собирать и организовывать. На этой почве Ванька сильно прославился. Он же двужильный, дьявол, слова «усталость», наверное, до сих пор не знает. Во время войны он был уполномоченным по оленеводству двух районов. Отправлял с обратными пароходами оленину для фронта. Тут его двужильность к месту была. После войны его, по-моему, в область собирались переводить. Но я помешал.
Мельпомен улыбнулся и стал смотреть на закат. Закат отражался в его глазах, глаза казались красными, как угли, и зверские их отблески никак не вязались с насмешливым и грустным лицом Мельпомена.
– Когда я погорел, я ведь к нему в Кресты прилетел. А Ванька, прости господь его, дурака, за карьеру свою испугался. Фамилии у нас разные, и он меня знать не знает. Даже незнаком. Но в этих местах разве что скроешь? Может быть, я деду Лыскову рассказал. А может, и не рассказывал. Ситуация: я в землянке живу, Ванька в кабинете ногти кусает. А ногти кусает потому, что прозвище ему Ванька-Каин. Предал собственного брата ради карьеры. Смешнее всего, что карьера Ваньки на этом кончилась. В Крестах ему места нет, одно слово – Ванька-Каин. Поселок маленький, народ простой. Вся тундра это прозвище знает. А в область его не переводят, потому что у него вот такой странный брат. Как раз Ваньке стукнуло пятьдесят, и пошел он на пенсию. Последний год был, когда на пенсию в пятьдесят отправляли. Я, как видишь, остался.
– Как же на фронт вас не взяли? – полюбопытствовал я.
– Я просился. И Ванька, по-моему, тоже. Но работали мы в специальной организации. Я ведь подполковник МВД. А Ванька, по-моему, майор. Все это, конечно, по бывшему счету, который теперь отменен.
Мельпомен замолчал. Закат начал уменьшаться, гаснуть, дальние хребты почернели, и над рекой начал рождаться туман.
– Суета сует и всяческая суета, – обронил Мельпомен. – Закручиваем собственную жизнь, как клубок ниток. А в мире есть что? Сеть, рыба, закат. Сын у меня растет правильно. В институт я его посылать не буду. Пусть пощупает жизнь лбом и ладошками, пусть тогда решает, что ему надо. Вы Ванькиного сына видели? В стаде у Кеулькая?
– Видел.
– Ну и что?
– Богатый парень. Двадцать семь тысяч на личном счету. Сильный парень. – Я вспомнил про зажигалку.
– И здесь Ваньке не повезло. У меня зла на него нет. Рыбаки – народ всепрощающий. Из нашего брата апостолы выходили. Я думаю, что, если бы я на него зло держал, отомстить как-то ему старался, Ваньке бы легче жилось. Может быть, даже и помирились бы. А так – он в вашей деревне спрятался, и нет ему хода из нее никуда. Стоят заградительные столбы, и на столбах приколочены доски с надписями: «Ванька-Каин». Ему мимо них не пройти.
Я открыл дверь московской квартиры как заключенный, которому доверили ключи от собственной камеры-одиночки. В квартире стоял нехороший запах. Шел от чайника, в котором заплесневел чай, и от кастрюли, в которой я перед отъездом варил суп из пакетика. Холодильник заплыл льдом, точно его откопали где-то на Земле Франца-Иосифа. Так я познал правило – если ты живешь один и уезжаешь надолго, дома надо оставлять только чистую посуду и надо размораживать холодильник. А также выносить мусорное ведро.
Я позвонил в институт и сказал, что мой академический отпуск закончен. Там долго переспрашивали: «Кто? Чей отпуск? Какой Возмищев, у нас нет такого».
Быстро меня позабыли.
Имеете ли вы ученую степень и звание?
Да, имею. Кандидат исторических наук. Доцент. Защита у меня прошла, точно ее и не было. Получилось так, что мне пришлось использовать ряд фактов из архива МВД. Поэтому защита была закрытой. Ка Эс на нее не пришел. Оппоненты были незнакомые мне люди, члены совета также. Поэтому обязательный банкет прошел как скучная выпивка малознакомых людей. И как тогда на рыбалке Мельпомена (он, кстати, прислал мне деньги), еще с утра мне врезалась в голову фраза и крутилась она до одиннадцати ночи, когда я усадил в такси последнего из гостей и пошел корректировать счет за банкет. Корректировать было нечего – половина выпивки осталась на столе, и вообще ничего дополнительного никто не потребовал. Поэтому я распрощался с официантами и поехал домой. А мысль была такая: «И это все? А дальше что? И это все? А дальше что?»
Рулева я увидел через полтора года. Я знал, что его сняли с директоров совхоза «за нарушение финансовой дисциплины и неправильный подбор кадров». Он уехал куда-то еще дальше на восток, к оконечности Азиатского материка.
Получилось так, что справлялся один небольшой (в масштабах страны) юбилей. По этому поводу издавался юбилейный сборник, и мне предложили написать в него статью о колхозном строительстве в Арктике. Под эту статью я и получил месячную командировку. Я летел на Восток, где имелись поселения потомков древних землепроходцев, такие же, как в Походске, Краю Леса и других местах. Я летел туда, думая, что, может быть, там найду фамилию моего давнего лихого предка Возмищева. Если он осел там, то фамилия должна сохраниться.
Дорога шла через Кресты. Мы подлетали к ним летним днем. Внизу была тундра Низины, где, как я знал, вовсю орудуют нефтяники. Но нефтяников я не видел, потому что вся тундра была покрыта дымом пожаров. А где не было дыма, лежала черная выгоревшая земля, и на этой черной земле отблескивали озера.
Я не узнал Кресты. Аэропортовская изба осталась прежней. Но она как бы исчезла за штабелями тяжелых ящиков, за вновь выстроенным дощатым складом, и на стоянке самолетов вместо привычных ИЛ-14, ЛИ-2, АН-2 стояли тяжелые реактивные самолеты. Значит, удлинили полосу. Наверх, на обрыв, вместо скользкой тропинки вела широкая деревянная лестница, и над лестницей нависало огромное деревянное здание. На здании была черная стеклянная вывеска: «Управление нефтепоисковой экспедиции № 149».
Дорога была выровнена, а по бокам проложены бетонные тротуары. Над тротуарами и над дорогой висел сизый дым – шли грузовики. В туманной дымке маячили портальные краны, и, прищурившись, можно было разглядеть прямоугольник крупного корабля.
Улица поселка напоминала неровный забор – рядом с домишками, с крохотными их окнами и ставнями, обитыми оленьим мехом, высились двухэтажные многоквартирные дома. Я с трудом разыскал избушку Мельпомена. Двор зарос травой, и на двери висел ржавый замок. Я зачем-то подергал этот замок. Из соседнего дома вышел старик. Голова его по местному обычаю была повязана женским платком для защиты от комаров. Комаров не было, но сказано же, что привычка – вторая натура.
– Зацем дверь ломаешь? – спросил он. – Зацем?
– Где хозяева?
– Переехали. Во-он в том доме. Квартиру им дали. А этот домик ломать будут. И мой будут ломать. Большой дом будут строить.
– Какая квартира?
– А номер не помню. Второй этаж, в ближнее крылечко входи. Второй этаж и справа.
Я прошел. Дверь была заперта. Я сбегал в аэропорт, перерегистрировал свой билет и остался ждать на крыльце.
День был по-летнему жаркий, даже душный. На реке коротко перекликались буксирные катера. От аэропорта шел неумолчный гул взлетающих и садящихся самолетов. Далеко за рекой, над Низиной, висела плотная пелена дыма. Небо в той стороне отсвечивало розоватым, конечно, не из-за пламени пожаров, а от какого-то оптического эффекта. С крыльца я перешел к поленнице дров, которая была сложена у сараюшек. Я постелил на дрова газетку, на газетку плащ и улегся на нем.
Часа в четыре на крыльцо взбежал какой-то парень в замасленном комбинезоне. Он показался мне знакомым, и я окликнул его. Это оказался сын Мельпомена, бывший морячок Тихоокеанского флота. Лицо и руки у него были в машинном масле, но и за маслом этим было видно, что парень повзрослел, возмужал, погрубел. Я напомнил о себе, но он все равно меня не узнал. Он все беспокойно оглядывался. Я сказал, что хотел бы видеть его отца.
– Пойдемте куда-нибудь, – сказал парень. – А то мать увидит.
Мы отошли за дом, а потом еще дальше, за старое здание больницы. Здесь уже начинался склон сопки, шли лиственницы и пролет полярной березки. На нас сразу набросились комары.
– Увел, чтобы мать не видела, – усаживаясь на землю, сказал он.
– А почему она не должна видеть?
– Никак не успокоится. Отец-то в прошлом году умер.
– Как?
– А никак. Увидели: лодку несет течением. В лодке никого. Подплыли. А там отец мертвый лежит. Разрыв сердца. – Парень вздохнул.
Я промолчал.
– Вы извините. Домой вас не приглашаю. Мать застанет, отца вспомнит, никакой валерьянки не хватит.
– Я адрес директора совхоза ищу. Того, где он рыбу ловил.
– Отец, по-моему, с ним переписывался, – подумав, сказал парень. – Вы посидите, я сбегаю. Если есть – принесу.
Сидел я недолго. Он вернулся с лицевой стороной конверта. На конверте был обратный адрес Рулева.
– Спасибо, – сказал я. – Пойду.
– Извините, руки не подаю. Я дизелистом работаю на электростанции. Все в масле и масле.
– Пока, – сказал я. Я решил, что не стоит спрашивать о Саяпине. О Поручике и Северьяне. Что было, то быльем поросло.
– Всего лучшего.
…В общем-то, мыс Баннерса был мне по пути, если, конечно, удалось бы с него улететь на юг, пересечь здешние тундры и нагорья, чтобы попасть в поселок, где жили потомки землепроходцев. Так или иначе, я на него залетел. Залетел я на него в вертолете геологоразведчиков, которые здесь искали уже не нефть, а золото. Мы пролетали над речными долинами, в которых тундра была сметена бульдозерными ножами. Мы пролетали над долинами, которые, как заборами, были перегорожены отвалами серой гальки, между этими заборами блестели зеркала прудов, и в тех прудах, как фантастические земноводные, ползали драги и грызли породу челюстями ковшов.
Поселок мыса Баннерса был просто колхозным поселком – несколько десятков домов на берегу океана, на выдвинутом в море низком мысу. Поодаль от него расползлось скопище палаток, над палатками торчали печные трубы, и там ревели дизельные моторы. Геологоразведка. Золото. Мои спутники – молчаливые обветренные ребята, кто с карабином, кто с двухстволкой потопали к этим палаткам. Они пригласили меня к себе с северной простотой. Но я отказался – мне надо было в колхоз. Рулев в этом колхозе работал.
…В этом колхозе я прожил неделю – ждал вертолета к Рулеву. Он жил в ста пятидесяти километрах к югу на перевалбазе. Так называлась в здешних местах изба – жилье, пекарня и склад, куда за продуктами приходили из тундры оленеводы. Каждый колхоз Территории имел сеть таких перевалбаз, чтобы в любой момент пастухи могли поблизости взять нужное для жизни. Штат перевалбазы состоял из заведующего и радиста. Рулев и был этим заведующим.
Целыми днями я сидел на берегу моря. Оно здесь было нешумное и не раздражало сверканием лазури, пижонскими моторками и парусами. Просто море, и лишь изредка в тихом свисте мотора по нему скользил китобойный вельбот. Фигуры охотников в вельботе казались горбатыми из-за свисавших за спиной капюшонов.
Почти каждый день вместе со мной на море приходил рослый ездовой пес. Он садился невдалеке от меня у самой воды. В прибрежной воде, как пробки, колыхались кулики-плавунчики. Волна подносила их к самому носу пса, тот, взвизгнув, кидался в воду, но вода относила плавунчиков обратно в море. Я ни разу не видел, чтобы они взмахнули крыльями или шевельнули лапами, хотя вода подносила их к собачьему носу сантиметров на десять. И ни разу пес не схватил ни одного из них. Может быть, у них была подписана конвенция о ненападении, и все, что я видел, было просто игрой.
Колхозный поселок днем был пуст. В нем стояла ленивая летняя тишина. И лишь ночью, когда солнце стукалось о дальние зубцы хребтов и начинало снова ползти вверх, поселок оживал. В море сталкивались моторки, около домов разгорались костры, слышались голоса, и чувствовался ритм жизни, движение. Был июнь, разгар полярного дня.
Мы вылетели на юг вместе с председателем колхоза – средних лет мужиком с костромским прищуром серых глаз, истинно русским носом и окающим волжским выговором. Кстати, именно у него Рулев увел пастухов три года назад. Председатель летел на осмотр стад. В одном из них они должны были заночевать, и он обещал захватить меня на обратном пути.
Здесь тундра была просто тундрой, а не угольным следом пожаров.
Через час с небольшим вертолет накренился, резко пошел вниз. Сели. Я сидел и ждал, когда утихнет грохот мотора. Но председатель колхоза махнул мне рукой – вылезай, и я стал открывать дверцу. На помощь спустился второй пилот. Он вытащил из-за оранжевого дополнительного бензобака две сети и протянул их мне. Я развел руками.
– Пусть Рулев поставит, завтра утром снимет. Залетим, заберем рыбу! – прокричал мне в ухо пилот.
Я вылез, ветер сорвал шапку, затряс сети, я, согнувшись, отбежал подальше. Вертолет тут же поднялся. Была изба, озеро в черной оправе берега. А навстречу мне шел Рулев в распахнутой рубашке, без шапки. Лицо у него было черное, а руки белыми. Лишь когда он подошел ближе, я увидел, что лицо Рулева черно то ли от загара, то ли от грязи, а руки были в муке и тесте.
– Филолог! – заорал Рулев. – У меня как раз самогонка поспела. Еще теплая, вонючая. Нажремся, загадим тундру блевотиной.
– Я не филолог. Теперь я историк, – сказал я.
– Ну тогда пойдем в избу, – весело сказал Рулев и зашагал обратно. Точно вчера мы расстались.
В избе было жарко. Пар шел от вмазанной в кирпичи четырехсотлитровой железной бочки.
Посреди комнаты на трех табуретках стояла разрезанная пополам деревянная бочка, и Рулев месил в ней тесто. Пахло кислым запахом хлеба, рыбой, табаком.
– Завтра ко мне, понимаешь, за хлебом прибегут. Труженики тундры. Вот готовлю. А на кой черт ты с сетями? У меня этих сетей вагон. Вот живу. Хлеб пеку. Хорошее занятие – хлеб печь. Когда, конечно, научишься. – Рулев без умолку говорил короткими фразами и искоса поглядывал на меня от своей квашни. – Чай на столе горячий, ты наливай сам. Только что пил. Заварка вон в банке. Геологи научили в консервной банке заваривать. Нет, стоп. Ты иди в сени. Срежь гольца, который на тебя посмотрит. У меня тут голец озерный, фирменный. Такого на Территории больше не встретишь. А ты, брат, расплылся. Рожа пухлая. Пиво пьешь, что ли? Бутылочку не захватил?
– Она у меня не пухлая. Она городская, – сказал я.
– Может быть, может быть, – охотно согласился Рулев. – Ты чай-то наливай. Да запусти руку под стол. Там брусника в бочонке. Рыбу почему не берешь?
Я налил себе чая. Выдвинул из-под стола фанерный бочонок. На крышке бочонка стояло блюдечко. Этим блюдечком я и зачерпнул ягоды. Они были прохладные, кисловатые, и нежный крепкий их аромат заполнил избу.
Рулев вышел в сени и вернулся со стопкой железных форм. Он вымыл руки, вытер их грязным полотенцем, висевшим около умывальника, и стал смазывать формы жиром. Он расставил их целый ряд, затем лопаточкой стал наполнять тестом. Запах дрожжей, хлебной кислоты заполнил избу и вытеснил все другие запахи – и рыбы, и табака, и брусники. Потом Рулев обмотал лицо платком так, что остались одни глаза, и открыл верхнюю дверцу печки. Он ловко швырял туда формы, и они с глухим визгом улетали в раскаленные недра.
Потом Рулев еще раз вымыл руки, снял платок и сел за стол. Он налил себе в кружку одной заварки. Кружка была коричневой от чайной накипи. Вид у Рулева был усталый и умиротворенный. Рука, державшая кружку, чуть подрагивала. И вдруг я заметил, что во всегда насмешливых, всегда лихих рулевских глазах где-то далеко внутри прячется страх, тревога, а может, просто тоска.
– Что же мы! -сказал Рулев, точно прочел мои мысли. Он встал и вышел в сени. Вернулся с гольцом и квадратной бутылкой, наверно, оставленной у него каким-то туристом или начальством. Бутылка была из-под рома, и заткнута она была тряпочкой. Рулев поставил бутылку на край стола, положил гольца на стол и стал быстро строгать его длинным ножом. От гольца только отлетали мягкие розовые прозрачные пластинки, на столе оставалась лишь шкурка. Рулев принес тарелку и рукой сгреб на нее нарезанную рыбу. На тарелке образовалась розовая маслянистая груда. На темной поверхности стола она была похожа на странный цветок.
– Ни лука, ни масла сюда не требуется. Есть надо руками. Ну давай, – Рулев плеснул в стаканы из бутылки.
– Самогон?
– Руководящий напиток, – усмехнулся Рулев. – Летом у меня тут курорт для высоких лиц. Прилетают на охоту, на рыбалку. Коньяк весь выхлещут: «Семен Семенович, ну неужели нельзя организовать?» – Рулев очень похоже изобразил чей-то жирный начальственный бас. – Организовал. Теперь уж без коньяка прилетают. У тебя, говорят, лучше. А как не лучше, когда я по этому делу профессор? Давно я…
Нет, это точно, что в Рулеве что-то сменилось. Мы выпили. Рулев посмотрел на меня.
– Ну вот, и ты поддавать начал, – сказал он. – И ты, филолог.
– Историк я, – с набитым рыбой ртом сказал я. – Историк.
Рыба была объедение. Она таяла.
– Да, – сказал Рулев. – Да.
– Вертолетчики просили сети поставить. А снимут они сами. Завтра.
– Вертолетчики здесь – люди. Без них мне было бы вовсе тоскливо.
– Один, что ли?
– Зачем? Радист у меня.
– Хороший парень?
– Шпиц. Ты его знаешь.
– Как он сюда попал?
– Как я. Прилепился ко мне, как листочек к асфальту. Теперь вот буду один.
– Почему?
– А он с тобой полетит. В техникум хочу определить парня. Знаешь, радист, конечно, профессия. Но без диплома в наши-то времена. А так… дипломированный техник. Везде и всюду… В любой дыре государства полный почет.
– А сам-то он?
– А что я скажу, то он и сделает, – убежденно ответил Рулев. – Пойдем сети поставим. Ребята просили – надо сделать.
Мы прошли на берег озера. Был солнечный день. У противоположного берега в воде отражались сопки. Вода была настолько синей, что казалось, ею можно заправлять авторучки.
На берегу лежала перевернутая дюралька. Рядом, накрытый куском брезента, лежал мотор.
Рулев спихнул лодку, бросил на дно сети.
– Мотор нам ни к чему, – сказал он. – Поставим недалеко.
Он сел за весла. Я знал, что у дюральки очень неудобные для гребли весла. Я много чего узнал в бытность на рыбалке у Мельпомена. Но Рулев греб хорошо, умело. Мы двигались вдоль каменного, выглаженного водой и ветрами обрыва. Изба перевалбазы исчезла, а впереди радостно зажелтела полоска песка.
Рулев приткнул лодку и вышел.
– Давай сети, – сказал он. – Помогай. Мы стали растягивать сети по песку.
– Я сети всегда здесь набираю. Возле дома нельзя – щепки, мусор. В тундре тоже нельзя – травинки разные лезут. А здесь у меня все щепочки, все камушки убраны. Бритый у меня этот песочек, ухожен, как английский газон.
Разговаривая, Рулев ловко набирал сеть – поплавок к поплавку, грузило к грузилу. Теперь останется лишь концевая веревочка, за которую привязать якорь, потом греби, и сеть сама пойдет в воду.
Я сидел на веслах. Рулев следил, как ложится сеть. Ровная нитка поплавков вытягивалась за кормой лодки.
– Правым, правым больше прихватывай, – тихо сказал Рулев. И вдруг меня пронзила сверкающая, как лезвие, мысль: «Убегая, остановись». Может быть, она пришла сейчас, а может, когда я сидел рядом с псом на берегу нешумного полярного моря. А может, еще раньше, гораздо раньше.
Потом Рулев вынимал из печи формы с хлебом, и избу заполнил крепкий и ясный запах.
– Долго ты будешь здесь прятаться? – спросил я. «Убогая, остановись».
– Пока не сделаю анализа прошлых ошибок, – ответил Рулев. Он вытер залитое потом лицо и швырнул полотенце в угол. – Еще сухариков надо насушить. Два пастуха у меня сухарики любят.
Рулев принес из сеней пару черствых буханок и принялся резать их на кубики длинным рыбацким ножом.
– Ты Шпица с собой заберешь? – спросил Рулев. – Помочь ему надо.
– Я ему ключ от квартиры дам. Меня туда возвращаться как-то не тянет.
В сенях затопали шаги. Видимо, Рулев услыхал его гораздо раньше меня, еще на подходе.
Пришел Шпиц, и я увидел пример поглощения личности. Он смотрел в рот Рулеву, разговаривал как Рулев и сидел за столом как Рулев.
На другой день прилетел вертолет, и я отдал Шпицу ключи от своей московской квартиры.
Приложения
Приложение № 1 С. Рулев. Презрительный человек
– Все люди – соседи, – сказал он мне. – Все!
– А если я поставлю глухой забор?
– Мальчишки прокрутят в нем дырки. А также в заборах выпадают сучки. Нету глухих заборов. – Я видел, что он смеется надо мной, жалеет мою глупость, глухоту. Я ушел.
Была осень. Березы уже потеряли листья и стояли под дождем, как голые дети. Я их любил. И дождик я тоже любил. В упоенном сим состоянии я сразу за калиткой впоролся в лужу, залил доверху свои драные башмаки. Черт с ним. Мне нравилась эта лужа и то, что ботинки у меня драные. Мне было тридцать пять лет, и я открыл, что до сих пор жил ложными ценностями и устремлениями. Я хотел возвысить и утвердить себя. Зачем и над кем? Мое появление на свет случайно – это счастливый выигрыш, что где-то когда-то был нужный вечер и моя бабка познакомилась с моим дедом. И все люди – мои собратья по случайным явлениям. Жизнь есть совпадение счастливых и несчастных случаев, и мы все соседи-пловцы в потоке времени. Мы стартовали в едином заплыве, и финиш у нас одинаков. Брат-пловец разве не поможет брату-пловцу?
В тот осенний день тридцати пяти лет от роду я полюбил людей… И река времени приняла меня и закружила.
Примечание. Все строки, кроме приведенных здесь, густо зачеркнуты жирным фломастером.
Приложение № 2 Глава, не дописанная Возмищевым
Когда плывешь вниз по Реке в низовьях ее, то каждый раз, пусть это и повторялось уже многократно, поражают желтые песчаные обрывы и лиственнички, которые бессильно торчат на них. Они не растут прямо, каждая перекособочилась по-своему, а некоторые уже подмыты, уже склонились над этим обрывом, и на будущий год их снесет шалая вода паводка, и их вынесет в Северный Ледовитый океан. Моросит ледяной июльский дождичек, стучит дизельный движок катера, проползают слева заросшие буйным тальником острова, и еще дальше зеленеет смутно низменный левый берег – Низина по-здешнему. Но ты все равно видишь лишь правый, обрывистый и эти лиственнички, которые как бы хотят убежать от обрыва. Правый берег по-здешнему называется Камень. Но и на Низине и на Камне все те же лиственнички, которые как бы бегут на север из тесноты тайги, а с севера в них неумолимо вгрызается тундра, и потому я до сих пор не могу спокойно смотреть на эти деревья, которые зажаты между тайгой и тундрой, мечутся, и каждое дерево здесь находит свой индивидуальный способ выжить. Нет среди них похожих, каждое искривилось, перекособочилось, стоит само по себе.
Один из поселков Реки так и называется – грустно и поэтически – Край Леса. Дальше уже все тундра, «сендуха», со своими законами, природы и людских обычаев, а еще дальше Северный Ледовитый, который уже тоже сам по себе.
Пока ты думаешь все это, сзади неслышно подойдет моторист. Кто-нибудь из Шкулевых, Никулиных или Гавриных – здешних фамилий поречан, чьи предки триста лет назад прорвались сюда через фантастические просторы Сибири. На лице моториста жидкая азиатская поросль щетинки, нос у него рязанский, скулы якутские и глаза, когда он искоса на тебя глянет, готовясь к разговору, вдруг сощурятся эдакой вятской голубизной.