Ржа Юрич Андрей
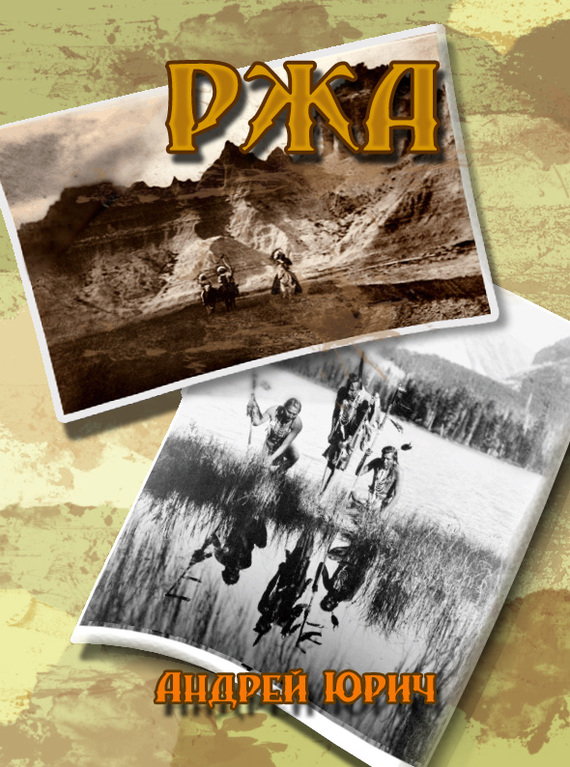
Читать бесплатно другие книги:
«…Максим сразу бросился к своему ящику за багориком, а я к Сашке побежал. Вижу – тащит он что-то тяж...
«…Сергей Нестеренко исчез. Испарился из закрытого помещения с зарешеченным окном, оставив на полу св...
«…Я, конечно, не такой длинный, как Длинный, но все-таки оказался гораздо выше гнома. А он, останови...
Однажды водитель «Скорой помощи» Егор познакомился на выезде по поводу сгоревшей машины со странной ...
«…Наше внимание привлек бегущий по еще не скошенному полю здоровенный мужик в цветастой рубашке и вя...






