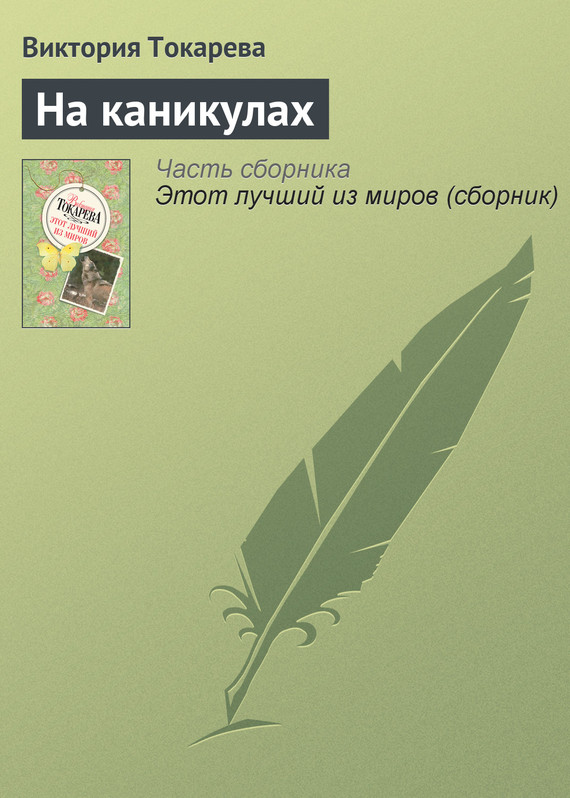Блудное художество Трускиновская Далия

– У Шишмака в шатуне.
Этого было довольно. Скес прекрасно знал, кто такой Шишмак, где он держит свой винный погреб – «шатун», и в котором часу следует туда являться, чтобы встретить клевого маза Скитайлу, прозванного так не за кочевой образ жизни, а за необъятное чрево (скитайлой шуры и мазы называли большую кадь для зерна).
Теперь следовало спешить в полицейскую контору. Пока государыня в Москве – обер-полицмейстер никому покоя не даст, про отдых можно позабыть. Десятские – и те с ног сбились.
Особую тревогу у Архарова вызывали окрестности Пречистенского дворца. Народ там живет, чуть шагни от Моховой или Пречистенки в переулок, пестрый, неотесанный, нуждается в присмотре. Тут тебе и лабазы, и грошовые лавчонки, где промышляют старым железом и лоскутьями, и амбары, а на Моховой и вовсе бурная торговля огородными овощами, одно счастье – сейчас, кроме кислой капусты, местному жителю и продать нечего. Обход окрестностей дворца проводился круглосуточно.
Скес, чтобы не тратить денег, спустился в подвал, где повар Чкарь готовил еду для арестантов, получил миску каши со свиными шкварками и тут же, под шум из нижнего подвала, съел.
Наверху его позвал Жеребцов и отправил на дежурство в паре с Федькой Савиным.
Им нужно было убедиться, что все десятские, кому полагается, не по домам сидят, а на улицах – смотрят за порядком. Нужно было несколько раз обойти дворец – хотя там и стоит охрана, но именно что стоит – мазы и шуры же имеют скверное свойство передвигаться, причем прытко и шустро.
Но, с другой стороны, погода была превосходная – и отчего бы не порадоваться теплому майскому вечеру? Сами бы ввек не пошли прогуляться, а коли полагается по службе, так оно и неплохо.
Скес был невеликий любитель общепризнанной красоты, вообще трудно было догадаться, что ему по душе. А вот Федька остро ощущал все радости и прелести мира, и отдавался чувствам всей душой, способный и завопить от восторга, и разрыдаться от обиды.
Они вышли на Лубянскую площадь, где обычно стояли извозчики, но тратить деньги не стали, а отправились к месту несения службы пешком.
– А пойдем по Воздвиженке, а, Скес? – попросил Федька, несколько смутившись.
Яшка сперва удивился – охота же ему слоняться по улице, где чуть насмерть не закололи. Потом вспомнил – девица Пухова! О ней все Рязанское подворье знало – и в основном Федькину любовь не одобряло. Он бы еще в княгиню Волконскую влюбился…
Федька сам все замечательно понимал. Он пробовал лечиться – ходил к сводне, сводня познакомила с молодой вдовой. Ничего не вышло – а только насмешил архаровцев до колик, сказав наутро: «Да с ней и разговаривать-то не о чем…»
Варенька была ему необходима, как живой отклик на зов его взбаламученной души, как живое воплощение бессловесной мольбы о прекрасном. Даже болезнь девушки – и та казалась ему теперь неким обязательным свойством красоты, которой так и положено – одной ногой чуть опираясь о землю, всем телом уже парить в небесах.
И для нее, как для него, любовь была единственным в мире, о чем следовало беспокоиться, верность любви – главным, что надобно спасать при любых бедствиях. А что не суждено вместе стать под венец – так от этого Федькина любовь, может, только крепче делалась…
Так что шли архаровцы Савин и Скес, никому не уступая дорогу – напротив, это от них все шарахались, зная, что полиция на руку скора и щедра. И прошли они по Воздвиженке мимо двора старой княжны Шестуновой и мимо особняка князя Волконского, где теперь жила Варенька. И Федька замедлил шаг – вечера в мае долгие, свет в домах зажигают поздно, а ему так хотелось бы увидеть в каком-либо освещенном окошке хоть силуэт…
Они прогулялись по переулкам, которых вокруг Пречистенского дворца хватало, спугнули каких-то юных любовников, съежившихся под забором; поймали за шиворот и осчастливили оплеухой парнишку, что стоял перед закрытой калиткой и громко материл кого-то незримого; унюхав подозрительный дым, забрались во двор, увидели тлеющую кучу сухих подгнивших листьев, выволокли из дому хозяина и заставили его прекратить опасное безобразие…
Огонь был бы сейчас вовсе некстати.
В Пречистенском дворце, стоило окончиться Великому посту, начались гулянья, концерты, любимые государыней маскарады. Народу собиралось много, построен дворец бестолково – если загорится, мало кого удастся спасти. На подступах к Колымажному переулку архаровцы видели несколько новомодных карет, спешивших ко дворцу, а у подъезда и в курдоннере было уже не протиснуться.
Незадолго до полуночи они убедились, что все десятские патрулируют отведенные им переулки, что обыватели улеглись спать, и Скес сказал, что есть тут в Обыденском переулке домишко, хозяйка пускает в сарай ночевать кого попало, так заодно можно и сарай проверить на предмет подозрительного люда, и самим там отдохнуть хоть часок, а потом совершить еще обход – и по домам.
Собачонка, бегавшая по двору, облаяла их, выглянула хозяйка, признала Скеса и прикрикнула на пса.
В сарае оказалось пусто, стояла старая лавка, длинная и широкая, на ней лежал холщовый сенник, вот только сено в нем было прошлогоднее, умятое до жесткости. Скес прилег, Федьке же спать не хотелось.
Он вышел во двор, присел на завалинке и уставился вверх, на темное небо, размышляя, что скрасил бы ему ожидание подсчет звезд, однако как прикажете помечать уже сосчитанные?
Федька замечтался, и лишь далекие голоса вывели его из этого состояния.
Где-то дома через два, через три завели песни. Молодежи в такой теплый вечер не спалось – и нужды нет, что завтра спозаранку мать поднимет и погонит выпроваживать корову в стадо…
Он слушал девичьи голоса, довольно слаженные, и вдруг вскочил.
Песня была опасная.
Раньше он и не слыхивал, как ее поют, а на службе узнал от старых полицейских, что еще при господине Салтыкове, том самом, кому бегство из чумной Москвы стоило отставки, государыня писать в Москву изволила, велела, чтобы эту неожиданно вошедшую в употребление песню как-то исхитриться предать забвению. А как ее предашь? Песня-то бабья… что хотят, то и поют потихоньку…
Узнал же ее Федька по одной, но весьма значительной примете.
- – Мимо рощи шла одинехонька,
- Одинехонька, молодехонька,
- Никого я в роще не боялася,
- Ох, ни вора, ни разбойничка,
Ни сера волка лютого…– выводили то ли три, то ли четыре девичьих голоса, да уж так тоскливо! Пока что не было ничего крамольного, но крамола уже ждала своего мига.
- – Я боялася друга милого,
- Свово мужа законного,
- Что гуляет мой сердечный друг
- Во зеленом саду, в палисадничке,
- Ни с князьями, ни с боярами,
- Ни с дворцовыми генералами,
- Что гуляет мой сердечный друг
- Со любимою своей фрейлиной,
- С Лизаветою Воронцовою…
Вот именно так и свернула песня с бабьей печальной ревности на стезю политическую. Поскольку «сердечный друг» был покойный император Петр Федорович. А песня пелась, как если бы на него супруга, нынешняя государыня, жаловалась.
Федька тихо, едва земли касаясь, пошел на голоса.
В такое время, когда только и жди неприятностей, девки не просто так поют. Кто-то им, может, велел, кто-то их слушает. Кто-то вспоминает, как собирался государь жениться на Лизавете Воронцовой, природной русачке, прогнав сперва свою законную немку Екатерину Алексеевну, да она его опередила, позвала на помощь гвардию, сбросила государя с трона, и что уж там вышло в Ропше, где его стерег Алехан Орлов, одному Богу ведомо. Может, нашлись добрые люди, вывезли перепуганного государя, спрятали, увезли. А для народа объявлено – помер-де от колик.
Надобно разобраться…
Девок он спугнул, но заметил, в какой дом забежали две – видимо, сестры. Положив себе наутро послать туда десятского, чтобы доложил, кто родители и чем занимаются, Федька неторопливо вернулся в сарай к Скесу. После пробежки по ночным закоулкам спать не хотелось, хотелось петь.
Голоса он не имел – голосист был Демка Костемаров, умели ему подтянуть Тимофей, Захар Иванов и Вакула – тот хвалился, что голосом за пять шагов свечку гасит, да все как-то не удосуживался показать. Федька, когда пели, обычно молчал. Но модных песен знал немало – бывая по делам в архаровском особняке, перенимал, когда удавалось, у Меркурия Ивановича.
Одна ему нравилась особенно – и он запел тихонько, вкладывая в слова и мотив всю душу:
– Как сердце ни скрывает мою жестоку страсть, взор смутный объявляет твою над сердцем власть: глаза мои плененны всегда к тебе хотят, и мысли обольщенны всегда к тебе летят…
Где-то на середине второго куплета Федька обнаружил, что ему подпевают, подпевают навзрыд и с нескрываемым отчаянием в голосе. Редко случалось, чтобы собачий вой выражал столь трагическую скорбь.
Он замолчал. Замолчала и собака. Обидно было чуть ли не до слез – даже ночью, даже чужими словами не удается высказать то, что на душе!
С горя Федька растолкал Скеса.
Яшка послал его на байковском наречии куда подальше.
Но встать пришлось. В новом дворце гуляли заполночь, а разъезд веселой публики, да еще во мраке, – наилучшая возможность для шуров. Довольно надеть старую ливрею да паричишко из бараньей шерсти – и вот ты уже замешался в толпу, вот уже деловито шныряешь между каретами.
Федька и Скес поспешили к Пречистенскому дворцу, где встретили Захара Иванова с Сергеем Ушаковым. Ушаков уже успел в свете качающегося каретного фонаря заметить знакомую рожу шура Грызика. Грызик мелькнул и исчез. Следовало изловить его, покамест не натворил бед.
Но хитрый Яшка сообразил, что Грызик ему еще пригодится. Поэтому он, лучше прочих зная повадки шуров, в одиночку высмотрел былого товарища и кратко, в двух словах, велел ему убираться. Дважды повторять не пришлось. Грызик отнюдь не хотел ночевать в подвале Рязанского подворья, а на завтрак получить приятную беседу с Вакулой или Кондратием Барыгиным.
Но эта ночь приготовила Скесу и еще одну встречу. Проскочив между экипажами и увернувшись от кучерского кнута, он уткнулся носом в знакомый красно-черный герб – вот тебе перья, вот тебе латники с мечами…
– Стрема, лащи! – крикнул он особым пронзительным голосом. Это был знак для тех, кто понимает, – бежать на помощь.
Экипаж уже тронулся, когда подбежали Захар и Федька.
– Чего курещал?
– Надо разведать, чья шавозка, да тишменько…
Яшка и сам не знал, зачем разводить столько таинственности вокруг кареты с гербом. Вернее – не мог бы объяснить. Но он нюхом чуял – что-то кроется за Марфиным путешествием в богатом экипаже, что-то весьма нехорошее. Такое, что потом всему Рязанскому подворью, включая новоявленных соседей – Тайную экспедцию, не расхлебать…
Не будь у Скеса этого необъяснимого чутья – давно бы он был отправлен в Сибирь с каторжным этапом.
Спрашивать у лакеев – все равно что прокричать на Ивановской площади: архаровцам-де охота знать, кто разъезжает в карете с красно-черным гербом. Ведь все четверо – в мундирах…
Они разбежались – Яшка, сколько мог, преследовал карету, потом вернулся, Федька и Захар искали надежного знакомца среди дворцовой прислуги, а умный Ушаков (не сразу, правда, додумался) стянул с сиденья чьей-то кареты розовый атласный капуцин с пришпиленным к нему зеленым бантом и прямо пошел к дворцовому крыльцу с вопросом: чей таков экипаж с перьями и латниками на гербе, кому возвращать найденное под колесами в грязи имущество?
Ему сразу сказали: экипаж его сиятельства графа Матюшкина, а поселились их сиятельства у родни на Покровке, там, поди, всякий дом укажет.
Когда разъезд завершился, измотанные архаровцы разбрелись по домам. Яшка-Скес, которому было с Федькой по пути, забрал у Ушакова розовый капуцин, намереваясь ближе к обеду, сделав невинную рожу, заявиться к графу Матюшкину – вот, извольте, нашлась ваша пропажа. Разумеется, ему скажут, что никаких капуцинов из кареты не пропадало – но он высмотрит, что за граф такой, и, может, догадается, при чем тут Марфа.
Федька, выслушав про десять немытых кофейных чашек, тоже был сильно озадачен. Даже коли Марфа врачевала кофеем сердечную хворь – беспорядка бы она не потерпела. Но и предполагать, что в горнице у нее пряталось в тот час десять человек, тоже было странно – на что ей такая дивизия? Опять же, если это мужчины – то из круга, где питье кофея стало обычным, ибо человек простой, попробовав, скривится и скажет одно слово: пойло! И зачем они сводне в таком количстве? А если кумушки, которые пьют и не морщатся, потому что все графини кофей уважают, то для чего бы Марфе их прятать?
Нельзя сказать, что Федька так уж не любил Марфу. Просто ему было неприятно ее ремесло. Понимая, что без сводни многим пришлось бы тяжко, он тем не менее избегал Марфина общества и не понимал, почему Архаров спускает ей с рук все мелкие и даже более крупные проказы. И сильно бы удивился, коли бы ему объяснили, что Марфа забавляет Архарова своими повадками и нравится лихой прямотой своих речей, притом он отлично понимает, когда хитрая сводня подпускает грубоватой лести.
Что касается Сергея Ушакова – он понимал, что особа, промышляющая не только дачей денег под ручной заклад, но еще и тайной скупкой краденого, может навести на какую-то готовящуюся каверзу. И гораздо милее присматривать за этой каверзой с самого начала, чем впоследствии, когда она совершится, бегать по Москве высуня язык на плечо.
Скес на следующий день отправился отдавать якобы утерянный розовый капуцин. Вернувшись же, отыскал Ушакова с Федькой и рассказал им про свои похождения.
– Ну и одна слава, что графья, – так начал Яшка. – Прихожу я к ним и велю доложить, что-де по приказу господина Архарова. А хам, что меня впустил… Чтоб я сдох – на Знаменье глядел! Его подначить – он и захороводится. И ховряк с ховрейкой – ему подстать! Ведь они капуцин-то признали! Наш, говорят, давай сюды! И хоть бы грошом медным отблагодарили!
Федька расхохотался, Сергей Ушаков усмехнулся.
– И что, – спросил он, – так ты и ухрял с пустым ширманом?
– А таки не с пустым, – и Скес действительно добыл из кармана две дорогие пуговицы. Судя по пучкам ниток, они не оборвались сами, а были ловко срезаны с кафтана.
– Несколтыжные, стало быть, людишки? – никоим образом не порицая архаровца, заметил Ушаков. – Так и поделом.
– Ховряк – щеголек, смолоду ламонился, теперь от того отстать не хочет, ховрейка – гируха, и смолоду, сразу видно, страшна была, как смертный грех. Какого беса он на ней женился?
– Приданое было знатное, – предположил Ушаков. – Ну, додумался, чего там Марфа искомала?
Скес почесал в затылке и нечаянно распустил бант, отчего рыжие волосы, не желавшие быть опрятной косицей, полезли во все стороны.
– А что доброго там искомать? Там и по рожам знать – скверный народишко. Даром что графы. Что хозяева, что дворня – клейма ставить негде. Теперь я точно знаю – она новую пакость затеяла. Вот чего, шиварищи, пертовому мазу – ни слова…
– Скараем, – согласился Ушаков. – Слышь, Федя? Зато уж потом…
– Не смуряк, – отвечал Федька. – Я детинка пельмистый!
За что и был разом хлопнут: Скесом – по левому плечу, Ушаковым – по правому.
И в самом деле, коли сейчас рассказать обер-полицмейстеру про странные Марфины затеи, так пошлет в известном амурно-пехотном направлении – как будто у него других забот мало! А вот когда станет понятно, как увязаны грязные чашки с семейством графов Матюшкиных – тогда можно будет и с докладом являться.
Архаровцы и не подозревали, что их командир размышляет о том же самом семействе…
* * *
– Ну что ты за гость, – говорила Елизавета Васильевна с досадой. – Даже в мушку, поди, не играешь. Вот и беседуй с тобой весь вечер о всяких безделицах! А так бы сел с почтенными людьми в карты, глядишь, до чего бы и договорился. Неужто и в полку не игрывал?
– Ввек не поверю, что ты, Архаров, карт в руки не берешь, – согласился с супругой князь Волконский. Они очень хотели, чтобы обер-полицмейстер участвовал в карточных партиях, составляемых обычно в углу большой гостиной. Сколько-то он, понятно, проиграет, но тем самым светские знакомства укрепит и будет приятен людям чиновным – тому же Вяземскому. Опять же, иногда бывает непросто составить карточную игру – когда одного игрока недостает, и тут обер-полицмейстер всегда бы мог выручить хозяев дома.
– Беру я карты в руки, – отвечал Архаров. – Я пасьянсы раскладывать люблю. Этак кладешь королей с дамами, дам с валетами, а меж тем думается хорошо… По мне, чем в карты – так лучше в бильярд. А в гостиных от меня толку мало. Еще, чего доброго, шум подыму, когда увижу, как кто в карты мошенничает. Ведь, Михайла Никитич, не со всеми петербуржскими приличный человек за стол сядет…
– Не пойман – не вор, – тут же отрубил князь. Он понял, в кого метит Архаров.
– Однако ж государыня сама изволила…
– Государыня по старой памяти присматривает, чтобы граф Матюшкин в карты не заигрывался. Он смолоду за границей бешеные деньги проиграл. Нарочно князю Голицыну писать изволили, чтобы выпроводил вертопраха из Парижа без замедления. А память у государыни отменная.
Архаров не ответил. У него наконец-то начали складываться отношения с Екатериной Алексеевной, и он отчаянно пытался угадать, как бы поступить, чтобы она была довольна.
Конечно же, до визита было далеко, но на Святой неделе, когда Архаров прибыл в Пречистенский дворец с поздравлением, дело не обошлось обязательным «Христос воскресе! – Воистину воскресе!» Вручив обер-полицмейстеру расписное пасхальное яичко, государыня оставила его при себе и, усмехаясь, рассказала, как к ней приезжали сановные московские старухи, те самые, которым она когда-то смертельно боялась не угодить. Это еще не было подлинной благосклонностью. Но государыня очень старалась.
– Знаешь ли, Николай Петрович, отчего я в пост от них всячески скрывалась? Сии московские старухи не любят и злословят меня, а голодное состояние еще более располагает к гневу и досаде. Так я верно знаю, что уже на прошедшей неделе меня не пощадили; но теперь, удовольствовавшись пищей и вместе с ней освободясь от индижестии, должны успокоиться.
Что такое индижестия – Архаров не знал и решил выяснить у Клавароша. Сам же двумя кивками изобразил полное согласие. И внимательно глядел, к кому и как обращалось ее величество. Он не имел права совершить еще одну ошибку и, соблюдая внешнее непоколебимое спокойствие, внутренне малость суетился. Вот так он и подметил, что граф и графиня Матюшкины не пользуются, увы, благосклонностью государыни. Хотя весьма бы того желали…
– Николай Петрович, государыня может сколь угодно косо глядеть на графиню Матюшкину, однако ее к себе услуг не позабудет, – сказала Елизавета Васильевна. – Не путайся ты, сударь, в эти тонкости, Христа ради. Ну, обыграет тебя граф Матюшкин – я тебя знаю, ты с того не обеднеешь.
– Коли играть так, как теперь при дворе заведено, и бриллиантами расплачиваться, так моего жалованья ненадолго станет, – буркнул Архаров.
– Экий ты, сударь, несговорчивый.
– Да, я таков.
Как ни желал обер-полицмейстер понравиться Екатерине Алексеевне, однако терпеть ради этого семейство Матюшкиных было выше его сил. У обоих лица прямо-таки вопили о склонности к вранью – что у супруга, бывшего красавчика писаного, что у супруги, которая и смолоду была нехороша собой, зато ловка.
А благосклонность государыни была нужна – он, уже почти четыре года занимая обер-полицмейстерский пост, знал, что способствует поддержанию порядка, а что препятствует, и хотел во благовременье подсказать, какие указы были бы ему полезны…
– Государыне, сударь, перечить теперь не вздумай, – негромко и со значением сказала княгиня. – Коли позовет играть – ступай без рассуждений. Ее теперь сердить не след.
Архаров покивал – о том, что императрица нездорова, он знал доподлинно. В сыром Пречистенском дворце и не выздороветь – вот и ходит, кутаясь в шади да накидки.
– А ты бы, матушка, о чем другом поговорила. Для царицыных хвороб у нас лейб-медики есть, Николай Петрович не лекарь, – вдруг вмешался князь Волконский, казалось бы, даже не слушавший их беседы.
– Да что ты, батька мой, взъелся? – удивилась княгиня. – Николай Петрович и по должности своей много знать обязан. Не для того, чтобы шум поднимать, а для того, чтобы шуму воспрепятствовать.
Тут Архаров насторожился. И точно – было при дворе нечто, чего он не мог понять, какая-то особенность в отношении к государыне иных близких к ней людей, того же господина фаворита.
Он бы долго ломал над этим голову, но князь и княгиня очень значительно переглянулись. И тут же Елизавета Васильевна заговорила об ином – очень важном для Архарова.
Княгине очень хотелось, чтобы Архаров блистал в свете. И она прямо ему об этом сказала: в его-то годы можно еще замечательный карьер сделать, если не торчмя торчать у себя на Рязанском подворье, а бывать в гостиных у влиятельных особ, тем более, что для этого и далеко ездить незачем – многие особы вслед за государыней в Москву перебрались.
Архарову же хотелось отыскать в ее словах тайный смысл: насколько его светская жизнь увязана с будущим Вареьки Пуховой. Может, по тайному распоряжению государыни из него хотят сделать светского кавалера, чтобы он достойно ввел в общество свою молодую супругу. Желали же отдать ее за князя Горелова – так, может, и обер-полицмейстеру по такому случаю титулишко перепадет?
– Ты картины-то приобрел? – спросила княгиня. – Или мне самой за ними ехать придется? Николай Петрович, тебе же на них глядеть, не мне!
Архаров насупился. Визит к Захарову все откладывался и откладывался. Уже и мебель купец привез, уже и красивые шпалеры в обеих гостиных повесили, бронзы приладили, ковры постелили, и Архаров не мог бы сказать, что там так уж недостает проклятых картин. Но княгине виднее – она дама светская…
– Завтра же и привезу картины, ваше сиятельство, – пообещал он и, помолчав, добавил: – Теперь же позвольте откланяться.
Молчание было необходимо, чтобы князь с княгиней, коли еще чего желают сказать, или же позвать в гостиную девиц, Анюту и Вареньку, имели такую возможность. Но они всем видом показали, что на сегодня беседа завершена.
Так что оставалось и впрямь откланяться.
Оставаться у Волконских надолго Архаров, впрочем, и не мог. Купец взял с него слово, что обер-полицмейстер сегодня приедет обедать. Чая вкусить не французских деликатесов, а получить на тарелку четверть жареного поросенка, Архаров заранее радовался этому обеду. Уж там-то никто не стал бы обучать его правилам светского общежития.
Но сперва он заехал в полицейскую контору и убедился, что все благополучно. Ему доложили о пойманных злоумышленниках, а Яшка-Скес отчитался в своей разведке – уж коли сам Скитайла не знает, что в Москву привезли на продажу драгоценный сервиз, стало быть, он тут и не появлялся.
– Скитайле сказал, чтобы убирался из Москвы?
– Сказал, ваша милость.
На самом же деле Яшкина беседа с матерым мазом имела несколько иной оттенок. Скес очень осторожно намекнул, что архаровцы будут искать сервиз весьма деятельно, так что человек, которому известны их перемещения и вылазки, может в нужную минуту их опередить. Скитайла понял с полуслова. Разумеется, никуда он из Москвы уезжать не собирался. И золотой сервиз был бы для него добычей весьма обременительной, раз уж о нем знают на Лубянке. Однако слово «золото» и более мудрым мазам глаза-то затмевало. Яшка был уверен, что Скитайла приставит кого-либо следить за полицейской конторой и начнет самостоятельные поиски – а уж как присмотреть за давним товарищем, он знал. Тот же Грызик мог при нужде донести о затеях Скитайлы.
Но Архарову про эту интригу Яшка не доложил. Тем более, что обер-полицмейстер наскоро расспросил его о лубянских новостях. Особых новостей не было – всяк занимался своим делом.
– Баба какая-то еще у крыльца с утра толчется, – вспомнив, доложил Яшка. – С малыми детишками.
– Чего ей надобно? – спросил Архаров.
– Ждет, видать, кого-то.
– Гони в три шеи.
Выходя на крыльцо, обер-полицмейстер никакой бабы не обнаружил.
Сидя в карете, он припоминал разговор в доме Волконских. То, что государыня, будучи не совсем здорова, старалась глядеть бойко и держаться бодро, он понимал. Но крошечная стычка между князем и княгиней наводила на нехорошие мысли – что же это за болезнь такая?
Не имея семьи, не бывая в домах, где живут молодые жены, Архаров действительно не мог взять в толк природу заболевания, от коего женщина полнеет, надевает просторную одежду и кутается, стараясь скрыть отяжелевшее тело. Опять же – он знал, сколько лет государыне. Фаворит – это само по себе, а вынашивание и рождение ребенка – само по себе, и в таком возрасте рожать детей как будто не полагается. Однако взгляд, которым обменялись князь и княгиня, кажется, именно это и означал…
В купеческом доме Архарова ждали – все семейство, включая дальнюю родню, бывшую в услужении, встретило в сенях. Не каждый день жалует на обед сам обер-полицмейстер!
Это был час великого торжества купчихи Фетиньи Марковны. Увидев накрытый стол, Архаров даже рот разинул от изумления – чего только не было выставлено в первую перемену для возбуждения аппетита! Икра всех возможных видов, редиска, щеки селедочные (чтобы набрать одну тарелку сего лакомства, селедок уходило под тысячу), язык провесной, семга и лососина под лимоном, грибы двух десятков названий – одного этого хватило бы, чтобы набить чрево. А далее следовали еще четыре перемены, это не считая заедок, которые купчиха уже называла французским словом «десерт». И, что мило, блюда подавались стародавние московские, выпестованные поварами еще государя Михаила Федоровича: и калья с курицей и лимонами, и потроха под шафранным взваром, и стерлядь паровая, и курица бескостная – во рту таяла, и молочный изумительно зажаренный поросенок, и пироги, и кулебяки, и листни, и хворост, и шишки печеные, и пастила, и куличи, и сахарные коврижки…
Вина же подавались такие, что Архаров впал в глубочайшее недоумение – он и не ведал, что столь затейливые оттенки вкуса существуют…
Наконец уж не только гость, но и сам хозяин взмолился: хватит, довольно, не то и помереть недолго!
Фетинья Марковна блаженствовала – накормить гостя так, чтобы молча сидел и пыхтел, выкатив глаза, почти лишенный соображения, было делом чести для хорошей хозяйки.
Наконец Архаров с трудом поднялся из-за стола и изъявил шепотом некоторое желание.
Благоустроенная каморка, которую так хвалил купец, была у него в доме не одна – он их три штуки завел, по каморке на каждом этаже. Каждая была устроена в углу дома и отгорожена от мира толстой стенкой, на крышу же выходила труба под медным навесиком, чтобы вытягивать дурной воздух.
Архаров был препровожден туда купцом самолично и ознакомлен с удобствами – с изразцовой печкой, со столиком, на котором стоял медный турецкий таз, а над ним был подвешен по старинке кувшин-рукомой, со стулом, на который можно поместить все, что способно помешать. Стояла на табурете яркая ароматница – ваза в виде большого яйца, с дырявой крышкой, откуда поднимался легкий дымок. Опору вазы составляли три дородные фаянсовые бабы с львиными лапами и хвостами, а также с крыльями, само же яйцо представляло собой как бы поляну, усыпанную разнообразными цветами. Тут же было льняное полотенце, вышитое красным узором, и все эти предметы, вместе взятые, – старый ореховый стул на причудливых ногах, как будто четыре когтистые лапы зажали каждая по небольшому шару, и турецкий таз с носатым рукомоем, и разноцветная фаянсовая ароматница, и русское полотенце, – составили причудливое единство, на просвещенный взгляд смешное, однако чем-то милое.
Сиденье Архарову, правда, не понравилось – высотой оно было менее аршина, и никак не походило на кресло – он полагал, тут не помешали бы подлокотники, но их не было, а прорезанную в толстой доске овальную дыру покрывала деревянная крышка, вроде тех, что используют на поварне для кадок и бочат с соленьями и моченьями. Перед тем, как усесться, Архаров оглядел дыру и обнаружил под ней воронку, сделанную из меди, которая соединялась с большой стоячей трубой, уходящей в весьма глубоко устроенную выгребную яму. Купец особо сам себя хвалил за то, что велел оную яму выложить камнем, но жаловался, что при очистке, производимой раз в месяц, ночью, поднимается вонь на все окрестности.
– И ладно бы с вечера они приезжали, закрыл окна – да и спи, – сказал он. – Так все ближе к рассвету норовят, просыпаешься – извольте радоваться!
Архаров взял сие на заметку – полиция столько всяких неожиданных обязанностей исполняла, что присмотр за московскими золотарями с их черными бочками, очевидно, тоже входил в компетенцию обер-полицмейстера. Однако же как-то до сих пор обходилось без его личного вмешательства, и даже нужники Рязанского подворья вычищались по чьему-то распоряжению, должно быть, Шварцеву…
Он задумался: золотари уже с полвека жили в двух слободах, одна – по дороге к Тушину, другая – где-то за Лефортовым, у Владимирского тракта, он сам не знал, где именно. Однако если вонючие обозы начнут таскаться мимо Лефортова и нового Екатерининского дворца, который когда-нибудь же достроят, – сие не есть хорошо… сие даже изрядно дурно…
Выходя из каморки, Архаров уже думал, в каких словах изложить государыне необходимость избавить полицию от несуразных хлопот. Мало было возни с фонарями, так теперь еще изволь гонять золотарей. Хотя в столице же как-то с ними управляются? Один Зимний дворец, поди, обеспечивает работой целую дивизию сих тружеников…
Государыня – дама утонченная, веселить ее такими пакостями не с руки. Надо будет обязать Шварца составить докладную записку – он всегда изъясняется витиевато, но в письменной речи ничего неприличного не допустит.
Отдохнув у купца в гостиной, выпив чашечку кофея и сказав несколько любезных слов Фетинье Марковне, Архаров поехал обратно к Рязанскому подворью. Был такой хороший майский вечер, что домой не хотелось вовсе. А на Лубянке непременно что-то занимательное случится.
И случилось, хотя ничто уже развлечений не предвещало.
Архаров отпустил Шварца, выслушал донесение Демки Костемарова, выслушал Жеребцова, выслушал еще несколько бумаг, прочитанных Сашей, и понял, что на сегодня с него довольно. Тем более, что ему от обжорства дышалось весьма тяжко. Следовало скорее добраться до Пречистенки и лечь спать.
Но он не сразу поднялся с удобного кресла. Уже и руками в столешницу уперся – а душевных сил для такого подвига недоставало.
Если бы княгиня Елизавета Васильевна видела его такого, то непременно изругала бы – в тридцать три года он отяжелел, раскис, едва ли не растекся по обитому красным сукном столу, стыд и срам!
Куда такому увальню о женитьбе помышлять!..
А ведь помышлял – глядя на краснощекую купеческую дочку. Красивую синеглазую девку усадили довольно далеко от него, но она тянула шейку, чтобы разглядеть получше обер-полицмейстера, и попалась ему на глаза. Дети в таких семействах растут в строгости, послушны и богобоязненны, и Фетинья Марковна не отпустит от себя дитя, не научив вести хозяйство, да сама будет на первых порах дневать и ночевать в доме у зятя, пока там все не наладится. Для таких жареных молочных поросят, пожалуй, и на купеческой дочке жениться можно!
Архаров резко выдохнул и встал.
Саша ждал в карете, Демка ждал в коридоре.
Архаров довольно скоро вышел на крыльцо, Демка выскочил следом с фонарем. Но посветил не на ступеньки, а правее. И недовольно ругнулся.
Архаров увидел нечто, принятое сперва было за ком тряпья. Но ком здоровенный, бугристый, несколько напоминающий те большие кучи на огородах, в середине которых прелый навоз, а поверху опытный садовник сажает тыквы. Он подошел, оглянулся – тут же рядом оказался Демка.
– Убрать, Костемаров, – сказал Архаров. – Ну что за город, мать бы его! Вот уж и к полицейской конторе всякой дряни понанесли. Кто там дневальный? Крикни, пусть придет с лопатой.
Демка сбежал вниз, присел на корточки.
– Ваша милость, там человек, – доложил он.
– Как человек? Ну-ка, развороши!
Демка разгреб сбоку тряпье и пошерудил в темной глубине рукой. Тут же, вскрикнув, выдернул руку.
– Да оно кусается! – растерянно сказал Архарову.
– Человек, говоришь?
– Так не пес же! Пес бы залаял!
– Сашка! Сенька! Ванюшка! – крикнул тогда Архаров. – Сенька, кнут прихвати! Сейчас мы это диво расковыряем! Сашка, пистолеты!
Из кареты вышел вооруженный Саша, с козел спустился Сенька с кнутом, тут же подошел и здоровенный лакей Иван с фонарем. Впятером они окружили кучу, Саша наставил на нее пистолет (держал двумя руками, но Архаров мог бы поспорить на ведро водки, что при необходимости стрелять пальнет зажмурившись и промахнется), а Сенька потыкал кнутом в середину.
Из кучи заспанным бабьим голосом было послано на мужской причиндал.
– Свои! – обрадовался Архаров. – Ну-ка, баба, вылезай! Вылезай, говорю, не то отведаешь кнута!
Он присел перед кучей, упираясь в колени.
Оказалось, баба сидела, вытянув ноги и привалившись к стене. Она выпростала голову из-под накинутой душегрейки и ошалело уставилась на мужчин. Тут же на ее груди тряпки зашевелились, явилось заспанное личико левочки лет трех или четырех. А сбоку высунулось другое лицо – мальчишеское. Возраст Архаров определить затруднялся, понял только, что парнишка недокормленный – бледненький и рожица с кулачок.
– Какого хрена ты уселась спать прямо под полицейскими воротами? – без церемоний спросил Архаров. – Другого места не нашла? Ну-ка, вставай и проваливай.
– Барин мой желанный, – сказала баба, – ты-то ведь мне и надобен, родименький! Ты ведь над колодниками старший?
– Аттестовала! – воскликнул Демка. – Ты, дура, думай, что говоришь!
Баба завозилась под своим тряпьем и оказалась стоящей перед Архаровым на коленях, глаза в глаза.
– Барин миленький! Не вели гнать! Издалека бреду, детишки со мной! Избу бросила, пришла на Москву мужа искать! Добрые люди сюда идти велели! Сказывали, коли муж в колодниках, так тут все ведомо! Христа ради, барин, не гони! Дай мы тут до утреца досидим!
– Колодники в тюрьме, а тут полиция, – объяснил Демка. – Крепко твой парнишка кусается! Зубастый чертенок растет!
– Да только и богатства, что зубы! – пожаловалась баба. – Как мой-то из дому ушел, так все захирело, беды одолели! Прибился мой дурак к налетчикам, вместе с ними гужевался, шайку перебили, мой вернулся, потом еще куда-то подался. А потом, сказывали, нашлась и на него управа – видели его добрые люди, как колодников по Москве за милостыней выводили! Я – сюда! Нельзя нам без мужика! Он хоть и дурак, а все – мужик! Своего-то ума ему в дурную башку не вложишь!
Забывшись, баба повысила голос – и голос этот был весьма сварлив. Архаров выпрямился.
– Тут тебе делать нечего, – решил он. – Собирайся, бреди… вот черт, как же ей объяснить?..
– На бастион, что ли? – догадался Демка.
– Ну да, там же еще бараки не пожгли. Или нет, у китайгородской стены есть пустые хибары.
– Вряд ли, что пустые, – возразил Демка.
Архаров задумался.
– Надо будет там облаву произвести, – решил он. – Много любопытного обнаружим…
– Барин милостивый! Так коли не ты над колодниками старший, куда же мне податься? – встряла баба.
– Куды ни подайся, толку выйдет мало, – вместо Архарова отвечал Демка. – Коли он у тебя колодником был, так, поди, давно в сибирскую каторгу сослали. Даже ежели в Москве, в остроге обретается, какая тебе с детками из того польза? Да ни на грош!
– Так я ж ему жена! – возразила баба. – Мне при нем надобно быть! На то и венчались! Да что он без меня может? Кроме как дуростей натворить?! Он у меня дурачок, сам ложки ко рту не поднесет, за него все решать надобно!
– К налетчикам, говоришь, прибился? – уточнил Архаров.
– На другой год после свадьбы, – подтвердила баба. – Ваша милость, знатный барин! Может, видали вы его? У него, у дурака моего, и примета есть! На брюхе, повыше пупа, красное пятно, как мышь бежит! Матушка его, брюхатая, мыши испугалась! И еще…
– Вот ведь дура! – воскликнул Демка. – Нешто его милость с колодниками в баню ходит?! Дурища ты стоеросовая! Пошла отсюда! Во-он туда беги, потом правой руки держись – там тебе будут всякие хибары, ты в двери толкайся. Где открыто – там и ночуй! А сюда больше носу не кажи! И с детишками вместе!
– Что это ты так взъерепенился? – спросил Архаров, когда Демка, поставив бабу на ноги и чуть ли не тычками сопроводив ее в нужном направлении, вернулся обратно. – Не у тебя ли на брюхе то мышиное пятно?
– Кабы у меня – я бы не на другой год после свадьбы, а еще до свадьбы лыжи навострил, – отвечал Демка. – Умная! Муж у нее дурачок! Детей жалко – не дай Бог, в матушку уродились!
Архарову случалось видеть Демку буянящим, но при иных обстоятельствах. У мазов и шуров, а шурзом он себя, очевидно, считал по сей день, коли совсем точно, так шуром на государственной службе, – было заведено иные вопросы решать глоткой, но ор стоял до определенного мига, после коего крикуны как-то сразу увядали и приходили к какому-то одному мнению уже без воплей и угроз. Архаров знал, что это за миг: после него было два пути – либо мириться, либо хвататься за ножи. Опытные мазы довольно быстро понимали, что друг друга им не перекричать, а молодые часто после таких стычек бывали подбираемы в глухих переулках мертвыми и, понятное дело, без документов. И Демка порой одним лишь внезапным заполошным криком умел добиться поболее, чем тот же Тимофей – рассудительностью, или Федька – кулаком.
Сейчас же Демкино возмущение было не наигранным, а вполне искренним, вот только слышалась в нем некая легчайшая фальшь. Да и странно, что подчиненный так вопит при начальстве.
Но время было позднее, объевшемуся Архарову смертельно хотелось спать. Ему недосуг было занимать голову приблудными бабами. На Пречистенке он прямо в сенях скинул надоевшие башмаки и прямо в чулках, благо в дворне целых две прачки, отправился к себе в спальню. Там не удержался – разложил пасьянс «Простушка», наскоро помолился Богу и лег.
Уже в постели, глядя, как Никодимка на цыпочках бродит, собирая его раскиданную одежду, Архаров вспомнил – куда-то подевался Демка. Обычно Архаров брал с собой в карету кого-то из архаровцев, и Демка вроде бы ехал на переднем сидении, Архаров даже был уверен, что подчиненный будет ночевать на Пречистенке… но куда он пропал потом? На кухню, где в любое время суток повар Потап держал в печи что-то горячее? Или наверх, где в двух комнатах, еще только ожидавших порядочных мебелей, имелись пока что для таких ночевщиков топчаны и тюфяки?
Утром, еще лежа в постели, Архаров велел Никодимке кликнуть Демку. И тут выяснилось, что Демка на Пречистенке не ночевал. Приехать – приехал, поприставал к заспанной Иринке, Потаповой дочке, и скрылся, куда – неведомо.
– Ага, – мрачно сказал Архаров. Приставание к пятнадцатилетней Иринке, баловство с которой пресекалось на корню и поваром Потапом, и самолично Архаровым, означало одно – Демка хотел убедиться, что начальство заснуло и более его не позовет.
Архаров сел и в ожидании фрыштика начал вспоминать.
Баба Демку не признала. Кабы узнала – тут же об этом и доложила бы. При таком дурном нраве молчать – хуже каторги. Демка бабу не признал – по крайней мере, спервоначалу. Но был миг, когда он заволновался и стал ее гнать уже всерьез. Архарову запомнилось ощущение фальши – словно бы на воспоминаниях была поставлена метка. И по метке он тут же нашел нужные слова. Демка заголосил про баню… С чего бы вдруг? А баба припомнила примету на брюхе у мужа.
Пятно – как мышь бежит… Красное. Продолговатое и с отростками, наподобие почти незримых мышиных лапок, что ли? Примета. И знакомая Демке примета!
– Кто из наших в доме? – спросил Архаров Никодимку.
– Никого, ваши милости, – тут же отвечал Никодимка, да с каким еще поклоном! Пальцы растопырены, башка – набекрень, улыбочка, следственно, тоже набекрень! Тьфу!
Архаров аж засопел. Никодимкина страсть к галантерейному обращению уже преступала все разумные границы.
– Бриться и фрыштикать, – распорядился он.
Завтрак был прост – кофе с ванильными сухариками, Шварц присоветовал немца-кондитера, мастера по сухарям. Основательно Архаров ел уже потом – в полицейской конторе, ему приносили два-три блюда из трактира или привозили с Пречистенки. А обедал или в гостях, или уже дома, когда доводилось приехать пораньше.
Сухари он любил – и сладкие немецкие, и русские ржаные. Частенько даже в постели их грыз, чем привадил в спальню мышей. Крошки заваливались за кровать, откуда их не так уж часто выгребали, и порой Архаров слышал там деятельное шебуршание.
Никодимка тут же приволок поднос, установил на маленьком столике, и Архаров молча стал макать сухари в крепкий кофе. Потом пришел черед бритья, причем от соленого огурца за щеку Архаров отказался наотрез – не желал портить приятное послевкусие во рту. Никодимка, причитая, что не добьется на личиках Николаев Петровичей идеальной гладкости, взялся за работу и через четверть часа уже оправлял на Архарове темно-зеленый мундир с таким количеством галунов, что простой человек, угодив за грехи в палаты Рязанского подворья, отступал, сраженный всепоглощающим почтением – не иначе, как генерал-аншеф и обер-гофмаршал в одном лице! Деньги, потраченные на три с половиной фунта золотого галуна, вполне окупались.
На Лубянке Архаров потребовал к себе Демку. Оказалось – полицейский, приучая новичка Евдокима Ершова к работе, ушел с ним вместе – показывать ему какие-то московские закоулки возле Охотного ряда, где, отцепившись от погони, бесследно исчезают шуры и мазурики, чтобы вынырнуть в иных местах. С одной стороны, это было отрадно – Демка щедро делился своим боевым прошлым, как бы показывая, что возврата нет. С другой – явно скрывался.
Архаров спросил про бабу с детишками. Нет, баба не появлялась. Должно быть, послушалась совета и отправилась в острог.
Наконец Демка вернулся.
– У кого из наших на брюхе красная мышь? – сходу спросил Архаров.
Демка был шустрый парень – тут же смекнул, что попался.
– Да не у наших, ваша милость, я совсем в ином месте то пятно видел.
– И где?