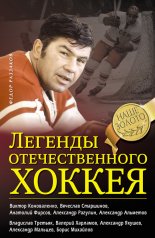Страна Рождества Хилл Джо
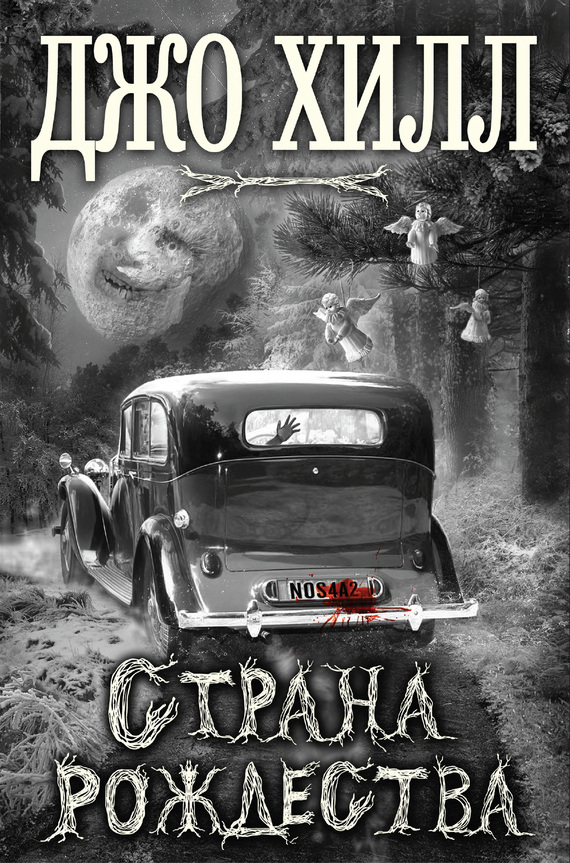
Хорошо было, когда к ней прижимался Лу Кармоди, обдавая ее своим запахом — запахом сосен и гаража, — а еще лучше, когда ее талию снова упруго обхватили руки ее собственного сына.
В апокалипсическом гудящем мраке не было хотя бы рождественской музыки. Как же она ненавидела рождественскую музыку! Всегда ненавидела.
Еще один горящий кусок дерева упал справа от нее, ударился о булыжники и взорвался, разбрасывая угли размером с тарелку. В воздухе просвистела огненная стрела длиной с предплечье Вик и порезала ей лоб над правой бровью. Она этого не почувствовала, хотя видела, как та проходила у нее перед глазами.
Она с легкостью перевела «Триумф» на четвертую передачу.
Сын сдавил ее крепче. Почка резко вибрировала. Он выдавливал из нее жизнь, и ей было хорошо.
Она положила левую руку поверх обеих его рук, сплетенных у нее на пупке. Погладила его маленькие белые костяшки пальцев. Он по-прежнему был ее сыном. Она знала это, потому что кожа у него была теплой, а не замороженной и мертвой, как у вампиров-недомерков Чарли Мэнкса. Он всегда будет ее мальчиком. Он золото, а золото не стирается.
«Призрак» вырвался из вздымающегося дыма позади нее. Она услышала его в мертвой гудящей тишине, услышала нечеловеческий рык, высокоточный, превосходно артикулированный рев ненависти. Его колеса с рывками и грохотом несли его по полю разбитых камней. Его фары заставили бурю пыли — эту метель песчинок — засиять, как ливень алмазов. Мэнкс склонялся к рулю, а его окно было опущено.
— Я ЗАБЬЮ ТЕБЯ, ЖАЛКАЯ СУКА! — кричал он, и это она тоже слышала, хотя и отдаленно, как слышится шуршание в морской раковине. — Я РАЗДАВЛЮ ВАС ОБОИХ! ТЫ УБИЛА ВСЕХ МОИХ, А Я УБЬЮ ТВОИХ!
В ее заднее колесо ударил бампер, и «Триумф» тряхнуло вперед. Руль дернулся, пытаясь вырваться у нее из рук. Она его удержала. В противном случае переднее колесо резко повернулось бы влево или вправо, они бы слетели с байка, а «Призрак» наехал бы прямо на них.
Бампер «Призрака» врезался в них снова. Ее так сильно бросило вперед, что она едва не ударилась головой о руль.
Когда она подняла голову и посмотрела, то увидела перед собой мост «Короткого пути», въезд в который чернел в дымке цвета сахарной ваты. Она глубоко вздохнула, едва не задрожав от облегчения. Мост был на месте, он заберет ее отсюда туда, где ей надо оказаться. Тени, ждавшие внутри, были на свой манер столь же утешительны, как прохладная рука матери на ее охваченном жаром лбу. Она скучала по матери, по отцу и по Лу и жалела, что они так мало времени были все вместе. Ей казалось, что все они, а не только Луис, будут встречать ее у другой стороны моста, ожидая, чтобы она слезла с байка и упала в их объятия.
«Триумф», переехав через деревянный порог, въехал на мост и застучал по доскам. Слева от себя она увидела старую знакомую зеленую краску, две буквы вкривь и вкось: ЛУ.
Позади нее на мост въехал «Призрак», ударил по старому, ржавому «Роли», запустив его в воздух. Он просвистел справа от Вик. Сзади с ревом катился снег, его все стирающая струя затыкала дальний конец моста, закупоривала его, как пробка, вгоняемая в бутылку.
— ТАТУИРОВАННАЯ ШВАЛЬ! — вопил Чарли Мэнкс, и его голос раскатывался эхом через обширное полое пространство. — БЛЯДЬ ТАТУИРОВАННАЯ!
Бампер снова ударил по заднему колесу «Триумфа». «Триумф» накренился вправо, и Вик врезалась плечом в стену с такой силой, что ее едва не вырвало из седла. Разбилась вдребезги доска, показывая белые статические помехи, ярившиеся снаружи. «Короткий путь» грохотал и содрогался.
— Летучие мыши, мама, — тихо сказал Уэйн, и голос у него был таким, словно он вдруг стал младше, меньше, чем был. — Смотри, сколько летучих мышей.
Воздух был полон летучих мышей, которых стряхнуло с потолка. Охваченные паникой, они кружились и носились туда-сюда, и Вик опустила голову и помчалась сквозь них. Одна ударила ее в грудь, упала ей на колени, истерически захлопала крыльями и снова поднялась в воздух. Другая коснулась ее лица своим войлочным крылом. В этом прикосновении было мягкое, тайное, женственное тепло.
— Не бойся, — сказала ему Вик. — Они тебя не тронут. Ты Брюс Уэйн! Все летучие мыши здесь на твоей стороне, малыш.
— Да, — согласился Уэйн. — Да. Я Брюс Уэйн. Я помню. — Как будто он на какое-то время забывал об этом. Возможно, так оно и было.
Вик оглянулась и увидела, как летучая мышь ударила в лобовое стекло «Призрака» с такой силой, что по нему, прямо перед лицом Чарли Мэнкса, разбежалась белая паутина трещин. Вторая летучая мышь врезалась в другую сторону ветрового стекла, разбрызгивая кровь и разбрасывая клочки шерсти. Она застряла под одним из «дворников», отчаянно молотя разбитым крылом. Третья и четвертая летучие мыши ударились в стекло, отскочив и улетев в темноту.
Мэнкс все кричал и кричал, и в его криках слышался не страх, но разочарование. Вик не хотела слышать еще один голос в машине, голос ребенка: «Нет, папа, слишком быстро, папа!» — но все равно улавливала его, потому что в замкнутом пространстве моста звуки усиливались и разносились повсюду.
«Призрак» уклонился от курса, качнулся влево и врезался передним бампером в стену, вырвав доску в три фута длиной и открыв шипящую белую статику по ту сторону, пустоту по ту сторону мысли.
Мэнкс навалился на руль, и «Призрак» рванул через мост вправо, ударившись в другую стену. Доски расщеплялись и разламывались с треском, подобным пулеметному огню; лопались и разбивались вдребезги под днищем автомобиля. Град летучих мышей барабанил в лобовое стекло, окутывая его собой. За ними следовали другие летучие мыши, вихрясь в кабине, ударяя Мэнкса и его ребенка по голове. Маленькая девочка начала кричать. Мэнкс выпустил руль, отмахиваясь от них.
— Убирайтесь! Прочь отсюда, богомерзкие твари! — кричал он. Потом слов не осталось, и он просто кричал.
Вик нажала на газ, и мотоцикл рванулся вперед, несясь по мосту, сквозь темноту, бурлящую летучими мышами. Он мчался к выходу, делая пятьдесят, шестьдесят, семьдесят миль в час, летел как ракета.
Позади нее передний конец «Призрака» врезался в пол моста. Задний конец «Роллс-Ройса» поднялся в воздух. Мэнкса бросило вперед, на руль, и он разинул рот в испуганном вое.
— Нет! — кричал он, как показалось Вик. Или, может быть, — может быть, это было Снег.
«Призрак» рушился в снег, в белый рев, своим падением разрывая мост на части. Мост «Короткого пути», казалось, сложился посередине, и вдруг оказалось, что Вик мчится в гору. Он проседал в центре, а каждый его конец поднимался, словно мост пытался закрыться, как книга, роман, достигший своего финала, история, которую читатели, равно как автор, вот-вот отложат в сторону.
«NOS4A2» провалился сквозь разрушенный и гнилой пол моста, упал в яростный белый свет и жужжание статических помех, опустился на тысячу футов и двадцать пять лет, падая через время, чтобы угодить в реку Мерримак в 1986 году, где его раздавило, как пивную банку, как только он врезался в воду. Блок двигателя вылез через приборную панель и зарылся в грудь Мэнкса — железное сердце, весившее четыреста фунтов. Он умер с полным ртом моторного масла. Тело девочки, сидевшей рядом с ним, течением высосало из кабины и утащило почти до Бостонской гавани. Когда четыре дня спустя ее труп обнаружили, при ней было несколько мертвых, утонувших летучих мышей, запутавшихся у нее в волосах.
Вик прибавляла скорость — восемьдесят, девяносто. Вокруг нее вылетали из моста летучие мыши, выплескивались в ночь, все до одной, все ее мысли и воспоминания, фантазии и чувства вины: как она целовала большую голую грудь Лу, когда впервые сняла с него рубашку; как ехала на своем десятискоростном велосипеде в зеленой тени августовского дня; как ободрала костяшки пальцев о карбюратор «Триумфа», стараясь затянуть болт. Хорошо было видеть их улетающими, видеть, как они освобождаются, самой освобождаться от них, оставлять все свои мысли. «Триумф» достиг выхода и полетел с ними дальше. Мгновение она ехала по ночи, мотоцикл парил в морозной темноте. Сын крепко ее держал.
Шины с огромной силой грянулись о землю. Вик бросило на руль, и боль в почке стала мучительным ощущением разрыва. «Только бы не перевернуться», — подумала она, теперь быстро замедляя ход, меж тем как переднее колесо билось и сотрясалось, а весь байк угрожал сбросить их и свалиться сверху. Двигатель завизжал, когда мотоцикл зашлепал на изрытой земле. Она вернулась на ту лесную поляну, откуда Чарли Мэнкс прокладывал путь в Страну Рождества. По бокам байка отчаянно хлестала трава.
Она замедляла, замедляла и замедляла ход, и байк задохнулся и умер. Она двигалась по инерции. Наконец «Триумф» остановился у опушки, и можно было с безопасностью повернуть голову и посмотреть назад. Уэйн посмотрел вместе с ней, по-прежнему крепко сжимая ее руками, словно они даже сейчас мчались со скоростью под восемьдесят миль в час.
Через поле она видела мост «Короткого пути» и поток летучих мышей, изливавшийся из него в звездную ночь. Затем въезд в мост почти осторожно повалился назад — за ним вдруг ничего не оказалось — и исчез с еле слышным хлопком, не успев врезаться в землю. По высокой траве разбежалась слабая рябь.
Мальчик и его мать сидели на мертвом байке, глядя на это. Летучие мыши тихо попискивали в темноте. Вик ощущала в своем сознании огромную умиротворенность. Она не знала, много ли в нем оставалось сейчас, кроме любви, но ей этого хватало. Освободиться от всего остального было настоящим облегчением.
Она ударила каблуком по педали стартера. «Триумф» вздохнул, выражая сожаление. Она попробовала еще раз, чувствуя, что внутри у нее все рвется, харкая кровью. Третий раз. Педаль стартера почти отказалась опускаться, а байк не издал вообще ни звука.
— Что с ним случилось, мама? — спросил Уэйн своим новым, мягким голосом маленького мальчика.
Она покатала байк вперед-назад между ног. Он мягко поскрипывал, но больше не издавал никаких звуков. Она поняла и рассмеялась; смех был сухим и слабым, но искренним.
— Бензин кончился, — сказала она.
В первое воскресенье октября Уэйн проснулся под перезвон колоколов в конце квартала. Отец был рядом, сидел на краю кровати.
— Что тебе снилось? — спросил его новый, почти худой отец.
Уэйн помотал головой.
— Не знаю. Не помню, — солгал он.
— А я подумал, что тебе, может, снится мама, — сказал новый Лу. — Ты улыбался.
— Мне, должно быть, снилось что-то веселое.
— Что-то веселое? Или что-то хорошее? — спросил новый Лу, глядя на него своими странными новыми глазами… придирчивыми, яркими и заинтересованными. — Потому что это не всегда одно и то же.
— Я уже не помню, — сказал ему Уэйн.
Лучше сказать это, чем рассказывать, что ему снились Брэд МакКоули, Марта Грегорская и другие дети из Страны Рождества. Не то чтобы это оставалось Страной Рождества. Теперь это было просто Белизной. Это было просто яростной белой статикой мертвого канала, и дети бегали в ней, играя в свои игры. Игра прошедшей ночи называлась укуси-самого-маленького. Уэйн до сих пор чувствовал вкус крови. Он водил языком по липкой полости рта. Во сне у него было гораздо больше зубов.
— Я выезжаю на нашем буксире, — сказал Лу. — Есть работенка, надо заняться. Хочешь со мной? Это необязательно. С тобой здесь могла бы посидеть Табита.
— Она что, здесь? Ночевала?
— Нет! Нет, — сказал Лу. Он казался искренне удивленным таким предположением. — Я просто имел в виду, что мог бы позвонить ей и попросить заехать. — Лоб у него задумчиво нахмурился, и через мгновение он продолжил, медленнее выговаривая слова: — Не думаю, чтобы прямо сейчас это было бы нормальным. Ночевать. По-моему, это было бы странным… для всех.
Уэйн подумал, что самой интересной частью этого заявления были слова «прямо сейчас»: они подразумевали, что его отец мог бы счесть нормальным, чтобы мисс Табита Хаттер ночевала у них дома на более позднем отрезке времени, дата уточняется.
Три дня назад они все вместе выходили из кинотеатра — они теперь иногда ходили вместе в кино, — и Уэйн оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как отец взял Табиту Хаттер за локоть и поцеловал ее в уголок рта. По тому, как она наклонила голову и слегка улыбнулась, Уэйн понял, что это не первый их поцелуй. Он был слишком небрежным, слишком опробованным. Потом Табита увидела, что Уэйн на них смотрит, и высвободила свою руку из руки Лу.
— Меня бы это не огорчило! — сказал Уэйн. — Я знаю, что она тебе нравится. Мне она тоже нравится!
— Уэйн, — сказал Лу. — Твоя мама — твоя мама была — я имею в виду, если сказать, что она была моим лучшим другом, то это даже еще не начать…
— Но теперь она умерла. А ты должен быть счастлив. Ты должен получать удовольствие! — сказал Уэйн.
Лу смотрел на него серьезно — со скорбью, подумал Уэйн.
— Ладно, — сказал Лу. — Я просто говорю, что ты можешь остаться здесь, если хочешь. Табита живет чуть дальше по улице. Могу позвать ее, и она будет здесь через три минуты. Тебе понравится няня, которая ходит со своим собственным «Глоком».
— Нет, составлю тебе компанию. Куда, ты сказал, мы поедем?
— Я этого не говорил, — сказал Лу.
Табита Хаттер все равно зашла к ним, без предупреждения, позвонила в квартиру, когда Уэйн еще был в пижаме. Иногда она так делала, забегала к ним с пончиками, которые, по ее словам, хотела обменять на кофе. Она могла бы купить и кофе, но утверждала, что ей нравится, как его готовит Лу. Когда Уэйн слышал, как кто-то юлит, он сразу это чувствовал. В кофе Лу не было ничего особенного, если только не предпочитаешь пить его с привкусом WD-40[182].
Она перевелась в денверскую контору для оказания помощи в ходе продолжающегося расследования дела МакКуин… дела, в котором никогда не были и не будут выдвинуты какие-либо обвинения. Она получила квартиру в Ганбарреле и обычно раз в день обедала или ужинала с Лу и Уэйном, якобы чтобы поговорить о том, что было известно Лу. В основном, правда, речь шла об «Игре престолов»[183]. Лу закончил читать первую книгу как раз перед тем, как лег в больницу на ангиопластику и желудочное шунтирование, которые ему сделали одновременно. Табита Хаттер была рядом, когда Лу пришел в себя на следующий день после операции. Она сказала, что хотела убедиться, что он жив и сможет прочесть остальные романы серии.
— Привет, малыши, — сказала Табита. — Уезжаете тайком от меня?
— Есть работенка, надо заняться, — сказал Лу.
— В воскресенье утром?
— Машины гробят и по воскресеньям.
Она зевнула, прикрываясь ладонью, — маленькая женщина с вьющимися волосами, в выцветшей футболке «Чудо-женщина» и синих джинсах, без каких-либо украшений, вообще без аксессуаров. Кроме 9-миллиметрового пистолета, прилаженного к бедру.
— Хорошо. Сделаете мне чашку кофе, прежде чем поедем?
Лу при этом почти улыбнулся, но сказал:
— Вам ехать не надо. Это может занять какое-то время.
Она пожала плечами.
— А что мне еще делать? Правонарушители любят поспать. Я уже восемь лет как в ФБР, и у меня ни разу не было причин стрелять в кого-то раньше одиннадцати утра. Только сначала я выпью кофе.
Лу поставил завариваться темный жареный кофе и пошел заводить грузовик. Табита вышла за ним за дверь. Уэйн остался в прихожей один и надевал кроссовки, когда зазвонил телефон.
Он посмотрел на трубку, стоявшую на черной пластиковой подставке на столике, сразу справа от него. Было всего несколько минут восьмого, рано для звонка — но, возможно, речь шла о работе, на которую они собирались ехать. Может, тому, кто загнал свою машину в кювет, помогал кто-то другой. Такое случалось.
Уэйн ответил.
Телефон шипел: громкий рев белого шума.
— Уэйн, — хрипло сказала девочка с русским акцентом. — Когда ты вернешься? Когда ты вернешься поиграть?
Уэйн не мог ответить — язык у него прилип к небу, пульс бился в горле. Они звонили не в первый раз.
— Ты нам нужен. Ты можешь восстановить Страну Рождества. Можешь придумать все обратно. Все аттракционы. Все магазины. Все игры. Здесь совсем не с чем играть. Ты должен нам помочь. Теперь, когда мистера Мэнкса не стало, есть только ты.
Уэйн услышал, как открывается входная дверь. Он нажал на ОТБОЙ. Когда Табита Хаттер вошла в коридор, он ставил трубку на место.
— Кто-то звонил? — спросила она со спокойной невинностью в серо-зеленых глазах.
— Ошиблись номером, — сказал Уэйн. — Готов поспорить, что кофе готов.
Уэйн был нездоров и знал это. Здоровые дети не говорят по телефону с детьми, которым полагается быть мертвыми. Здоровым детям не снятся такие сны, как ему. Но ничто из этого — ни телефонные звонки, ни сновидения — не служило ясным показателем того, что он не в порядке. Нет. На самом деле нездоровым его метило то, каким он становился, глядя, к примеру, на фотографию авиакатастрофы: взбудораженным, содрогающимся от возбуждения и чувства вины, словно смотрел на порнографию.
Он выезжал с отцом на прошлой неделе и, увидев, как бурундук, перебегавший дорогу перед какой-то машиной, попал под колеса, разразился вдруг удивленным смехом. Отец вскинул голову и посмотрел на Уэйна в полном недоумении, шевельнул губами, собираясь заговорить, но потом ничего не сказал… промолчал, возможно, из-за болезненного выражения потрясения и горести на лице Уэйна. Уэйн не хотел думать, что было что-то забавное в том, что бурундучок повернул не в ту сторону, сделал зиг, когда нужно было делать заг, и был сметен чьим-то колесом. Именно такие вещи заставляли смеяться Чарли Мэнкса. Он просто ничего не мог с собой поделать.
Однажды он смотрел по Ютубу ролик о геноциде в Судане и обнаружил у себя на лице улыбку.
В новостях рассказывали о маленькой девочке, похищенной в Солт-Лейк-Сити, симпатичной двенадцатилетней блондинке с застенчивой улыбкой; Уэйн смотрел репортаж, восхищаясь, волнуясь и завидуя ей.
Снова и снова у него появлялось ощущение, будто у него есть три дополнительных набора зубов, спрятанных где-то за небом. Он водил языком взад и вперед по небу и, казалось, чувствовал их, ряды маленьких хребтов прямо под плотью. Теперь он знал, что только воображал потерю своих обычных детских зубов, это было галлюцинацией, вызванной севофлураном, как была галлюцинацией и вся Страна Рождества (ложь!). Но воспоминание о тех других зубах было реальнее, ярче, чем все то, что происходило в его повседневной жизни: школа, поездки к терапевту, обеды с папой и Табитой Хаттер.
Иногда он чувствовал себя тарелкой, которая треснула пополам, а затем была склеена, но две ее части не вполне состыковались. Одна сторона — та часть тарелки, которая обозначала его жизнь до Чарли Мэнкса, — микроскопически не совпадала с другой стороной тарелки. Отстраняясь и глядя на эту кривую тарелку, он не мог понять, зачем кому-то надо ее сохранять. Она теперь никуда не годилась. Уэйн не думал об этом с каким-то отчаянием… и это было частью проблемы. Он уже давно не чувствовал ничего похожего на отчаяние. На похоронах своей матери он получил огромное удовольствие от гимнов.
В последний раз он видел свою мать живой, когда ее везли на каталке к машине «Скорой помощи». Парамедики торопились. Она потеряла много крови. В конечном итоге они вкачали в нее три литра, достаточно, чтобы продержать ее в живых в течение ночи, но они не знали о ее пробитой почке и кишечнике, не знали, что организм у нее бурлил от ядов ее собственного тела.
Он бежал трусцой рядом с ней, держа ее за руку. Они были на гравийной стоянке сельской лавки у дороги, шедшей от развалин домика Мэнкса. Позже Уэйн узнает, что первый разговор его матери и отца состоялся именно на этой стоянке.
— Ты в порядке, малыш, — сказала ему Вик. Она улыбалась, хотя лицо у нее было забрызгано кровью и грязью. Над правой бровью не прекращала кровоточить рана, а из носа торчала дыхательная трубка. — Золото не стирается. Хорошее остается хорошим, сколько его ни колоти. Ты в порядке. Ты всегда будешь в порядке.
Он знал, о чем она говорила. Она говорила, что он не похож на детей из Страны Рождества. Она говорила, что он остается самим собой.
Но Чарли Мэнкс сказал нечто другое. Чарли Мэнкс сказал, что кровь из шелка никогда не вывести.
Табита Хаттер сделала первый пробный глоток кофе и выглянула в окно над кухонной раковиной.
— Твой отец подогнал грузовик. Захватишь куртку, вдруг будет холодно? Нам надо ехать.
— Поехали, — сказал Уэйн.
Они все вместе втиснулись в буксир, с Уэйном посередине. Раньше они втроем там не поместились бы, но Новый Лу не занимал так много места, как Старый Лу. Новый Лу походил на Бориса Карлоффа в роли Франкенштейна — длинные обвисшие руки, впалый живот под большим бочонком грудной клетки. У него были и соответствующие шрамы Франкенштейна, выходившие из-под ворота рубахи, прочерчивавшие всю шею и исчезавшие за правым ухом, — следы от ангиопластики. Его жир просто растаял, совсем как мороженое, оставленное на солнце. Самой поразительной вещью были глаза. Непонятно, каким образом потеря веса могла изменить его глаза, но Уэйн теперь больше их замечал, больше осознавал любознательный, вопрошающий взгляд отца.
Уэйн устроился на сиденье рядом с отцом, потом выпрямился, отодвигаясь от чего-то, что впивалось ему в спину. Это был молоток — не костный, обыкновенный плотницкий молоток, с потертой деревянной рукояткой. Уэйн переложил его поближе к ноге отца.
Удаляясь от Ганбаррела, буксир поднимался в гору, следуя серпантинной дороге среди старых елей, повсюду поднимавшихся в безоблачное синее небо. Внизу, в Ганбарреле, на солнце было довольно тепло, но здесь верхушки деревьев беспокойно шуршали под холодным ветром, резко пахнувшим меняющими цвет осинами. Склоны были испещрены золотом.
— А золото не стирается, — прошептал Уэйн, но стоило только взглянуть: листья все время облетали, перекатывались через дорогу, плыли на ветру.
— Что ты сказал? — спросила Табита.
Он помотал головой.
— Как насчет радио? — спросила Табита и протянула руку, чтобы включить какую-нибудь музыку.
Уэйн не мог бы сказать, почему он предпочитал тишину, почему мысль о музыке вызывала у него дурные предчувствия.
Через негромкое потрескивание статических помех Боб Сегар выражал свою любовь к старинному рок-н-роллу. Он утверждал, что если кто-нибудь поставит диско, то он на десять минут опоздает к двери.
— Где произошла эта авария? — спросила Табита Хаттер, и Уэйн краем сознания отметил нотку подозрительности в ее голосе.
— Мы почти на месте, — сказал Лу.
— Кто-нибудь пострадал?
— Авария случилась очень давно, — сказал Лу.
Уэйн не знал, куда они едут, пока они не миновали сельскую лавку слева. Теперь, конечно, там не было никакой лавки, не было уже лет десять. У фасада по-прежнему стояли бензоколонки, одна из них почернела, краска облупилась с нее в тех местах, где ее коснулся огонь, когда Чарли Мэнкс остановился здесь, чтобы заправиться. В холмах над Ганбаррелом хватало заброшенных рудников и городов-призраков, и не было ничего особо примечательного в этом доме в охотничьем стиле, с разбитыми окнами, в котором нет ничего, кроме теней и паутин.
— Что у вас на уме, мистер Кармоди? — спросила Табита Хаттер.
— Кое-что, о чем просила Вик, — сказал Лу.
— Может, не стоило брать с собой Уэйна.
— Вообще-то я думал, что мне не следовало брать с собой вас, — сказал Лу. — Я собираюсь портить вещественные доказательства.
— А, ладно, — сказала Табита. — Сегодня я не на службе.
Он поехал дальше мимо лавки. Через полмили начал замедлять ход. Гравийный проселок к Дому Саней был справа. Когда он свернул на него, статические помехи стали громче и едва не заглушали хрипловатый, приветливый голос Боба Сегара. Возле Дома Саней хорошей радиосвязи не было ни у кого. Даже у «Скорой помощи» возникли трудности при отправке сообщения в больницу внизу. Возможно, это было связано с контурами шельфовой скалы. В ущельях Скалистых гор легко было потерять из виду мир внизу… и среди утесов, деревьев и пробирающих до костей ветров обнаруживалось, что двадцать первый век был всего лишь воображаемой конструкцией, причудливым понятием, наложенным людьми на мир, но не имевшим никакого значения для скал.
Лу остановил грузовик и выбрался, чтобы отодвинуть голубые полицейские козлы. Потом поехал дальше.
Буксир прогрохотал по стиральной доске грунтовой дороги, подкатив почти к палисаднику развалин. В осеннем холоде краснел сумрак. Где-то долбил сосну дятел. Когда Лу поставил грузовик на тормоз, по радио не доносилось ничего, кроме белого шума.
Закрывая глаза, Уэйн мог представить их себе, этих детей статики, детей, затерявшихся в пространстве между реальностью и мыслью. Они были так близко, что он чуть ли не слышал их смех сквозь шипение радио. Он задрожал.
Отец положил руку ему на ногу, и Уэйн открыл глаза и посмотрел на него. Лу выскользнул из грузовика, но подался обратно в кабину, чтобы положить большую ладонь ему на колено.
— Все в порядке, — сказал отец. — Все хорошо, Уэйн. Ты в безопасности.
Уэйн кивнул… но отец не так его понял. Он не боялся. Если он и дрожал, то от нервного возбуждения. Другие дети были так близко и ждали, чтобы он вернулся и осуществил, воплотил мечту о новом мире, новой Стране Рождества, со всеми аттракционами, вкусностями и играми. Сделать это было в его власти. Это каждому было по силам. Ему только требовалось что-то, какое-то орудие, какой-то инструмент удовольствия, веселья, с помощью которого он мог бы прорвать дыру из этого мира в свой собственный тайный внутренний ландшафт.
Уэйн почувствовал металлическую головку молотка, прижимавшуюся к его бедру, посмотрел на него и подумал: «Может быть». Взять молоток и обрушить его на макушку отцу. Когда Уэйн вообразил звук, который это произведет, глубокий, глухой удар стали о кость, он содрогнулся от удовольствия. Ударить им прямо по миловидному, округлому, умному, самоуверенному, сучьему, блядскому лицу Табиты Хаттер, разнести ей очки, выбить зубы у нее изо рта. Это было бы забавно. Мысль о ее красивых полных губах, обрамленных кровью, доставляла ему откровенно эротическое возбуждение. Покончив с ними, он мог бы отправиться на прогулку в лес, вернуться к той стороне утеса, в которой раньше пролегал кирпичный туннель в Страну Рождества. Взять молоток и бить по скале, махать молотком, пока не расколется камень, пока в нем не появится трещина, в которую он мог бы протиснуться. Махать молотком, пока мир не треснет, открывая ему пространство, через которое он мог бы пролезть обратно в мир мысли, где его ждали дети.
Но пока он еще обдумывал это — фантазировал об этом, — его отец убрал руку и взял свой молоток.
— Ну так что же здесь такое? — сказала себе под нос Табита Хаттер, расстегивая свой ремень безопасности и выбираясь из кабины с другой стороны.
В соснах шелестел ветер. Ангелы раскачивались. Серебряные шары преломляли свет, образуя блестящие многоцветные брызги.
Лу сошел с дороги, осторожно спустился с насыпи. Он поднял голову — теперь у него был виден только подбородок, и это выглядело неплохо — и обратил свой мудрый черепаший взгляд на елочные игрушки, висевшие на ветвях. Чуть погодя он снял одно из рождественских украшений, белого ангела, дувшего в золотую трубу, положил его на камень и размозжил молотком.
Среди помех по радио пронесся мгновенный шквал обратной связи.
— Лу? — сказала Табита, обходя грузовик спереди, и Уэйн подумал, что если бы он сел за руль и завел его, то мог бы ее задавить. Он вообразил звук, с каким ее череп ударился бы о решетку, и заулыбался — эта мысль была просто восхитительна, — но потом Табита прошла дальше, в деревья. Он быстро заморгал, прогоняя это ужасное, мрачное, чудесное видение, и сам выпрыгнул из кабины.
Поднявшийся ветер ерошил ему волосы.
Лу нашел серебряное украшение, покрытое блестками, шар размером с мяч для софтбола, подбросил его в воздух и размахнулся молотком, как бейсбольной битой. Сверкающая сфера взорвалась красивым всплеском переливчатого стекла и медной проволоки.
Уэйн стоял у грузовика, наблюдая. Позади через громкий рев статики он услышал детский хор, поющий рождественскую песню. Они пели о верующих. Их голоса были далекими, но ясными и милыми.
Лу разбил керамическую елку и фарфоровую сливу, усыпанную золотыми блестками и несколькими оловянными снежинками. Он начал потеть и снял фланелевую куртку.
— Лу, — снова сказала Табита, стоя на краю насыпи. — Зачем вы это делаете?
— Потому что одна из этих игрушек принадлежит ему, — сказал Лу, кивая на Уэйна. — Вик вернула большую его часть, но мне надо и все остальное.
Ветер завывал. Деревья делали выпады. Было что-то пугающее в том, как они вдруг начинали мотаться взад-вперед. В воздухе летели сосновые иглы и увядшие листья.
— Что вы хотите, чтобы я делала? — спросила Табита.
— Самое меньшее? Не арестовывайте меня.
Он отвернулся от нее, нашел еще одну игрушку. Она разлетелась с музыкальным звоном.
Табита посмотрела на Уэйна:
— Никогда не любила ограничиваться самым меньшим. Хочешь помочь? Выглядит забавно, не так ли?
Уэйн вынужден был это признать.
Она орудовала рукояткой своего пистолета. Уэйн воспользовался камнем. Рождественский хор в машине все нарастал и ширился, пока его не заметила даже Табита, с беспокойством и недоумением оглянувшись на грузовик. Но Лу не обращал на это внимания, продолжая крушить стеклянные листья падуба и проволочные короны, и спустя некоторое время белый шум снова поднялся до рева, погребя под собой песню.
Уэйн разбивал ангелов с трубами, ангелов с арфами, ангелов с молитвенно сложенными руками. Он разбил Санта-Клауса, всех его оленей и всех его эльфов. Сначала он смеялся. Потом, спустя некоторое время, это перестало быть таким уж смешным. Немного позже у него заболели зубы. Лицо у него казалось горячим, потом холодным, потом холодным до жжения, льдисто-горячим. Он не знал, почему, почти не обдумывал это сознательно.
Он замахивался синим куском сланца, чтобы разбить керамического ягненка, когда заметил какое-то движение у верхнего края своего поля зрения, поднял голову и увидел девочку, стоявшую у развалин Дома Саней. На ней была грязная ночная рубашка — когда-то она была белой, но теперь стала по большей части цвета ржавчины от пятен запекшейся крови, — а волосы сбились в колтуны. Ее бледное красивое лицо было больным, и она беззвучно плакала. Ступни у нее были окровавлены.
— Набомаш, — прошептала она — вернее, так послышалось Уэйну. Звук был почти заглушен свистом ветра. — Набомаш. — Уэйн никогда не слыхал, как по-русски зовут на помощь, но прекрасно понимал, что она говорит.
Табита увидела, куда уставился Уэйн, повернула голову, заметила девочку.
— Боже мой, — тихо сказала она. — Лу. Лу!
Лу Кармоди посмотрел через двор на девочку, Марту Грегорскую, которая числилась пропавшей без вести с 1992 года. Ей было двенадцать, когда она исчезла из отеля в Бостоне, и теперь, двадцать лет спустя, ей тоже было двенадцать. Лу смотрел на нее без какого-либо особого удивления. Он выглядел серым и уставшим, по его обвисшим щекам струился пот.
— Мне надо найти остальное, Табби, — сказал Лу. — Ты можешь ей помочь?
Табита повернула голову и бросила на него испуганный, озадаченный взгляд. Она убрала пистолет в кобуру, повернулась и быстро пошла по палой листве.
Из куста позади Марты вышел мальчик, черноволосый мальчик десяти лет, одетый в грязный сине-красный мундир лейб-гвардейца. Глаза у Брэда МакКоли были одновременно измученными, недоуменными и испуганными; он покосился на Марту, и грудь у него стала сотрясаться от рыданий.
Уэйн покачивался на каблуках, глядя на них двоих. В его последнем сновидении на Брэде тоже был наряд лейб-гвардейца. Уэйн почувствовал головокружение, словно садился, но когда он в следующий раз качнулся на каблуках назад — и едва не упал, — отец подхватил его сзади, положив на плечо Уэйна свою массивную руку. Эти руки не вполне подходили к телу Нового Лу, заставляя его большую неуклюжую фигуру выглядеть еще более плохо сложенной.
— Эй, Уэйн, — сказал Лу. — Эй. Вытри лицо о мою рубашку, если хочешь.
— Что? — спросил Уэйн.
— Ты плачешь, малыш, — сказал Лу. Он протянул другую руку. В ней лежали керамические осколки: кусочки разбитого лунного полумесяца. — Ты уже довольно долго плачешь. По-моему, это была твоя игрушка, да?
Уэйн чувствовал, что у него конвульсивно содрогаются плечи. Он пытался ответить, но не мог выдавить ни звука из перехваченного горла. Слезы на щеках горели на холодном ветру, его самоконтроль отступил, и он уткнулся лицом в живот отца, мимолетно заскучав по старому Лу с его утешительной, медвежьей массой.
— Прости, — странным, задыхающимся голосом прошептал он. Он водил во рту языком, но больше не чувствовал своих тайных зубов… мысль, принесшая с собой такой взрыв облегчения, что ему пришлось повиснуть на отце, чтобы не упасть. — Прости. Папа. Ох, папа. Прости меня. — Он едва успевал дышать среди коротких, сотрясающих все тело рыданий.
— За что?
— Не знаю. Плачу вот. Измазал тебя соплями.
— Никто не должен извиняться за слезы, чувак, — сказал Лу.
— Меня тошнит.
— Да. Да, я знаю. Это нормально. Думаю, ты страдаешь от своей человечности.
— От этого умирают? — спросил Уэйн.
— Да, — сказал Лу. — Это в каждом случае фатально.
Уэйн кивнул.
— Хорошо. Ладно. Наверное, это хорошо.
Позади них, вдалеке, Уэйн слышал ясный, ровный, успокаивающий голос Табиты Хаттер, расспрашивавшей, как кого зовут, говорившей детям, что с ними все будет в порядке, что она о них позаботится. У него возникла мысль, что если он сейчас обернется, то увидит, может быть, дюжину из них, а остальные еще выбираются из деревьев, покидая статику. Он слышал, как некоторые из них рыдают. Человечность: это, очевидно, заразно.
— Пап, — сказал Уэйн. — Если ты не против, можем мы пропустить Рождество в этом году?
Лу сказал:
— Если Санта попытается спуститься по нашему дымоходу, я отправлю его обратно пинком под зад. Обещаю.
Уэйн рассмеялся. Это было очень похоже на рыдание. Это было нормально.
С шоссе долетел свирепый рев приближающегося мотоцикла. Уэйну пришла в голову мысль — отчаянная, ужасная мысль, — что это его мать. Все дети возвращались из состояния, похожего на смерть, и, возможно, настала ее очередь. Но это был просто какой-то чувак на дороге, решивший прокатиться на своем «Харлее». Тот пронесся мимо с оглушительным грохотом, сверкая хромом на солнце. Начинался октябрь, но в сильном, прямом свете утреннего солнца было еще тепло. Наступала осень, сразу за ней придет зима, но сейчас еще оставалось несколько погожих деньков, чтобы погонять на мотоцикле.
Начато 4 июля 2009.
Завершено во время Рождества-2011.
Джо Хилл, Эксетер, Нью-Гемпшир