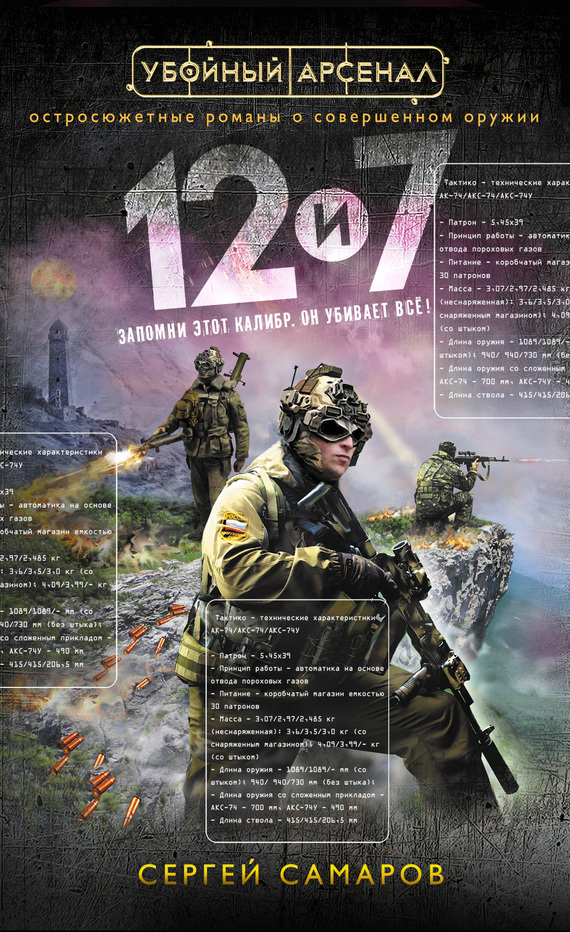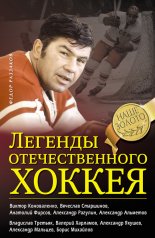Сокрытые лица Дали Сальвадор

– Джон Рэндолф, – повторил Грансай. – Нет, не знаю такого. – Затем, после краткого молчания, он обратился к Бетке: – Отчего бы тебе не пригласить его завтра на ужин? Мы с Вероникой будем рады. У нас нет и малейшего желания навязывать тебе нашу нелюдимость. Стул рядом с тобой всегда так ужасно пуст.
Вероника взяла Грансая за руку, следуя его ходу мыслей.
– И будет в этом доме полное счастье, лишь когда этот стул навечно займет созданье столь же исключительное, как Бетка.
– И столь же прекрасное – мне это чрезвычайно важно, – добавил граф с изощренной издевкой.
– Прекраснее созданья найти трудно, – сказала Бетка полушутя, вперив взгляд в Веронику, и на губах ее играла неотразимая улыбка – словно серьги ехидства повисли в уголках ее пухлых губ.
На следующий вечер Бетка и Рэндолф сократили свою прогулку и дожидались возвращения графа и Вероники с их второй вылазки в оазис, который они уже решили купить и устроить там пустынное пристанище. Вместо коктейлей Бетка сервировала у камина холодную водку и зубровку прямо с бизоновой травой в бутылке, а маленькая служанка-филиппинка подала очень острые анчоусы на поджаренном хлебе. Рэндолф спокойно пил эти жгучие жидкости, его бесстрастное лицо не выказывалои малейшего опьянения. Он был одним из тех немногих, кого не уродовал огонь. Напротив, красные блики от потрескивавших дров, казалось, добавляют ему румяной чистоты розы – и, кто знает, вдруг цельная свежесть этого цветка – самый что ни на есть огонь, хладный огонь и неистовство, соединенные в безмятежной развертке?
Бетка, совсем иная, нежели та, кого он познал в гостинице «Авенир Марло», явилась теперь его взору как создание, исполненное утонченности. На медь ее пламенеющих волос переход из юности в женство навеял пепел нескольких до времени поседевших прядей, но угли меж ними словно запылали с еще большей страстью. Ее крупный рот также, будто одухотворенный покорностью, сохранил лишь нежную ужимку остатков ее страждущей чувственности, коя, быть может, осталась столь же пылкой, как и прежде. В глазах Рэндолфа она стала плотью прозрачной, как бренди, где виднелись только плавающие ароматические травы ее прежних пороков… Он смотрел на нее и едва видел. Он видел сквозь. И сквозь нее он видел лишь Веронику и ждал ее, скованный тоской. Она прибудет с минуты на минуту! И покуда Рэндолф ждал галопа ее лошади, с настойчивостью беспокойного ребенка он все спрашивал Бетку:
– Ты уверена, что Вероника счастлива? Ты уверена, что Вероника счастлива? С этим, как его, Нодье? И кто этот Нодье?
– Сам решишь, счастлива ли она, – отвечала Бетка. – Увидишь своими глазами, если только они не ослепнут от облагороженной красоты Вероники. Но ты не имеешь права омрачать это счастье, оживляя далекие воспоминания. Я слишком люблю Веронику, чтобы такое позволить. И только при таком условии я согласилась на эту встречу.
– Я сдержу слово, – сказал Рэндолф меланхолично. – Любовью я с нею не займусь.
– Но почему бы тебе не попробовать заняться любовью со мной? – спросила Бетка. – По крайней мере одна ночь любви у нас с тобой была, верно?
– А если я скажу тебе, что и тебя люблю? – сказал он вдруг, присаживаясь на подлокотник ее кресла и обнимая ее, но взгляд его утонул во тьме за окном, а сам он явно думал о чем-то другом.
Она воздела лицо, поднесла губы к его губам и сказала со смехом:
– Я бы нисколько тебе не поверила!
– И как была бы права, – сказал Рэндолф, целуя ее между бровей с дружеской нежностью. Но после добавил: – И все же я мог бы любить тебя больше и лучше, чем при нашей первой встрече. Это все ты виновата… Ты была до смерти пьяна, помнишь?
Ее поразило, как все это походило на сон, а Рэндолф продолжил ее мысль вслух, воскликнув:
– Все больше думаю, что я – жертва моих иллюзий, непроницаемого сна. Бывает, я тяну кожу прочь с глазниц – пытаюсь открыть глаза навстречу действительности, понять, где мое место в жизни. Не так давно списки погибших официально объявили меня мертвым, но я лишь был в плену у итальянцев, а когда вернулся в Африку, обнаружил, что граф Грансай взорвал себя вместе с яхтой князя Ормини. Так вышло, что я вез графа Грансая на Мальту, перед тем как меня сбили над Калабрией. Я тут же принялся искать Сесиль Гудро, чтобы выяснить подробности, но она вернулась в Париж. Ты встречалась с графом Грансаем в Париже?
– Нет, никогда, но я знала Соланж де Кледа. Такая душка!
– Ее обожание графа Грансая стало легендой, – сказал Рэндолф.
– Похоже, граф Грансай был очень умным человеком, но холодным и безжалостным, – сказала Бетка.
– Как ни странно, у меня сложилось противоположное мнение. Он показался мне человеком большой страсти. Правда, я встречался с ним в неформальных обстоятельствах и видел лишь его глаза. Мы летели очень высоко – избегали вражеских самолетов, что могли перехватить нас над Пантеллерией, и оба были в кислородных масках…
– Едут, – сказала, вставая, Бетка. Отчетливо послышался галоп лошадей. – Ты дал мне слово, – сказала Бетка, – но поклянись еще раз, что никогда не расскажешь, кто ты!
– Торжественно обещаю, – сказал Рэндолф. – Хочу лишь перед отъездом в Европу на войну увидеть ее еще раз. Хочу потом питаться мечтой, она помогает мне жить. Но не волнуйся, душа моя уже сгорела!Вероника и граф, перед тем как переодеться, заглянули в гостиную, и Бетка их представила:
– Вероника Нодье – капитан Джон Рэндолф – лейтенант Нодье.
Вероника спустилась в гостиную, облаченная в белое муаровое платье, плотно облегавшее бедра, и в этом виде напоминала неукротимого белого жеребенка. И от ее грозного отклика на его первый жгучий взгляд Рэндолф почувствовал, как пред ним восстают стены неприступной башни. Ужин подали почти сразу, а с кофе и напитками все отправились в гостиную. Вероника и Бетка взялись играть в шахматы, а граф Грансай и Рэндолф беседовали на одну из любимейших тем Грансая – о Наполеоновских войнах; в ходе этой беседы заговорили про сочинения Стендаля и Альфреда де Виньи, и граф провел поразительные параллели между теми войнами и нынешним русско-германским конфликтом. Грансай мог, когда хотел, быть блистательным и захватывающим собеседником.
– Вы производите впечатление человека, жившего в те времена, – отметил Рэндолф.
– Вполне может быть, – отозвался Грансай. – Наполеон нередко вдохновлялся моими идеями.
Когда пришло время прощаться, Грансай сказал Рэндолфу:
– Надеюсь, вы нас более не покинете и все время, какое осталось вам до отъезда в Европу, если не боитесь постоянно быть с одними и теми же троими, мы будем счастливы ежевечерне ужинать с вами у нас.
На второй день Рэндолф стал в доме уже совсем своим. Грансай всегда нуждался в мужской компании, которая могла по достоинству оценить его рассудительный ум, и Рэндолф – молчаливый, чувствительный, изысканный – стал идеальным слушателем. Более того, граф постоянно опасался, что такая замкнутая жизнь, какую они вели втроем, могла привести к подозрениям о его подлинной личности. Этот пригожий капитан добавил их кругу обаяния естественности, и, кроме того, его присутствие дало Бетке идеальную возможность для заигрываний. Она в последнее время была противоестественно привязана к сыну, с которым вела почти отдельную жизнь, все более ревностно оберегая его от общения с Вероникой. Потому граф считал, что появление Рэндолфа в их общей жизни уравновесит все их отношения, и делал все, чтобы обаять и создать для него домашнюю обстановку. Ничто не могло порадовать Рэндолфа сильнее. Он безумно влюбился в Веронику, а ее хладность к нему лишь обострила растущую неудовлетворенность, которая в ее почти ежедневном присутствии пыткой необходимости подавлять все переживания черными волнами пессимизма накатывала на берега исступления, усыпая бурлящие воды мечты его жизни фосфором желания.
Вероника с ним почти не разговаривала, но если взгляды их встречались, она вела себя так, словно обижалась и желала дать ему понять, что его долг – быть нежным с Беткой. Верность Вероники Грансаю была такой полной, что чье бы то ни было восхищение смущало ее. Даже Беткино обожание, казалось, лишает ее исключительности, а та была сутью ее натуры.
– Устраивает ли тебя мое поведение? – спросил Рэндолф Бетку на четвертый день. – Видишь, я держу слово.
– Ничего подобного, – сурово ответила Бетка. – Ты пялишься на нее так, будто хочешь сожрать. Но я не возьмусь тебя отговаривать. Она умеет так глядеть на мужчину, что он довольно скоро понимает – не так уж он и неотразим. А теперь скажи мне честно – у меня тоже есть к тебе вопрос: счастлива ли Вероника?
– Сказать не могу, – ответил Рэндолф, – но одно несомненно: она преклоняется перед Нодье, и, вынужден признать, в нем есть самое поразительное – единственный в своем роде ум… И сам он – загадка. Даю слово, что не намерен встревать меж ними. Кроме того, у меня и не выйдет, как бы ни пытался, – произнес он с полным унынием и добавил: – Вот бы только Вероника перестала смотреть на меня с такой жесткостью и осуждением, вот бы выказала хоть чуть-чуть дружественности и тепла!
– Она дает тебе лишь то, чего ты заслуживаешь. Прекрати желать ее, попытайся быть внимательнее ко мне. Когда уедешь, будешь по мне скучать. Кроме того, со мной не так-то все просто. Я более не полисексуальна – кажется, так ты это называл. В моей жизни есть всего двое: Вероника и мой сын – ну и чуть-чуть тебя.
– Чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше? – спросил Рэндолф.
– Чуть-чуть больше – но никаких глупостей ты меня делать уже не вынудишь.
– У меня на нас с тобой есть планы получше глупостей, – загадочно ответил Рэндолф.В доме Нодье – графа Грансая – время текло мирно и однообразно. Рэндолф теперь пребывал здесь постоянно, ездил с ними в оазис, и вечерами Вероника иногда затевала с ним одну партию в шахматы и почти всегда выигрывала, а затем немедленно отправлялась наверх спать – прежде Грансая, любившего затягивать беседы с Рэндолфом и Беткой, временами до трех ночи, и тогда они принимали по последнему скотчу, «на сон грядущий».
Но вот уж два дня граф Грансай не спускался в столовую, не ездил проверять работы по постройке башни в оазисе. Он погрузился в новое чтение и сам говорил, что в таких случаях он столь же одержим бешенством, что и пес с костью, и может покусать любого, кто его потревожит. Но на сей раз у него были иные причины, нежели пресловутая страсть к уединению. Вновь, еще более безошибочно, чем раньше, ощущал он припадки удушливого трепета и другие недвусмысленные симптомы зарождающейся болезни сердца. Ни за что на свете не стал бы он советоваться с врачом, ибо считал, что для самолечения достаточно и его медицинских знаний. Кроме того, не физическое состояние беспокоило его сильнее всего. В последние несколько дней он вдруг пал жертвой внезапных устрашающих головных болей, что будто штопором пронзали ему затылок, и боли эти сопровождались целой вереницей странных психологических явлений, смутных, но вполне узнаваемых, – и он понимал, что с этим никакой врач ему нисколько не поможет.
Недавно вновь об этом задумавшись, он совершенно понял, что с ним не так. Все произрастало из одного источника: его неутоленной страсти к Соланж де Кледа, и она рано или поздно доберется до самого его рассудка.
Наконец прибыло письмо от Соланж. Он уж начал отчаиваться получить ответ. Однако письмо не только не принесло облегчения, но вызвало в нем еще большую одержимость, усилило болезненную тягу к уединению. Мысль о том, чтобы пойти вниз и поболтать с Вероникой, Беткой и Рэндолфом, теперь казалась едва ли не выше его сил.
«Рэндолф развлекает их, – говорил он себе, – а я и впрямь болен».
И так он проводил день за днем и все не мог решиться сойти вниз. Он целый день размышлял над ответом Соланж и примерно в половине пятого следующего утра, более не способный спать, выбрался из постели и написал:Моя прекрасная, лелеемая, обожаемая Соланж,
Чему еще могу я посвятить остаток своей жизни, если не постоянному повторению, всякий раз с новым оттенком чувства, что любовь моя даже больше моей благодарности, коя по всей справедливости должна теперь уже быть безгранична, ибо Вы не только выразили готовность уделить мне гран своего уважения, о коем я дерзнул просить Вас, но и продолжать благодетельствовать меня своей страстью. Ибо не получи я ответа на свое письмо, моя благодарность, быть может, и уменьшилась бы, но любовь – никогда, она постоянно усиливается. Ныне, хоть эта благодарность и из высших, она тем не менее далека еще от высот моей к Вам любви, и таким недосягаемым это чувство останется навсегда и по сравнению со всеми остальными, включая жалость! Попытки общаться в моих несчастных любовных письмах с Вашим сердцем неловки и бессильны. Но с каждым уходящим днем и вопреки расстоянию мне кажется все отчетливее, что мои беспрестанные сны о Вас не могут не достичь Вашего духа и не завладеть Вашими снами. Магия науки об инкубах и суккубах, коей я посвятил все возможности своего ума, дабы приблизиться к Вашему духу, есть не что иное как древнеегипетское знание о снах, наука подлинного, осязаемого претворения сновидческих желаний из плоти и крови, кои покрывают сердце «удушающей тканью»… и обездвиживают его. Время от времени и вполне вне власти моей воли я чувствую, как объединенные силы моего потаеннейшего существа сосредоточиваются у меня в мозгу и вызывают кошмарные головные боли, сопровождающиеся кровотечением из ушей, будто я, не двигаясь с места, оказался подвержен необычайному атмосферному давлению. Симптомы эти множатся, и я начинаю воспринимать все образы с невероятной зрительной остротой, тогда как область вокруг глазниц принимается болеть, словно их погрузили в кипящую воду. И вот наконец я вижу Вас так ясно, будто Вы стоите прямо передо мной.
Я вижу Вас в мгновенных вспышках, всегда где-то на улице, освещенной ярким зимним солнцем, и эти образы еще яснее, если в миг их возникновения я нажимаю на сомкнутые веки носовым платком. Вижу, как Вы идете оврагом в ярко-красном платье вдоль молодых посадок, а с вами двое братьев Мартан. Вижу, как Вы склоняетесь открыть деревянную калитку, что ведет к дороге на задах, у прачечных. Титан приглядывает за Вами, он неподвижен, и один из медных шипов у него на ошейнике внезапно вспыхивает, как сигнальный огонь. Каждый из этих образов сопровожден дорогими голосами, они говорят с Вами почтительно – это Пьер Жирардан, коего я считаю Вашим ангелом-хранителем. Хоть и из камня сердце мое, я низвергаюсь до слез этой вспышкой медного шипа, потому что он – на ошейнике собаки, что смотрит на Вас, – и слезы эти жгут мне глаза еще сильнее, ибо мучимы виденьем Вас. И всегда в конце этого сеанса наважденья я вижу Вас в одном и том же образе – и он для меня самый тревожный: лицо Ваше сводит судорога странного выражения исступления, и оно – не одно лишь удовольствие, но смешано с тоской и смертным ужасом, кой, я уверен, присущ лишь моему духу, трепещущему от мысли о потере Вас, безотрадный страх одного лишь моего проклятья, свирепо отнимающий у меня наслажденье, какое Вы, благороднейшая из дам, могли бы великодушно предложить мне. Моя возлюбленная Соланж Французская, губы-жасмин, мое милое, хрупкое, юное древо, я чувствую каждый Ваш свежий листок, что растут и колются на генеалогическом древе моих вен. Если б могли мы хотя бы родить вместе сына! Мысли мои – руки мои, коронующие Ваше чело, память моя – мой рот на Вашем, мое желанье – ткани Ваших внутренностей, моя нежность – мои объятья! Целую Вас всю и жить буду лишь ожиданьем Вашего ответа.Ваш
Эрве де Грансай
В последующие дни Грансай упорно не покидал своего уединения, и Вероника и ее друзья уже начали беспокоиться. Тем не менее Вероника ежеутренне получала от мужа пару нацарапанных от руки слов, всегда с какой-нибудь милой неожиданной мыслью на тему их любви, и эти слова помогали ей прожить остаток дня и смиренно дождаться следующего. Каждый вечер партию в шахматы между Вероникой и Рэндолфом разыгрывали будто два призрака. И видя их, таких тихих, так близко, лицом друг к другу, головы склонены над доской, будто сидячая пара с картины «Ангелус» Милле, Бетка с трудом верила, что эта простая сцена – подлинная часть действительности. Ибо Рэндолф, высокий, меланхоличный, привычный взрывать самолеты, летать под ливнем пепла и прошивать пылающие тучи, ныне трепетал от сдерживаемой страсти, от мученического желания, и сердце ее, бессильное пред той, коя, не зная того, – пусть даже и сам он не знал – упрямо отвергало его в точности затем, чтобы сохранять ему верность!
Вероника любила Грансая, посвящая ему всю свою жизнь, исключительно из верности своей исступленной памяти о человеке с сокрытым лицом, из глубин подвала в доме на набережной Ювелиров; и вот этот человек, которого она так долго и так смертельно ждала, был здесь, сидел напротив, настоящий, – и в точности потому, что был он зрим, она его не видела! Оба – как пешки пред друг другом, разделенные, не способные ни двинуться вперед, ни отступить, и столь же далекие, как две звезды, что будто бы соприкасаются. Но то другая игра, и королевой и конем Вероника объявила:
– Шах и мат! – после чего отправилась спать. Проходя мимо двери графа Грансая, она остановилась и на миг замерла. Над дверью сочился свет – значит, граф не спал. Она не осмелилась постучать.
«Любопытно, – внезапно подумалось ей, – лицо Рэндолфа покрыто очень тонкими, почти невидимыми шрамами. Довольно привлекательно, но почему они мне вдруг кажутся странными?» Она закрылась у себя в комнате и боьше об этом не думала.
Несколько недель подряд Рэндолф почти каждый день проводил в присутствии Вероники по нескольку часов. Его отпуск заканчивался, вскоре ему предстояло вернуться в Европу, а он ни разу не обмолвился о своих чувствах. Происходила лишь все та же упорная и безжалостная битва взглядов. И вот уж, когда время прощания надвинулось на них, Рэндолф приметил изменения в лице Вероники – взгляд если не принятия, то, по крайней мере, уступки. Что это: привычка или снисхождение в свете его близкого отбытия? Вероятно, и то, и другое, и первая догадка расстраивала его так же, как и вторая. Тем не менее, недостаток милосердной мягкости в Вероникиных беспощадных глазах уже так подавлял его, что он едва не болел. Как мог он решиться покинуть ее, быть может, навсегда, даже не попытавшись добиться от нее хотя бы одного страстного взгляда, который мог бы потом в своем сердце нести в небеса войны, как щит своим крыльям? Его отпуск усыхал, как знаменитая шагреневая кожа у Бальзака, и он суеверно думал, что, если попытается ухватить малейшее удовольствие превыше того, что ему строго полагается, если не смолчит пред лицом Вероники – счастье видеть ее, ставшее единственной причиной его бытия, закончится до срока.
Как-то вечером Вероника и Рэндолф сидели на песке у оазиса и смотрели на почти достроенную башню. Они были одни. Бетка прогуливалась верхом где-то неподалеку, катала сына. Канонисса, все время после обеда складывавшая постельное белье, уехала полчаса назад в подсобном грузовике, и рабочие, завершившие дневные труды, тоже уже разошлись.
Теперь, когда Вероника сидела среди просторов настоящей пустыни под бескрайним небом, уже нельзя было (как некогда в Париже) сравнить ее взгляд с сушью пустыни и прозрачностью лазурных небес, ибо глаза ее были пустее и безбрежнее этих двух стихий, вместе взятых. У Вероники были прозрачные очи «неутоленной тяги к материнству». Она чуть откинула голову – чувствовать вес волос, плещущих на ветру – и все ее тело отрылось ему, как некие цветы, что опыляются таким манером. Сидя в этой позе, она недооценивала мощь вызова, что представляли изгибы ее тела. Рэндолф опустил голову поближе к ее волосам и сквозь их завесу впился глазами в ее голое колено, кое видел он как Евино яблоко и как череп Йорика. Не в силах более сдерживаться, не сводя глаз с этого места, он заговорил:
– Лишь потому, что знаешь: война вскоре призовет меня к себе, – ты не удостоишь меня наказания за то, что я во всякое время не могу молча не боготворить тебя. Лишь недавно ты начала относиться ко мне с проблеском дружественности. Я никогда не давил на жалость. Но ты все время делала меня несчастным!
– Ты не прав, Джон, – спокойно ответила Вероника, не меняя позы. После долгого молчания она обвила шею Рэндолфа рукой. – Ты понравился мне в первый же миг знакомства, – продолжила она, – гораздо больше, чем я могла бы подумать. Вот несколько дней назад я это поняла. Никто на моем месте не стал бы говорить с тобой столь откровенно, как я сейчас. Ты должен быть достоин откровенности, которую я выказываю тебе, говоря все это, но послушай…
Рэндолф замер, будто парализованный. Мучительно сглатывая слюну, он опустил голову еще ниже, однако перенаправил взгляд, и садящееся солнце уже отбрасывало тень от кончика уха Рэндолфа на обнаженное колено Вероники.
– Да, слушай меня, Джон: хоть я и имею к тебе очень сильное чувство, Жюль для меня – всё, и я буду совершенно верна ему до самой смерти.
– Ты страшно себе противоречишь, – сказал Рэндолф.
– Нет, я всего лишь следую своей природе и своей судьбе. Связывающее нас с Жюлем много выше любых чувств, какие можно выразить. Не только ему я верна – в этом гораздо больше. Через него и свыше него я боготворю далекий образ, и образ этот возвел мою любовь в приделы абсолюта.
– И что это за образ? – спросил Рэндолф.
– Тебе не понять, – ответила Вероника, – и о вещах исключительных для человека говорить нельзя.
– Ты предаешь себя словами, – воскликнул Рэндолф и добавил вполголоса: – Сначала я поверил, что ты с Нодье счастлива. Но теперь знаю, что нет! – Он проговорил последние слова с неистовством и прижался щекой к Вероникиной голове.
– Я счастливейшая из женщин, – возразила Вероника, – хотя бы потому, что должна делить истерзанную жизнь с тем, кто мне дороже всех на свете. Отпусти руку, не стискивай так. Если и была я откровенна, то не для того, чтобы ты воспользовался этим и испортил нашу иллюзию!
Рэндолф выпустил Веронику из начавшегося было пылкого объятия, и теперь тень его уха падала в точности на середину Вероникиного колена.
– Позволь мне, – сказал он, – хотя бы тенью своей ласкать тебя?
С этими словами он опустил голову так, чтобы тень его уха скользнула вдоль Вероникиной ноги, затем медленно-медленно повел ее вверх, вновь до самого колена. Там он замер на миг, а потом еще медленнее начал двигаться выше, посягая на белейшую плоть ее бедра, до самого края юбки.
– Твоя жизнь – пустыня! – воскликнул он раздраженно. – Нодье никогда не подарит тебе ребенка, которого ты жаждешь. Я все знаю, вы – будто те бредящие существа, гибнущие от жажды, что набивают рты жгучим песком, не догадываясь, что в одном локте от них течет ручей пресной воды, могущий их спасти.
– И ты – тот самый ручей? – уточнила Вероника с издевкой, откинув голову и глядя на него в упор.
– Дай мне свой рот, – приказал Рэндолф, заключая ее в объятия и срывая буйный поцелуй.
Вероника дала себя поцеловать, но на поцелуй не ответила, после чего встала.
– Ты утолил свой мелкий зуд. Теперь оставь меня.
– Я отчаянно жду от тебя хоть малой мягкости, – сказал Рэндолф и тоже поднялся на ноги. – Но теперь получу лишь презрение. Я знаю, что все испортил, позволив своим чувствам одержать надо мной верх. Уеду нынче же вечером.
– Нет нужды, – сказала Вероника чудовищно отстраненным ледяным тоном. – Завтра утром мы с Жюлем переезжаем в башню. Твой долг – остаться с Беткой чуть дольше, чтобы хотя бы соблюсти приличия. Но никогда больше не жди от меня дружеского или нежного взгляда, и уж тем более – чего-то большего, о чем я имела глупость тебе рассказать. Ты того не заслуживаешь. – Вероника села на коня и сразу пустила его галопом.
Грансай спустился из своей комнаты – впервые за две недели. Он заключил Веронику в долгие объятия.
– Сегодня, – сказала она, – я останусь в своей комнате!
– Я составлю тебе компанию, – сказал он. – У меня столько всего есть тебе рассказать. Я будто вернулся из долгого странствия.
– Для меня то была вечность, – вздохнула Вероника, – подлинная пустыня!
– А завтра у нас оазис, – отозвался граф и смахнул губами слезу, сбежавшую по щеке жены.
На следующее утро перед их отъездом Бетка зашла к Веронике попрощаться.
– Джон мне все рассказал – что произошло между вами вчера вечером. Он совершенно несчастен и хочет, чтобы я попросила тебя дать ему возможность молить о прощении.
– Я больше не желаю его видеть, – сказала Вероника. – Прощаю его. И, кстати, целуется он, как ребенок! Это даже нельзя считать грехом.
Бетка несколько обиделась на такую оценку соблазнительской мощи Рэндолфа.
– Ты меня удивляешь, – заметила она. – Говоришь так, будто это целый ящик зелена винограда.
Вероника сделала вид, что не заметила дерзости, по обыкновению обняла подругу и уехала.
В башне в оазисе их воображаемое Новообретение Рая началось скверно. Впервые за время их брака Вероника стала отстраненной и вялой в присутствии мужа; была рассеяна, отвечала, не слушая, и всякий раз, наполняя птичьи кормушки, роняла просо на пол.
– Ты здесь счастлива ли? – спросил ее граф в завершение их ужина третьего дня.
– Конечно, я совершенно довольна! – ответила Вероника.
– Будь откровенна, – не отставал Грансай. – Ты ведешь себя так, будто тебе кого-то недостает.
При этих словах никогда не красневшая Вероника залилась краской так, что от прилива крови к ее обычно бледному лицу заплакала от чистого стыда, а лоб ее и кожу вокруг губ усыпало страдальческим потом. Грудь ее исполнилась отвращением – так сильно она ыдала свои чувства, так вышла из себя.
– Не вздумай и предполагать, – воскликнула она, предвосхищая подозрения, над которыми, как ей подумалось, размышляет Грансай. – Между мной и Джоном ничего нет!
– Не следовало тебя спрашивать, – ответил Грансай, подошел к ней и попытался обнять. Но Вероника, вдруг раздраженно, увернулась от его рук, поднялась на пару ступеней, что отделяли от двери в башню, где находилась их комната, и, прежде чем удалиться, обернулась к Грансаю.
– И все же есть некто, кого нам недостает, – сказала она, и в голосе ее слышалась ненависть. – Наш сын! – И с этими словами она бесшумно закрыла за собой дверь.
В этот миг появилась канонисса с птичьей клеткой в руках, и Грансай повернулся к ней.
– Ты слышала это, добрая моя канонисса? – сказал он. – Ты тоже меня этим попрекаешь, верно? Что у меня нет сына, но ты, я знаю, хотела бы, чтоб он был от Соланж де Кледа!
– Лишь бы мальчик, а от кого – мне все равно, хоть бы и от дьявола!
Канонисса сдула с кормушек, заполненных просом, шелуху – но так сильно, что прямо себе в лицо, и та попала ей в правый глаз, который вечно слезился. Она поставила клетку на стол и уголком фартука попыталась вытащить сор.
– От дьявола, – мечтательно повторил Грансай. – Быть может, только от него я бы и мог. Седлай моего черного коня – хочу кататься. Сейчас не усну.
Когда он уехал, канонисса вновь взялась за клетку.
– Белую плоть ему надо седлать, – сказала она, – но по закону божию и в согласии с его заповедями.
На следующий вечер между Вероникой и Грансаем произошла еще худшая сцена, чем накануне. Граф, видимо, повел себя свирепо: Вероника, когда оба они вышли из комнаты в башне, сказала ему:
– Отныне я не хочу тебя в этой комнате. Она когда-то наполняла меня большими надеждами, а теперь – сплошное разочарование. После сегодняшнего эта комната посвящается моему уединению. Ты сто раз просил моего прощения. Так вот, я прощаю тебя, но с одним условием: отдай мне ключ! Я желаю ключ от этой комнаты, ибо теперь это комната моей печали, и у тебя нет больше права входить сюда, ни под каким предлогом. Ты должен чтить это уединение, когда бы оно меня ни призвало или я ни призывала его. У тебя есть тайна, кою ты хранил в сердце, – и я мирилась с ней. Но ты к тому же запер дверь в нашу комнату без моего разрешения. Хорошо же! Я никогда не говорила тебе, что у меня, в свою очередь, нет тайн. Я стану подозрительной – как ты!
– Я не стану ходить в твою комнату, раз таково твое желанье. Обещаю, – сказал Грансай, ушел к камину и уселся перед ним. Миг спустя она уже была рядом. Положила руку поверх его. – Спасибо, дорогая моя, – сказал Грансай, сжимая ей руку.
Вошла канонисса, принесла мехи и коробок великанских спичек. Опустилась на четвереньки и взялась разводить огонь. Она по-деревенски сложила кострище, и два здоровенных полена тут же весело затрещали, но вскоре из каминной трубы повалил вниз густой дым.
– Все потому, что труба не прогрелась, – сказала канонисса, обливаясь слезами из раздраженных покрасневших глаз. Она добавила стружек, раздула огонь мехами, и вот уж пламя, объяв два полена, вскинулось ввысь. Но внезапно, словно порывом ветра вдутый внутрь, еще более густой клуб дыма проник в комнату. Грансай встал, кашляя, и пошел открывать окно.
– Дымоход явно забит, – сказал он, – придется завтра вызвать каменщика, пусть починит.
– Оставьте, – сказала канониссе Вероника, – не загорится. Подождем до завтра.
На следующий день каменщик проверил дымоход, но сказал, что все в порядке и он ничем не забит. Тем не менее он велел работнику забраться внутрь и установить маленький вращающийся оловянный клапан наверху – от воздушного противотока.
– Совершенно точно это ветер, – сказал работник канониссе, – но я поставил маленькую крышку, и теперь уж точно не будет никаких бед с дымом.
Работники ушли. Но вечером, когда канонисса вновь встала на четвереньки перед огнем, громадные клубы дыма опять повалили в комнату.
– А сегодня ни ветерка, – вздохнула канонисса в полной растерянности, выпрямилась во весь рост, уперла руки в бока и воскликнула: – Похоже, это злая сила колдовства.
Колдовство или нет, но, как ни диковинно, факт: несмотря на советы и усовершенствования каменщиков, к концу недели камин в большой библиотеке рядом с Вероникиной комнатой в башне работал не лучше, чем в первый день.
Примерно в половине двенадцатого вечера граф Грансай и Вероника, сидя перед погашенным камином, доигрывали партию в шахматы. Вероника только что взялась за черного коня розово-голубоватым пинцетом длинных своих пальцев и, в глубокой задумчивости медленно подняв его над доской, вдруг замерла. Повернула голову к двери на веранду – та внезапно открылась. На пороге стоял старый ковбой, одетый нищенски, над ртом нависали седые усы, глаза дымного цвета, вся кожа в морщинах, как у индейца, шляпа почтительно прижата к груди, в другой руке – суковатая палка. На конце палки висел узелок из очень чистого белого платка.
Грансай и Вероника воззрились на него вопросительно, и человек наконец заговорил будто издалека, очень нежно:
– Я дымник! Я пришел издалека и всегда странствую пешком.
– Ты – кто? – переспросил Грансай, не уверенный, что расслышал верно.
– Дымник, – повторила Вероника так, будто ей это было естественнее.
Грансай встал и усадил гостя, закрыв дверь, которую тот беспечно оставил распахнутой.
– Я пришел так, потому что слуги не пустили бы меня. Я слыхал в деревне, что у вас камин не работает. – Он бросил угрожающий взгляд на холодный камин, и в глубинах туманного дыма его глаз словно затлели искры костра – в самой середине зрачков. – Я дымник, я изгоняю дым из каминов, когда никто другой не может. Я знаю ветра в этой округе. Мой старик-отец умер в этом самом оазисе. У него тут была хижина, и я здесь жил до своих тринадцати лет. Он меня всему научил. Он разводил в пустыне костры, и от него я узнал, как наблюдать за дымом, за влажностью и надземными ветрами – за вихрями неблагоприятных лун, горячими порывами ветра на закате и полночными росами – они гнут дым книзу, – и как поймать сильную тягу, чтоб тянула его прямо к небу.
Внезапно Вероника и Грансай почувствовали, что вся их надежда – в этом дымнике, словно сошедшем с небес, и они призвали канониссу, чтоб принесла ему стаканчик хереса.
– Мил человек, – сказал Грансай, – можешь начинать свои эксперименты с нашим камином когда захочешь. Каменщики уже попробовали и исчерпали свои запасы знания, но все без толку. Я почти уверен, что это все из-за некой непостижимой климатической аномалии этого места. Сам я уже размышлял о сгущении влаги, что может возникнуть в таком маленьком оазисе, окруженном отражающей каменистой пустыней и валунами, что держат тепло до глубокой ночи.
Дымник благосклонно кивал головой и улыбался так, будто Грансай был не ближе к истине, чем прочие смертные.
– Начну работу завтра – но при одном условии, – сказал дымник, – и вот оно какое: господин не должен мне ничего, ни цента, в случае, если я не преуспею полностью. Цемент, камни, железо, инструменты – все за мой счет. Ем я мало, сплю где придется. Хочу показать этим, в деревне, кто надо мной потешается! Когда не будет у вас тут никакого дыма, наградите меня, как сочтете нужным, и я останусь доволен.Пошла вторая неделя с тех пор, как дымник взялся за труды, но он все еще безуспешно боролся с упрямым дымом в библиотечном камине. Ничто, ничто, ничто не помогало!
– Жалко беднягу, – поведала канонисса графу. – Я за ним смотрела. Он с каждым днем все худее. Ничего больше не ест, совсем не спит, но еще хуже – тратит все свои чахлые сбереженья на воронки, трубы, проволоку – и, говорю вам, не выйдет у него прогнать этот клятый дым из дымохода!
– Пусть еще пару дней поработает. Он уже произвел столько разрушений, что еще немного ничего не изменит. Вознаградим его за работу в любом случае. Можно было предположить, что он слегка не в себе.
– Но как ни крути, – ответила канонисса, – другим ведь тоже от дыма не удалось избавиться.
Дымник то впадал в исступление, почти в восторженную надежду, то в безволие отчаяния, после чего вновь ввергался в безумие каким-нибудь замыслом, от которого не спал всю ночь. С утра пораньше, иногда на рассвете, он уже брался за работу, являясь груженым разнородными предметами, которые заказывал в деревенской мастерской, городил маленькие дополнительные дымоходы в самом камине, будто пытаясь довести дым до крыши ступенчато и так изгнать его окончательно, раз и навсегда, в открытое небо. Эта клятая тяга! Ну на сей-то раз точно получится – без ошибки. Он падал перед камином на четвереньки – развести огонь, и руки у него тряслись, как у эпилептика, он мял газеты, чиркал спичками, обжигая пальцы. Огонь занимался вихрями пламени, победно возносился, будто втянутый мощным сифоном. Сердце дымника билось, свирепо стуча в стариковскую грудь, и он задерживал дыхание в тревожном предвкушении. Да! На этот раз сработало… Но нет! Внезапно отвратительный клуб серого, густого дыма – как и во все прошлые разы – возвращался и плевал ему в лицо, и слезы бездонной горечи усиливали жжение в его прокопченных дымом глазах.
И вот наконец однажды вечером Вероника и Грансай на цыпочках вошли в библиотеку, за ними – канонисса: ей тоже хотелось пошпионить. Комнату затапливал никогда не выветривавшийся теперь мягкий, очень тонкий серый дым, будто чистая вода, затуманенная анисовой настойкой. Но в камине дым был плотнее, и сквозь него едва виднелись контуры ног дымника, от колен и ниже, – он стоял в каминной трубе. От неудовольствия и раздражения он, будто норовистая лошадь, притопывал левой ногой, а очаг был завален полувыгоревшими угольями и обрывками жженой газеты. Внезапно дымник выбрался из камина и разочарованно встал перед ним, опустив руки, с лицом трагической греческой маски. Граф, Вероника и канонисса, чтобы их не заметили, спрятались в коридоре.
– Я с ним поговорю, – сказал граф, входя в библиотеку и закрывая за собой дверь.
За ужином Грансай объяснил Веронике ситуацию:
– Дымник расплакался, как дитя, и умолял меня на коленях дать ему еще одну, последнюю возможность произвести завершающий эксперимент.
– Ну пусть уж, бедный, – сказала Вероника.
– Но беда в том, что он просит невозможного, – возразил Грансай.
– Чего же он хочет? – спросила Вероника с нежной улыбкой.
– Он говорит, что ему надо проделать дыру в потолке твоей комнаты – это единственный способ.
Вероника долго размышляла над таким поворотом дел. Затем, взяв графа за руку, сказала мягко, пряча обиду:
– Быть может, это и есть решение, ибо теперь уж дым заполнил наши сердца и под ударом – факел нашей любви, он может погаснуть.
– Я бы предложил уехать отсюда и вернуться в Палм-Спрингз, – сказал Грансай.
– Уедем послезавтра, – решила Вероника, – после того, как дымник проделает потребную ему дыру.
Они призвали дымника и канониссу, и Вероника раздала указания:
– Вынесите большую кровать из моей комнаты в башне, а также шторы и белый пуховый ковер, – и добавила, обращаясь к Грансаю: – Не хочу ничего оставлять, кроме четырех зеркальных стен и мраморного пола. Пусть дымник проделает дыру в потолке, раз так хочет. После этого дом будет заперт, и мы вернемся в Палм-Спрингз. Кроме того, тут стены слишком новые, и везде сыро.
К следующему вечеру в углу на потолке и в каминной стене возникла дыра. Если эксперимент удастся, потребуется лишь установить постоянный дымоход, а его можно оштукатурить и сделать относительно неприметным. Но и этот эксперимент провалился, как все предыдущие, и на сей раз – куда более зрелищно, чем раньше. После того, как огонь несколько минут потрещал в очаге и ровно в тот миг, когда камин принялся изрыгать в библиотеку дым, как и во всех прежних случаях, Вероникина комната вдруг загорелась. Дыра в потолке плюнула последовательно несколькими снопами искр, их подняло сквозняком, а вместе с ними – и целые куски горящей стружки. Все эти горящие угли, недолго покружившись в воздухе и отразившись до бесконечности в четырех зеркальных стенах, наконец тихо осели на плитках, где медленно умерли один за другим.
– Так или иначе, – сказал Грансай, – в части фейерверков лучше не бывает. Где дымник?
– Хочет уйти, – ответила канонисса. – Вон его узелок, в кресле, уже увязан в платок и надет на палку.
– Сделайте ему на кухне первоклассный ужин, – приказала Вероника, – и мы с ним потом повидаемся.
Они с графом отправились в столовую, где собрались в последний раз отужинать. Когда канонисса вернулась, Вероника справилась, все ли благополучно.
– Я ему накрыла на стол. Все у него есть – прямо пир горой: фаршированная индейка, бутылка французского вина, десерт, но он сидит перед тарелкой и ничего не ест.
– Идите присмотрите, – встревоженно сказала Вероника.
Через несколько мгновений они услышали канониссин вопль изумления. Оба бросились на кухню. Еда стояла на столе нетронутой. Дымник исчез, ни к чему не притронувшись. Они выскочили наружу и звали его, но без толку. Канониссе показалось, что она различила его белый узелок на палке, но то был дорожный знак.
– Он старый, но я видала его несколько раз, когда он спешил. Бегать умеет, как кролик.
Наутро, прежде чем оставить оазис навсегда, Вероника заглянула к себе в комнату в башне. Потолок вокруг дыры почернел от дыма, а мраморный пол весь усыпало пеплом. Она заперла дверь, а ключ оставила себе.
Стоило им вновь осесть в Палм-Спрингз, как Грансай, едва скрывая вспыльчивость, вновь уединился у себя в комнате, ссылаясь на постоянные головные боли.
Вероника стояла перед зажженным в гостиной огнем и смотрела на себя в зеркало, висевшее над камином. Задумчиво, с глубокой складкой меланхолии между бровей, с яблоком в одной руке и ножом в другой, она словно никак не могла решиться взрезать фрукт. Мысли так ее поглотили, что она видела в зеркале приближающуюся к ней фигуру – и почти не замечала ее. То был Джон Рэндолф. Когда она осознала наконец его присутствие, он уже был рядом. Несколько секунд ее обуревало странное ощущение. «Я уже переживала подобное!» Вероника обернулась к нему, и Рэндолф опустил голову, словно от стыда, а Вероника инстинктивно вскинула руки к шее. Они замерли друг к другу лицом, как два знака тоски.
– Хочу просить у тебя одолжения, – проговорил, задыхаясь, Рэндолф. – Подари мне один час. Я все объясню. Завтра мой последний день! Я ждал с этой просьбой две горчайшие недели моей жизни!
– Я тоже хочу, – сказала Вероника.
– Где и когда? – порывисто спросил Рэндолф, стоя так близко, что мог, не перенося веса, поцеловать ее в кулаки – она держала их так, будто хваталась за что-то у подбородка.
– Сегодня вечером в пять, в оазисе, в моей пустой комнате в башне!
Около пяти вечера Вероника и Рэндолф добрались до оазиса верхом, разными дорогами, и встретились будто случайно. Вероника приехала первой. Подбежала к Рэндолфу.
– Ты видел? – сказала она, – За нами кто-то следит. Едет сюда.
– Да, я заметил, – сказал Рэндолф, спешиваясь и вглядываясь вдаль, следя за движением лошади и ее наездника. – Думаю, может, Бетка. Лишь она знает о нашей встрече – я вынужден был ей сказать, чтобы она предупредила нас, если твоему супругу придет в голову сюда прокатиться.
– Но это не женщина – это мужская фигура, – откликнулась Вероника. – Сердце мне подсказывает, что это Жюль! Не надо было ничего говорить Бетке!
– Ты же доверяешь ей, верно?
– Пока нет, – ответила Вероника, прикрывая ладонями глаза от солнца, а сама все смотрела на приближающегося ездока.
– Мне уехать? – спросил Рэндолф.
– Нет! Он в любом случае увидит, как ты выезжаешь из оазиса. Уведи коней и запри их в стойле, потом поднимайся в мою комнату в башне. Там я в своих владениях – он обещал мне никогда не нарушать этих границ. Если постучится – нарушит слово.
Рэндолф вернулся быстро, но время его отсутствия показалось ей веком. Когда он подошел, она сказала:
– Больше сомнений нет. Это Жюль, он несется сюда. Бетка нас предала.
– Да, это он, – сказал Рэндолф, выглядывая в окно. – Давай не останемся здесь. Пусть он увидит нас снаружи, у пруда.
– Нет! – воскликнула Вероника в ярости. – Мы будем здесь, в моей комнате. – Она подошла к двери, заперла ее и вернулась к окну.
– В таком случае позволь мне объясниться, – взмолился Рэндолф.
– Я ничего сейчас не желаю от тебя слышать, – раздраженно сказала Вероника. – Ты вынудил меня совершить нечто неправильное! Я впервые неправильно с ним поступаю!
Сжав обеими руками горло, она расхаживала по комнате взад-вперед, как затравленное животное, и в то же время гордая, как королева.
– Зачем ты пришел в мою жизнь? Это называется отвагой? Надо было иметь достоинство и держать свои чувства сокрытыми. Мы с Жюлем – существа абсолюта. Несчастья, что ты навлек на наши головы, тоже будут абсолютны. Так вот они какие – существа, парящие на крыльях? Еще увидишь, как я буду тебя ненавидеть!
– Мне проще поджечь все небо, чем загасить огонь в своем сердце! – ответил Рэндолф.
– Молчи! Он приехал, – приказала Вероника, задержав дыхание в мучительном ожидании.
Нодье спокойно слез с лошади и привязал ее к кольцу в стене. Стремительно преодолел несколько ступеней, ведших к маленькой боковой калитке в сад, и оттуда вошел в библиотеку рядом с комнатой Вероники. Направился прямо к камину, и Вероника, услыхав, как задвигалась подставка для дров, тут же поняла их с Рэндолфом положение.
– Если он разведет огонь, мы пропали! – воскликнула она вполголоса, поглядывая на дыру в потолке.
Хоть Рэндолф и не понял, что Вероника имеет в виду, но, защищая, притянул ее к себе.
– Что бы ни случилось, – сказала она, жестко вглядываясь в глубину его глаз, – не кричи!
Грансай развел огонь и бросил в него пачку документов, которые желал уничтожить. Почти тут же дыра в потолке в Вероникиной комнате изрыгнула вихрь искр. Затем, как и прошлой ночью, яростная тяга в камине разогнала куски горящей стружки по всей комнате, и пока мелкий огненный дождь падал на них, Рэндолф закрывал Веронике голову руками. Рискуя опалить лицо, Вероника глянула на него: горящий уголь в тот же миг упал ему на лоб.
– Ты, поджегший небо, – пробормотала она сквозь зубы, – терпи теперь клеймление искрой!
После первого же огненного взрыва камин погас, и граф Грансай удалился.
– Я уверен, что это чистое совпадение, – сказал Рэндолф, копаясь в свертках обугленной бумаги. – Он пришел сюда лишь для того, чтобы сжечь какие-то секретные документы.
– Вскоре узнаем, – сказала Вероника многозначительно, и лицо ее, пока она усаживалась на своего белого коня, было сумрачно и сурово.
В тот последний вечер пребывания Рэндолфа в Палм-Спрингз, он, граф Грансай, Вероника и Бетка ужинали за столом отполированного красного дерева, в котором свирепо отражался блеск показного и безжалостного столового серебра. Было точно девять часов вечера, все молчали.
– Можно подумать, что у нас тут заговор молчания! – с большой непринужденностью сказал наконец Грансай. Он только что проглотил последнюю порцию consomm , но ответом ему было лишь зловещее звяканье серебра о тарелки. Граф взял грушу из фруктовой вазы, стоявшей перед ним, и принялся чистить ее, будто в нервном предвкушении десерта. Но тут же вернул себе самообладание и продолжил: – Это молчание я могу интерпретировать лишь как печаль, кою мы все чувствуем в связи с отбытием нашего друга Рэндолфа, который, можно сказать, свалился с небес исключительно с целью подсластить наше избыточное уединение, а винить за это уединение можно меня одного. Я думал о вас, Рэндолф, весь вечер, – продолжил граф, пристально глядя на летчика. – Съездил к башне в оазисе, желая сжечь кое-какие секретные документы в том самом клятом камине, из-за которого нам пришлось оттуда ретироваться. А вы? Чем вы были заняты нынче?
Рэндолф, не моргнув глазом, ответил:
– Вы испытываете мою честь на предмет честного ответа?
– О, ни в коей мере, – ответил Грансай, – просто вопрос, как любой другой.
– Тогда, – сказал Рэндолф, – я, представьте себе, весь вечер провел как обычно, куря одну за другой сигареты.
– Это не полезно для вашего геройского сердца, – отозвался Грансай.
Веронику словно заворожило лилипутское отражение в столовом серебре, в которое она уперла взгляд с самого начала этого разговора, а Бетка, испуганная и бледная, смотрела на Веронику.
– Занятная страна Америка, вам не кажется, Рэндолф? – проговорил Грансай, откусив от груши, вздетой на вилку, и скривившись, после чего отложил прибор на край тарелки. – У плодов нет вкуса, у женщин – стыда, а у мужчин – чести!Рэндолф вскочил на ноги, словно отпущенная пружина. Бетка попыталась удержать его, но он уже рванулся в Грансаю, который, не двигаясь с места, старательно утирал губы салфеткой после того как увлажнил их апельсином, словно давая понять, что ужин окончен. Граф добавил:
– Обращаю ваше внимание, Рэндолф, на тот факт, что пепел от вашей сигареты упал вам на плечи, что странно, а также вам на лоб, что еще страннее. А тут у вас ожог. – Грансай указал на красноватую припухлость у линии волос на голове у Рэндолфа. Затем перевел смутный взгляд на Веронику – та по-прежнему не двигалась, казалась отсутствующей и не обращала ни малейшего внимания на все более угрожающее поведение Рэндолфа.
– Плоды нашей страны, – сказал Рэндолф, отмеряя каждый слог, – имеют вкус свободы и гостеприимства, коим вы подло воспользовались, чтобы питать себя и свою подковерную возню; наши женщины – те, кого вы безуспешно пытаетесь растлить, совратить и лишить плодовитости, а наши мужчины имеют честь жертвовать своими жизнями в этой вашей Европе и восстанавливать достоинство, кое вы, не будучи подлинно мужчинами, чтобы защищать, постыдно уступили врагу.
Грансай теперь тоже пытался встать, но не успел он подняться, как получил от Рэндолфа устрашающий удар кулаком в лицо, повергший его на пол вместе со стулом.
Вероника кинулась к Грансаю и попыталась с Беткиной помощью вернуть его к жизни. Граф едва мог поднести руку к сердцу, а пальцем другой руки слабо дергал за воротник рубашки, словно задыхался. Бетка развязала узел тяжелого галстука в серебряную крапину, рванула сорочку, оголила ему грудь. Залитые кровью глаза Рэндолфа уперлись в предмет, от которого у него в остолбенелом изумленье перехватило дыхание, и несколько мгновений он думал, что ему мерещится. На тонкой цепочке вокруг шеи соперника висел крест с жемчугами и бриллиантами, который Вероника дала ему в Париже и который он доверил графу Грансаю в полете на Мальту! Этот загадочный Нодье – не кто иной как сам граф.
– Вероника! – воскликнул Рэндолф. – Крест на этом человеке – тот самый, что ты дала мне!
Постепенно возвращаясь в сознание через несколько часов после сердечного приступа, граф Грансай добрые пятнадцать минут лежал с закрытыми глазами, делая вид, что все еще спит. Но он знал, что Вероника здесь, встревоженная, любящая, у его постели, внимательно смотрит за ним – всего миг назад он тайком подглядел сквозь ресницы. Он заново проиграл сцену с Рэндолфом и чувствовал, что любовь Вероники удвоилась в его пользу – из-за того, как зверски обошелся с ним его соперник, невзирая на деликатность состояния его сердца в последние несколько недель. После этой потасовки он получал удовольствие от возвращения к жизни, в тепло и уют обстановки, голова его покоилась на пуховой подушке выздоравливающего. И как никогда прежде понял он подлинную ценность и значение жены, супруги. Как радостно было сейчас мягко, постепенно просыпаться, и сквозь тенистую расплывчатость густых ресниц распахивающихся век он все более отчетливо видел фигуру Вероники, только и ждавшую, наверное, замерев сердцем, его пробуждения, чтобы сразу броситься к нему, склониться, сомкнуться с ним лбами, а свои руки вложить в его с той буйной нежностью, какая не исчезала всю их женитьбу и почти всегда сопровождала их отношения.
Но Вероника, вместо того, чтобы встрепенуться и приблизиться, завидев его пробуждение, ничего подобного не сделала. Напротив, ее неподвижность словно приобрела свойство ужаса, а ее замерший взгляд изумил его враждебностью, свирепостью животного. Граф, остуженный непостижимым поведением Вероники, воскликнул: