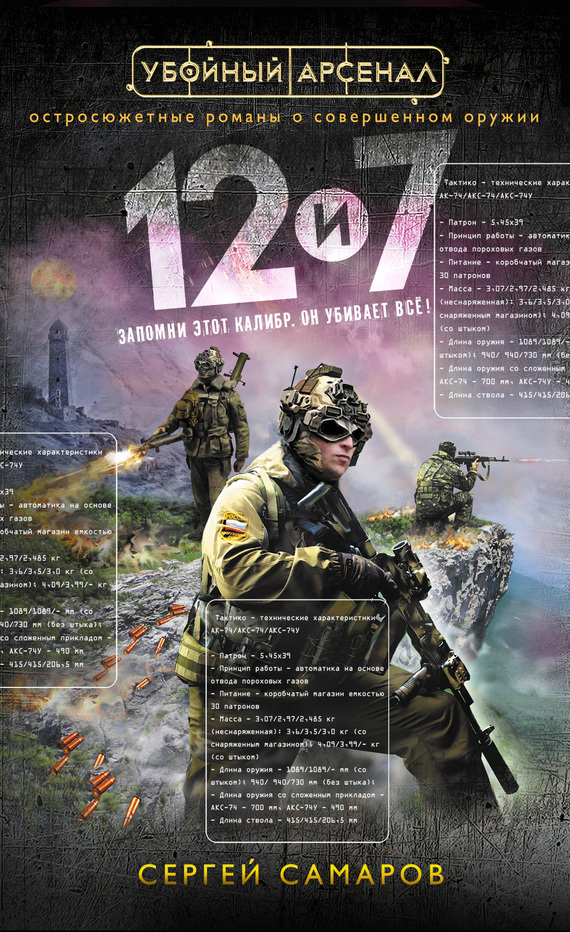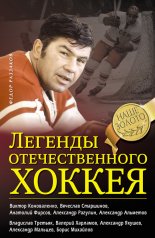Сокрытые лица Дали Сальвадор

Дорогая, прекрасная, возлюбленная Соланж, позвольте мне так обратиться к Вам в первый, единственный и последний раз, ибо теперь я примусь познавать беду, что была Вашей, – Ваше презренье заставит Вас забыть меня, я же Вас никогда забыть не смогу! Черному памятно белое, темноте – свет, раскаянье – совести, а Вы стали моей совестью, моей озаренной равниной Либрё, Франция Соланж! Губы-цветы – так я запомнил Вас, в тот вечер нашего расставания, когда обрек их на тишину, так несправедливо обидев Вас. Губы-жасмин!
И лишь одно утешает меня. Я мог бы избавить себя от позора – не говорить Вам, что люблю Вас, но я так не поступил. Это признание навечно клеймит и наказывает мою свирепую гордыню, повелевавшую всей моей жизнью. Быть посему. Не сказать Вам всего было бы слишком низко с моей стороны. Подлинная картина моей нравственности избавит Вас от вашей щедрой иллюзии. Знайте же, что я побежден, но все еще жду от Вас словечка, если таковое может быть. Если нет, я заранее готов ничего более не знать о единственном созданье, которое любил в этой жизни и которое обожаю.
Шлю Вам свое уважение. Спасибо, госпожа, за посаженные Вами дубы.
Эрве де ГрансайГлава 7. Луны желчи
Октябрьские дожди второй осени полной немецкой оккупации не прекращались две недели и обильно промочили равнину Крё-де-Либрё. Озаренные свечами всенощные тянулись столь же долго, как и бесхлебные дни, хлеб под немецким оком был черств, улыбка горька, а в глубоких складках на крестьянских руках, заскорузлых, будто мгновенно покрывшихся рубцами, застряла земля – вдосталь, чтобы в ней завелись споры возмездия.
Странно было видеть свастику, нашитую на рукав настоящего нациста, охранявшего пулеметное гнездо, сложенное из мешков с песком, под навесом из гофрированного железа, устроенное у поворота дороги к старому кладбищу Либрё. Напротив этого оборонительного поста каменный домик укрывал двух других немецких солдат, поставленных следить за движениями крестьян между Верхней и Нижней Либрё, проходивших через этот участок, на котором производили по большей части секретные работы кипучей военной индустриализации. Странно было наблюдать этот подлинный образчик нацистского солдата, каких они видали до сих пор только на размытых фотографиях в газетах или на более дразнящих ротогравюрах журналов. Невероятно. И все-таки нацистский солдат был там, точно, сидел терпеливо, пухлая спина стиснута кожаным ремнем, а сам он смотрел из-под каски на дождь, лившийся на дорогу, в грязь, ценную, как золото, она – тайна плодородности равнины, но он, видимо, презирал ее как позор любой цивилизованной страны, разглядывал ее небесно-голубыми глазами, замаранными отсутствием грязи, глазами бесплодными, кастрированными зверской чистоплотностью фашистских автобанов. Очень странно, даже сновидчески, было наблюдать этого наци, такого неуместного, сидящим ссутулившись над оружием, будто жирную няньку, занятую вязанием и штопающую носки вторжения и оккупации.
И славно было смотреть, как двое братьев Мартан, высоких, жизнерадостных, проходили перед этим нацистом дважды в день на работу и с работы в Мулен-де-Сурс, а тот их знал и больше не останавливал и не заставлял показывать разрешения. Всякий раз один, что пониже, помалкивал, а высокий, резко вскидывая голову, кричал солдату – с каждым днем со все большей злобой: «Все хорошо?» – а сам словно убивал немца взглядом, жегшим, как чеснок. Ночи в сельской Либрё стояли тоскливые, всем полагалось сидеть по домам. Даже маленькие кафе, когда-то столь оживленные, приходилось закрывать через пятнадцать минут после звона ангелуса. Но, с другой стороны, семейные узы, чуть расслабившиеся за последние годы, под влиянием несчастий и внешнего врага вновь упрочились до крепкого снопа из корней, пота человеческого и домашних животных потребностей. Цветом, нравом и суровой шкурой этот сноп походил на картофель, как во дни братьев Ле Нэн.
На открытом воздухе, под бессолнечными небесами, пейзаж Либрё впитывал дождь, как бальзам. Исчезли шрамы далеких времен урожая и жатвы, зато в каждом старом сельском доме начали сочиться скверно зажившие древние трещины в стенах. Громадное сырое пятно проникло в самое сердце Мулен-де-Сурс и проявилось на главной стене, как раз на пересечении большого свода, служившего крышей обеденной залы, коя в начале семнадцатого века была трапезной иезуитского монастыря Утешения. Невзирая на несколько слоев штукатурки, можно было различить громадный прямоугольный рельеф с Христом, лежащим, вскинув лицо, прямым, как железный прут, на своей усыпальнице, имевшей надпись, выбитую на латыни: «Rigida Rigor Mors Est» [47] . Обширное пятно влаги, возникшее на пересечении свода, расползлось на половину рельефа, распространилось вертикально длинной узкой полосой вниз по стене до самых напольных плит и, казалось, сочилось из раны у Христа на боку. Каких только сцен за смену времен ни повидал этот свод! Лишь недавно равнинные слухи населили его памятью об оргиях Рошфора, постоянно во хмелю, вздорящего и дерущегося во время своих пантагрюэлевских трапез с гаремом лихих, красноруких и красноглазых добродушных фавориток, обычно более или менее беременных.
Суровое достоинство ранних времен было восстановлено, когда Мулен приобрела Соланж де Кледа. Она, с репутацией умнейшей женщины Парижа, отгородилась от общества и осталась здесь, в несчастном будущем после бала графа Грансая, в котором не участвовала. С тех пор она и жила в почти монашеской простоте, в этих стенах. Тем вечером, ближе к шести, Соланж сидела за большим круглым обеденным столом, укрытым черно-шоколадной скатертью. Облаченная в гранатово-красное платье, она плакала. В руке она держала письмо графа Грансая. Из-за двери в кухню, всегда чуть приоткрытой, за своей госпожой наблюдала ее горничная Эжени, только что зарезавшая кролика, и кровь из горла зверька стеала в глазурованную глиняную чашку. Жени, как все ее называли, с закатанными рукавами смотрела то на Соланж, то на кролика и покаянно вздыхала. Ее строгое католическое воспитание втолковало ей, что этот мир – юдоль скорби, и Жени верила, что слезы так же плодотворны для почвы и очистительны для души, как дождь – для сельской местности и нив. Подземные трюфели трюфелировали корни дуба, улитка пускала слюни, конский навоз навозился, кладбище гнило, запасы запасались, кроличья кровь капала… Соланж перестала плакать, услыхав, как от звякнувшего у калитки колокола залаял Титан и деревянные башмаки одного из братьев Мартан захлюпали по грязи – впустить посетителя. И вот уж виконт Анжервилль появился в гостиной, облаченный в оливково-зеленый крестьянский наряд. Он поцеловал Соланж в лоб, в ладони обеих рук и еще раз в лоб.
– Позвольте, я схожу наверх и прилягу на час перед ужином. Пока буду отдыхать, подумаю, что можно поделать и какой ответ дать завтра немцам. Больше нельзя откладывать. Мэтр Жирардан, похоже, узнал новости и получил тайные указания. Придет к девяти на кофе и потом еще побудет с нами.
– Да, идите, дорогой мой. А я пока напишу письмо, – ответила Соланж, вновь подставляя лоб для поцелуя. Когда он ушел, она придвинула керосиновую лампу и рукою, героически пытавшейся сдержать трепет страсти, написала:
Дорогой Эрве – мой – возлюбленный – не сон ли это, что могу я так Вас называть? Знайте, возлюбленный мой, что из Вашего письма я сохранила лишь первые слова любви, и они останутся вытравленными у меня в сердце и после моей смерти. И даже когда черви выгрызут это сердце, им тоже придется истлеть и быть в свою очередь растворенными на дне моего гроба, и свернутся они там в форме букв, ими пожранных, – настолько верна эта надпись, что должна быть и будет последней действительностью, какая сотрется из моего существования! Франция Соланж! Губы-жасмин! Если выраженная Вами страсть ко мне могла быть несомненна моему бедному духу, что все еще слишком недоверчив, этих чудесных слов хватит для счастья до конца моих дней. Я не желаю и не должна произносить ни слова прощения. Вы мой повелитель. Если судьбе угодно было, чтобы Вашей женой стала Вероника, я не только принимаю это, но и обязана деятельно чтить этот брак. Но если Ваша любовь ко мне такова, как Вы говорите, и Ваша неверность ей в мыслях не может усугубиться дальнейшими словами, осмелюсь просить Вас продолжать говорить, что любите меня. Дорожа равниной Крё-де-Либрё, я учусь еще больше боготворить Вас. Этим утром я надела высокие черные лайковые сапоги и пошла под дождем, поглядеть на молодой лес пробковых дубов; некоторые дотянулись в точности до моего роста.
Молю о поцелуе в жасминовые губы.
Соланж де КледаПосле скудного молчаливого ужина с д’Анжервиллем Эжени смела хлебные крошки в ладонь, сложила белую скатерть вчетверо, и столешница вновь стала темно-шоколадной. Соланж достала запечатанное письмо из-за корсажа гранатного платья и передала д’Анжервиллю.
– Это письмо, – сказала она, – должно добраться до графа Грансая как можно скорее.
Д’Анжервилль, приняв конверт, удержал руку Соланж в своей, а Жени, выглядывая из почерневшей от дыма кухни через полуоткрытую дверь, не сводила глаз с безупречного прямоугольника конверта, на котором встретились руки Соланж и д’Анжервилля и будто держались друг за друга бесконечно без всякого даже намека на ласку. Виконт Анжервилль обитал в Мулен-де-Сурс. Тремя месяцами ранее он поспешно приехал вслед за Соланж, обеспокоенный приступом ее глубокого отчаяния, к преодолению коего у нее, похоже, не было воли. С тех пор он не покидал ее. Не осмеливался, ибо дух Соланж был подвержен внезапным резким переменам, и возбуждение времен восторга – состояния счастливого полуобморока – почти столь же настораживало, как и следовавшая за ним тоска от тщеты жизни, и унылая подавленность приковывала Соланж к постели, где она оставалась дни напролет, за закрытыми ставнями. Зная, что Соланж хочет что-то ему поверить, д’Анжервилль изображал спокойствие и безразличие. Делая вид, что размышляет о другом, он увидел, что Жени наблюдает за ними из кухни, а потому хранил долгое молчание. За руку он взял Соланж, чтобы помочь ей. Наконец, она сказала вполголоса:
– Граф Грансай женился в Америке на Веронике Стивенз.
Соланж смотрела ему в глаза, чтобы увидеть его отклик, но д’Анжервилль, казалось, все еще увлеченно рассматривал кухню. Соланж проследила за его взглядом, и тут Жени почти закрыла дверь и отвернула кран над мойкой.
– Граф женился, – повторила Соланж и рьяно продолжила: – Но я счастлива, очень счастлива, потому что он написал мне об этом – судьба вынудила его, но любит он лишь меня одну! Слышите?
– Я вас слушаю, – ответил д’Анжервилль, – но какое-то время назад понял, что, слушая вас, думаю о себе.
– Что вы хотите этим сказать? – спросила Соланж. – Я слишком самовлюбленная и никогда не спрашиваю о ваших чувствах? Да, об этом вы и думаете! Но отчего, дорогой мой, – продолжила она мягко, – вы сами себе не скажете, что это оттого, что я просто не осмеливаюсь… именно поэтому, я знаю!
И тут вдруг Соланж хрупкой рукой сгребла сорочку у него на груди и с силой потянула на себя, словно с требованием о признании:
– Вы меня любите, Дик?
Д’Анжервилль упер взгляд в темную скатерть, в белый конверт, адресованный графу Грансаю.
– Да, – сказал он. – Я любил вас все эти восемь лет. – Возникло недолгое молчание, а когда он заговорил, показалось, что эти восемь лет словно вытянули все чувства из голоса: – Лишь сейчас, когда вы спросили меня «Слышите?» – я понял наконец с однозначностью, что никогда не будет у меня и малейшей надежды. Но вы по крайней мере должны признать, что с тех пор как мы знакомы, вы впервые поймали меня на невнимании к вам. Вы должны меня простить! День за днем я наблюдал за вашей любовью к Грансаю. Я даже поощрял ее, как умел и покуда это было возможно, но никогда не видел я такого сияния страсти, что так ослепила вас, когда вы сообщили мне новость о его женитьбе! С какой совершенной приверженностью вы все еще верите в него! И какое право я имею говорить с вами так?
– Идите ко мне, дорогой, – сказала Соланж.
Он подошел и упокоил голову на гранатово-красной груди Соланж. Так оставались они, без единого слова, а свет керосиновой лампы все тусклее моргал по калильной сетке, что, полусгорев, висела криво. Пред ними потек от дождя на стене поблескивал, как слизевой след исполинской ночной улитки. Из кухни послышался грохот опорожняемой посудной лохани и тарелок, складываемых на сушильной доске кверху дном. Когда восстановилась тишина, Соланж крикнула:
– Жени!
– Да, мадам.
– Можешь нести кофе.
Жени принесла кофе, а Соланж и д’Анжервилль все еще оставались в объятьях друг друга, пока Жени не ушла на кухню. И тут в саду залаял Титан и тихо звякнул колокол.
– Это, должно быть, Жирардан, – сказал д’Анжервилль, долго целуя ей руки.
Дверь открылась, появился Пьер Жирардан. Встревоженными шажками он вошел в просторную, холодную и негостеприимную обеденную залу и, поклонившись с учтивостью, коя всегда была чуть подпорчена избытком искренности, тут же уселся более по-домашнему между Соланж де Кледа и д’Анжервиллем, хоть и не без извинений:
– Сел посередине, чтобы сподручнее было с вами разговаривать.
– Жени может остаться, – сказала Соланж Жирардану. – Ей можно и должно знать все, особенно после того как она и ее сын стольким рисковали ради нас и этого места. Присядь, Жени, – попросила она.
Жени, разлив кофе и бренди, села за другой конец стола, и две шпильки скрытой гордости прошили ее пепельно-серые глаза. Прежде чем начать, Жирардан ожесточенно потер лицо ладонью, несколько раз сплюснув нос во всех направлениях, словно собирая все мысли в крови, что болезненно раздула вены у него на лбу и придала его лицу пурпурный оттенок. Затем, сильно стиснув подбородок большим и указательным пальцами, он замер с сосредоточенным видом и повернулся к Соланж.
– Сегодня вечером, – начал он, – через Бруссийона, профессора-коммуниста, недавно сбежавшего из Африки и остававшегося на связи с мадемуазель Сесиль Гудро, я получил от графа Грансая два письма. Одно из них Мартан доставил вам, а другое было адресовано мне. Я его немедленно сжег, перед этим внимательно сделав для себя пометки. Оно содержало тайные распоряжения от графа, к коим я отношусь как к приказам. Согласно этим распоряжениям я должен доставить копии всех чертежей, находящихся у меня секретно, коммунистической организации, занятой саботажем всего плана индустриализации Верхней и Нижней Либрё.
– Понятно, что это еще больше усложнит ситуацию с собственностью мадам де Кледа. Вообразите карательные меры, – возразил д’Анжервилль, взяв нервно сжавшуюся маленькую ладонь Соланж.
– Позвольте заметить, что мне видится строго противоположное, – спокойно отозвался Жирардан. – Каковы требования нацистского коменданта провинции в отношении владений Мулен-де-Сурс? Сдать три крупных водяных источника Мулен для электрификации равнины. Мне известно, что это – великая сила в руках врага, и пока, во имя чести, я советовал категорически отказываться и сопротивляться, с почти неизбежным риском немедленной и неумолимой экспроприации. Но теперь, как уже сказал, я переменил мнение, и в свете возможного саботажа, в котором мы все тайно или явно поучаствуем, неизбежная уступка вражеским требованиям становится оправданной. Наша кажущаяся покорность лишь поможет скрыть планы диверсии. Ибо вдруг, вместо того, чтобы обращаться с нами подозрительно, как было до сих пор, они станут считать нас коллаборационистами и негласно симпатизировать нам, и благодаря этому нам, быть может, удастся не попасть в заложники. Таково будет наше общее алиби!
– Нет, – сказала Соланж, вставая, – не бывать ничему, даже отдаленно смахивающему на коллаборационизм! В час расплаты у всех найдется какая-нибудь отговорка для оправданья. Я женщина, я ничего не понимаю в хитросплетеньях политических дел мужчин, но я никогда не сделаю в отношении Франции ничего не продиктованного моим сердцем, и я не сдам ни горсти земли Либрё, ни в каком компромиссе. Им придется рвать ее у меня!
В этот миг донесся лай Титана.
– Кто мог прийти в такой час? – спросила Соланж обеспокоенно.
Жени отправилась открыть и появилась с тем братом Мартан, что повыше, а за ними – Титан. Мартан с красными глазами и чуть обвисшими щеками слегка напоминал старого сенбернара.
– Жени говорит, у вас переговоры про бошей. Мне надо потолковать с мэтром Жирарданом, но вы сначала закончите. Делу время. Я обожду на кухне.
– Садись рядом с Жени, – приказала Соланж. – В моем доме – никаких секретов от людей Либрё, когда речь о Либрё.
Она знала, что Мартан – один из преданнейших крестьян в округе и в своей преданности общему делу он готов на любые жертвы. Поворотившись к Жирардану, который, хоть и знал Мартана, все-таки медлил, она обратилась к нему, успокаивая, однако с нотой твердости:
– Продолжайте. Можете свободно говорить о чем угодно, касающемся моей собственности и положения дел.
– Склонен ограничиться последним, – подхватил Жирардан, – ибо в нем заключаются куда более тернистые вопросы, нежели просто ваша преданность стране. Если откажетесь сдать источники водной энергии Мулен, они первым делом срубят все ваши леса. Комендант провинции уже объявил это в своем ультиматуме.
Соланж вздрогнула, но промолчала.
Жирардан продолжил:
– Это правда: сдав водяной ресурс, вы жертвуете одним махом всеми орошаемыми посевами, но, тем не менее, мне известна сентиментальная привязанность мадам к тем деревьям. Но часть или все из этого – порубка лесов или уничтожение посевов – кажется мне менее серьезным, нежели простой отъем, под который подведет вас категорический отказ. И в этой связи моя совесть не позволит мне забыть слова, сказанные вашей совестью в тот день, когда, вопреки моим советам, вы решили купить Мулен-де-Сурс и когда я позволил себе воззвать к интересам вашего сына. Я помню каждое слово, и то, что вы сказали, делает вам честь – и ныне, и тогда… «Мой сын, – сказали вы, – найдет в своем сердце силы простить меня, когда придет время, и я честью отвечу за его будущее… Я воздам беспредельной преданностью…»
Жирардан повторил эти слова Соланж возвышенным тоном, после чего добавил очень тихо, повесив голову, словно прося прощения:
– Я позволил себе, мадам, помянуть вашего сына по этому поводу для того, чтобы напомнить вам не о любви к нему, а о том, что возносит вас даже выше этого – о любви к Франции. Абсолютное сопротивление есть абсолютное разрушение, а страна, невзирая на оккупацию, должна и будет жить дальше!
Все молчали, и слышно было, как дождь льет потоками, будто отворились шлюзы небесные. Соланж понурила голову, прикрыла руками глаза и, казалось, погрузилась в глубокие раздумья.
– Чего желал бы в этом случае граф Грансай? – наконец спросила она.
– Это слишком серьезное решение, чтобы отвечать за графа, – хладнокровно вымолвил д’Анжервилль, – но все мы здесь поручимся в вашей исключительной преданности своей стране, каким бы ваше решение ни было.
– Мадам… ваш сын, – проговорил Пьер Жирардан вполголоса.
И тогда Соланж де Кледа вскинула руки к сводчатому потолку и сказала, будто одержимая:
– Ради сына моего Жан-Пьера и ради юного леса, который я посадила, я позволю немцам извлекать из моих ручьев электричество. Бог мне свидетель, пусть наказанье небесное свершится надо мной за мою ошибку, если это она, как этот дождь льется на Либрё!
Ярость ливня, казалось, удвоила силу.
– Если будет лить, как сейчас, – сказал Мартан, – мы завтра не сможем перебраться через реку в Нижнюю Либрё… А оно никак не прекратится до новолуния…
Повисло долгое молчание. Крестьяне Либрё сонастраивали календарь своего благополучия с языческими владыками их лун.
Но для Соланж де Кледа все луны полнились желчью! Она теперь знала, что ее прихоть – покупка Мулен-де-Сурс – была роковой ошибкой. Эти владения станут погибелью ей и угрожают тем же сыну ее, по крайней мере, в ежедневном упорстве личного ведения дел. Ради Жан-Пьера справлялась она с такой героической жизнью, таков был ее материнский долг, тщательно исполняемый вопреки мученьям души. Никогда не позволяла она себе роскоши отдаться тоске смятенного духа – лишь после бесконечных часов, проведенных над счетами, в распределении пожертвований, в заботах о нуждах трех сотен душ, что составляли силу этого клочка французской земли, который она решила сохранить. А сколько раз Соланж горбилась от усталости в жестком кресле своей пытки – труда своего, коим надеялась добыть из виноватой совести искупление исходной ошибки! Владениям Мулен, наследству Жан-Пьера, должна она принести совершенную жертву. Нет! Не было у нее права умереть от любви!
Словно все должным образом обдумав, Жирардан наконец прервал молчание.
– Послушай, Мартан, – сказал он, обойдя стол и подтащив стул поближе к нему. – Нам всем вы с братом будете очень нужны – вы лучше всех знаете все тропы Верхней Либрё. Считая, что поступаю правильно, я совершил, кажется, худшую оплошность в жизни. С самого начала оккупации я хранил все копии планов индустриализации в семейной усыпальнице графа Грансая. Планы все еще там, обернутые вокруг связки свечей, сложенных у маленького алтаря… На этой неделе мне нужно их добыть! Как нам лучше это проделать, если весь участок старого кладбища теперь охраняется? Я не знаю других путей, кроме как по главной дороге, за которой тоже следит немецкий пост.
Мартан подумал, качая головой.
– Должны же быть и другие пути – пастушьи тропы… – огорченно настаивал Жирардан.
– Нет, – сказал Мартан. – Я уже влип, когда ходил наперерез. Все проходы и овраги патрулируются денно и нощно. Если даже сойдете с главной дороги, чтоб выкопать трюфель, вас точно арестуют.
Все с глубокой удрученностью слушали дождь, и тут Жени вдруг встала и подобрала сломанный черенок от старой метлы, что лежала между передних лап Титана, дремавшего у ног Соланж. Та сидела, упокоив склоненную набок голову в ладони. Жени повернулась к Жирардану, держа в руках палку.
– Но месье не нужно волноваться о тех планах! – сказала она. – Добыть их проще простого Всего-то и надо, что пойти в усыпальницу графа и намотать каждый чертеж на свечу, вот так – смотрите!
Жени сложила газету в тонкую полоску и намотала ее на один конец палки.
– Вот как носят большие свечи – в намотанной на конец бумаге, чтобы воск не попал на руки.
Никто пока толком не понял, а Жирардан возразил:
– Но мне не пройти незамеченным под носом у нацистов, неся зажженную свечу средь бела дня.
– Так в том-то и дело, – воскликнула Жени с видом победным и злорадным, выгнув стан и уперев кулак в бедро, – в том-то и дело: через три дня будет День Всех Святых. Сегодня утром на рынке сказали, что немцы разрешили шествие по старой кладбищенской дороге к обители Сен-Жюльен, как каждый год, – там в пять будут читать вечернюю молитву. Туда и обратно, с песнями и музыкой.
– Вот поди ж ты! – воскликнул Мартан, натягивая шапку на колени так, что швы затрещали. – Так она ж права, Жени-то!
Взбодренная лукавой крестьянской улыбкой, что слегка озарила напряженное лицо Жирардана, Жени, смешно изображая шествие, принялась вышагивать, неся перед собой палку, изображавшую свечу, перед Мартаном.
– Мартан у нас бош, – приговаривала она. – Думаете, он догадается, что эти вот заляпанные воском бумажки, которыми мы свечи обмотали, скрывают контрабандные чертежи?
– Чтобы вынести все, нас должно быть шестеро, – быстро подсчитал Жирардан.
– Я, – сказал Мартан, перечисляя, – мой брат, Жени…
– Я тоже, разумеется, – добавил Жирардан. – Первое шествие в моей жизни!
– Мы тоже пойдем в Сен-Жюльен, – сказала Соланж д’Анжервиллю, призывая его к согласию первой веселой улыбкой, что он увидел на ее лице со времени приезда.
– Зачем без необходимости так рисковать? Неужели вам не хватает опасностей, которым вы ежедневно себя подвергаете? – спросил д’Анжервилль, вяло пытаясь отговорить ее, вещая, так сказать, с вершины стены своей меланхолии, к которой закрылись все подступы – с тех пор, как признание Соланж в том, что не любит его, решительно подняло подвесной мост его надежды.
– Я хочу пойти, дорогой, – решила Соланж. – Уж коли сдалась в главном, я хочу по крайней мере жить дальше, деля все ваши беспокойства и опасности… Этот День Всех Святых перед грядущей зимой будет первым развлечением с тех пор, как я поселилась тут отшельницей. – Произнеся это, Соланж полуоткрыла губы в улыбке до того чувственной, что д’Анжервилль, потрясенный и обеспокоенный, подошел и присел рядом с Титаном, уложив его голову к себе на колени. Оттуда д’Анжервилль продолжил наблюдать за Соланж.
Что на нее нашло? Письмо Грансая преобразило ее, сделало еще прекрасней, хотя и прежде она была чрезвычайно мила и желанна в своей печали. Как он сможет не обожать ее до помешательства? Пес! Он просто пес! Старый Титан!
Все уж поднялись. Было поздно, почти половина десятого, и Титан тоже встал. Но Жирардан, прежде чем уйти, спросил Мартана:
– Что ты собирался мне сказать? Ты же пришел со мной поговорить?
– Да, – ответил Мартан смущенно, – но делу время… Старик мой помер сегодня вечером, около шести.
– У тебя отец умер? – вскричала Жени, все еще держа в руках желтую палку от метлы, и перекрестила лицо оживленным движением белки, умывающей рыльце.
– Ой, да мы ожидали того! Пять дней назад ему стало хуже, он больше не ел. И все ночи рокотал горлом да сбрасывал все с постели на пол. А сильный какой! Как стреноженный дикий кабан в мешке. Тот еще вид. Старуха наша плакала и спать не могла – с ним рядом, помирающим. Мы с братом тогда свели ее вниз, в хлев.
– Вы постелили ей в хлеву? – вскричала Жени, заламывая от ужаса руки.
Мартан закусил край шапки и сплюнул на пол черный лохматый клок.
– Нет, не стелили. А что такого? Села себе на стул, как все время делает последние два года. Голову я ей привязал к спинке, так она спит себе спокойно-тихо, рот открыв. Иначе задохнется. Она, как и старик наш, дышать не может, но теперь у нее и спина не гнется.
– И, как водится, никакого завещания, – с упреком вздохнул Жирардан.
– Пойдемте поговорим в кухне, – сказал Мартан поверенному, беря его под руку. Там он закрыл дверь, подошел к низкому маленькому окну и глянул с подозрением на дождь, после чего резко задернул красную штору и пнул в сторонку белого кота, ускакавшего в темный угол, откуда мог за ними наблюдать. Затем Мартан подобрался поближе к поверенному и тихо сказал: – Старик оставил нам клад. Все объяснил за два часа до того, как помер. Будьте завтра утром в девять, станем копать. Даже промеж братьев всякое бывает. Нам нужен свидетель, – и добавил еще тише: – Прорва там, прорва, – и почти неслышно: – Уйма золота!
Когда они вернулись из кухни, Соланж подошла к Мартану.
– Завтра, – сказала она, – мы с Жени придем к тебе, приглядим за вашей матушкой и позаботимся о покойнике.
Пьер Жирардан и Мартан ушли, а Жени принесла Соланж и д’Анжервиллю еще по чашке кофе, после чего сразу отправилась наверх спать. Казалось, оба только и ждали этого мига – снова уединиться, однако ни та, ни другой не могли нарушить молчание, столь великая робость овладела ими. Наконец первой заговорила Соланж:
– Послушайте, дорогой, – сказала она, – я не хочу, поведав, что не люблю вас, отказать нам обоим в излияниях нежности, что делала до сего времени сносной горечь нашей жизни.
Д’Анжервилль взял ее за плечи, уложил в свои объятья… Соланж продолжила, и голос ее стал сладок, полон эха из детства:
– Что мне поделать с чарами? – Тут она внезапно посерьезнела и заговорила глубоким контральто: – Я в них верю – теперь верю. Слишком много у меня доказательств их существования.
– Существования чего? Расскажите мне, – сказал д’Анжервилль самым заботливым тоном, наименее иронически.
– Есть такая вещь – приворотная магия, любовные чары… Не осмеливаюсь говорить об этом ни с кем, иначе, боюсь, меня засмеют, но пора вам узнать о помраченьях в моей душе, чтобы страсть ваша утихла, из чистого уважения к ней, ибо вы знаете, что без вашей дружбы моя жизнь… – Губы д’Анжервилля коснулись ее лба у линии волос. – О, я знаю, мне никогда не следует бояться, что вы меня разочаруете! Но должна сказать вам, дорогой мой, что так же верно, как вы здесь, рядом, держите меня в объятьях, и то, что меня навещает граф Грансай. И его приходу всякий раз предшествуют многие знаменья, постепенно завладевающие всеми моими чувствами, – они их притупляют, связывают, и ничего я не могу с этим поделать… Так оно время от времени и охватывает меня… Это его пьянящее приближенье всегда отмечено неким столбняком. Затем все меняется, преображается, как по волшебству, куда бы ни смотрели мои полные слез глаза… Всякий раз начинается из ничего. Я вдруг замечаю, как хороши цвета у пера куропатки, и стоит мне подумать об этом пере, как память о нем заполняет меня наслажденьем столь неизъяснимым, но таким живым!.. После я могу думать о чем угодно – о хромолитографии сцены охоты, что висела на стене у меня в комнате, когда я была ребенком, – и тут же утешающие улыбки обветренных лиц всадников вызывают у меня неопределимое ощущение довольства, любви к жизни. Меня пронизывает трепет наважденья и восторга. И это лишь начало, далее все предметы, даже самые унылые и прозаические, будничные, преображаются день ото дня… Видите эту уродливую шоколадную скатерть? – сказала Соланж, взявшись рукой за материю, словно показывая отвратительную грубость цвета. – Так вот, когда я начинаю чувствовать, что скоро меня навестит Эрве, этот самый цвет глаза вдруг видят теплым, с золотистым оттенком, он светит из глубины этого коричневого… а этот гранатовый, что на мне, – он будто становится телесно-розовым. – Соланж вскинула взгляд. – Даже этот сводчатый потолок, обычно давящий на меня, как гробница, с «его» приходом обретает легкий голубоватый оттенок, как бледные акварельные небеса Тьеполо. – Соланж указала пальцем на рельеф, украшавший главную стену трапезной, и сказала: – Смотрите, Дик, видите – даже тело Христово, будто вырубленное топором, сплошь в прямых линиях, – так вот, перед посещением и оно становится гладким и притягательным, словно возлежащий святой Себастьян, а усыпальница кажется нежной, как юное дерево. И даже надпись, суровая, как сама смерть, больше не вызывает в моей душе страха, кой эти вырезанные буквы призваны сообщать. Это означает, что Эрве уже близко, что он идет ко мне! И никогда не во сне! Мне никогда, никогда не снятся сны! Всегда днем! Не важно, где, или когда, или в каких обстоятельствах. Это невозможно предугадать. Если б я хотя бы могла приготовиться к нему – но нет же! Он неумолим, несгибаем, и я, как пленница, должна сдаться наслажденью, что становится безжалостно и неотвратимо, как сама эта надпись, и я могу перевести ее так: «Любовь непреклонна и сурова».
Соланж с трудом выбралась из объятий д’Анжервилля и встала, но тут же, казалось, задохнулась и, опершись о стол, обрушилась на него спиной, всей тяжестью прекрасного тела и осталась лежать, скрестив руки на груди, глядя в потолок.
– Да! Я зачарована, – пробормотала она, – и всякий раз, когда падаю жертвой своего наслажденья, вижу перед собой один и тот же образ, одна и та же сцена жестокости повторяется перед моим взором – горчайший миг моей жизни, наше расставанье, когда граф презрел меня. Что же это за наказанье, если оно соединяет в моей несчастной душе непроизвольную тиранию исступления с униженьем, несправедливо навлеченным на меня человеком, коего я люблю?.. Сразу после этих посещений Эрве мне хуже некуда, и я желаю смерти, как вы это много раз видели. Все опять становится мрачным и неблагодатным, как и прежде. Этот гранатово-красный больше не имеет розово-телесного блеска, он вновь становится тем же гранатным хламиды грешника, а эта шоколадного цвета скатерть, на которой я лежу, превращается в почти черный и безутешный коричневый, в какой облачаются монахи. Сами розы смердят тюрьмой, и только зеленеющие макушки пробковых дубов покалывают мою надежду.Без единого слова д’Анжервилль губами заставил Соланж закрыть глаза, взял ее на руки, как ребенка, отнес к ней в комнату и уложил на кровать. Затем по длинному коридору с лужами от протекающих окон прошел к себе, закрылся и всю ночь читал. Время от времени он прикрывал глаза.
«Кажется, льет сильнее прежнего, – приговаривал он про себя и добавлял: – Кледализм – благородное помрачение… Господи сохрани от искушения ввязать в него еще и мою печаль!»
На следующее утро небо еще больше опустилось и затянулось тучами, однако непрестанный дождь, казалось, поредел, в воздухе – ни дуновения. В верхней комнате дома братьев Мартан, за закрытыми ставнями, у тела папаши Мартана по четкам вслух читала соседская женщина, озаренная одинокой тонкой свечой, вставленной усопшему в сложенные ладони. Накануне вечером покойного пришел повидать старый товарищ, с которым они вместе рыбачили по воскресеньям.
– Прямо как живой, верно? Будто так и надо, да? – спросили его братья Мартан.
Старый друг отца, долго всматриваясь в него в тишине, ответил:
– Ну да, будто так и надо! Смотрится так, будто рыбачит!
Внизу, в хлеву, оплакивала супруга старая матушка Мартан, сидевшая скрючившись на жестком черноватом деревянном стуле, который, судя по некоторым трещинам, когда-то был покрашен в кроваво-красный. Матушка Мартан по временам прерывала плач и глядела, разинув рот, как трудятся двое ее сыновей, по пояс в навозе, копая в указанном покойным отцом месте – «под третьей коровой». Внезапно Пьер Жирардан, наблюдавший, скрестив руки, за этой сценой, поспешил к яме, вытаскивая из чехла очки и пристраивая их на носу: кирки, тюкнув по чему-то твердому, почти одновременно звякнули сухо, металлически, тем самым недвусмысленно обнаружив наличие искомого клада. Отбросив кирки, братья лихорадочно заработали руками и выкопали из земли сундук, а через несколько мгновений извлекли его на свет. Трое мужчин стояли кругом на коленях, рассматривали богатство. Беспомощная матушка Мартан тщетно пыталась увидеть хоть что-то поверх их плеч и лишь вытягивала мышцы на шее, будто жилы постной телятины, да дергала старым своим кадыком, твердым, морщинистым и оплывшим, что застревал вверху горла, полумертвого, судорожно сжавшегося в ожидании слюны.
Сундук с сокровищем был из олова, размером с небольшой чемодан. Никакого замка на крышке не было, да и закрывался он не наглухо, и потому, чтобы посмотреть на содержимое, им пришлось выковырять немало просочившейся внутрь земли. В сундуке обнаружилась горка из нескольких сотен золотых монет, некоторые завернуты и увязаны в поеденные червями мешочки из полосатого тика, вроде того, каким обтягивают матрасы. Сокровище, надо сказать, оказалось не таким уж сказочным, как представлялось очам братьев Мартан, напитанных огнем восхищения; тем не менее для таких бедняков, как они, живущих почти в нищете, только что выкопанный сундук являл собой состояние, которое позволит им жить с удобством до конца их дней.
– У нас не меньше целого дня уйдет на опись всего этого, – сказал Жирардан, взглядом оценивая разнообразие видов монет в сундуке. Но Мартан-старший уже встал и, весь подобравшись, принялся приводить в порядок штаны, тщательно перематывая вокруг пояса длинный кушак из черной ткани – тот, пока они копали, распустился от непривычной подвижности. Покончив с этим, Мартан повернулся к молча наблюдавшему за ним брату, который опирался о стену, сунув руки в карманы.
– Так что скажешь? – спросил старший. – Обратно закопаем? Мы же не хотим это сейчас трогать, верно?
– Ни за что, – ответил брат, будто оскорбившись таким вопросом. Подобрал лопату, изготовился закапывать сокровище, и тут Жирардан, слушавший обоих в немом изумлении, возразил:
– Нам их надо хотя бы пересчитать – оставить подробную опись.
Однако младший брат, не обращая на него внимания, уже бросил на клад первую лопату земли.
– Наш отец сроду описей не составлял! – сказал старший. – Всю жизнь прожил и не притронулся. Даже добавил – эти вот полосатые мешочки, они его. Так сделаем и мы! Но хорошенько запомните, что вы видели.
Мартан поплевал на ладони и принялся за работу. Вскоре место, где они закопали клад, вновь укрылось толстым слоем сена и навоза, и третья корова невозмутимо вернулась и улеглась сверху.
– Что ж, друзья мои, вы – подлинная сила сопротивления! Немцы никогда не смогут подчинять долго страну, умеющую отказаться от благополучия и зарыть ее в глубины своей земли. Они могут владеть телом нации и унижать его, но не сокровища ее души!
– Все равно в семье останется, – сказал Мартан-младший, утирая лоб рукавом и пытаясь этим замечанием понизить пафос сказанного поверенным. Старший, подобравшись поближе к тусклому свету, что за плотной завесой паутины был еще серее, повозился в записной книжке и наконец вытащил белый листок печатной бумаги, сложенный вчетверо: судя по черным потрепанным сгибам, его не раз передавали из рук в руки.
– Гляньте-ка, – сказал он, вручая листок Жирардану. – У меня одна, с возвратом.
– Не беда, – ответил поверенный, исполненный любопытства, и вновь надел очки. – Прочту здесь… А, да! Я слышал об этом, – промурлыкал он, – похоже, в горы Верхней Либрё проникли какие-то изгои, maquis [48] .
Он быстро просмотрел документ.
– Датировано августом 1943-го. Похоже, листовка самих партизан.
Он глянул на братьев.
– Вам прочесть?
Оба кивнули. Жирардан застенчиво поправил очки, откашлялся и начал. Его сухой, официальный тон постепенно теплел и напитывался волнением:1. Партизаны. Любой мужчина, желающий стать членом партизанского движения в объединенном Сопротивлении, не только отказывается от принудительных работ на немцев, но и становится добровольцем и бойцом Французской армии.
2. Он соглашается подчиняться строжайшей дисциплине партизан и неукоснительно исполнять все приказы, получаемые от вожака, назначенного или подтвержденного составом партизанской организации.
3. До конца войны ему запрещено общение с семьей и друзьями. Он сохраняет в полной секретности места укрытий и личности его командования и товарищей. Он понимает, что любое нарушение этого правила карается смертью.
4. Он подтверждает понимание, что никакую специальную помощь своей семье, способную вызвать зависть и предательство соседей, он оказывать не может.
5. Он знает, что никаких обещаний о регулярной оплате он получить не может, что его содержание и даже вооружение не гарантированы. Он подтверждает понимание, что любая мелочь, которую он получает, добыта и выдана постоянными усилиями, ценой огромных трудностей и крайней опасности для всего командования и связных. Он уважает частную собственность и жизни французов, союзников и простых граждан не только потому, что существование партизан зависит от взаимопонимания с населением, но и потому что партизаны – элита страны, и должны служить примером и доказательством того, что смелость и честность у подлинных французов всегда идут рука об руку.
6. Обеспечение партизанам питания и одежды могут вынуждать нас назначать мародерские налеты на лавки, на вишистскую полицию и даже на их склады продовольствия и обмундирования из государственной помощи или для заключенных.
Эти экспроприации сводятся к самому необходимому для выживания членов движения и осуществляются людьми, тщательно отобранными за их высокую нравственность. Как только нам это позволят поставки оружия, такие операции будут производиться исключительно в отношении резервов оккупационной армии.
7. Естественно, нет никакого различения по религиозным или политическим убеждениям среди добровольцев. Католики, протестанты, мусульмане, иудеи или атеисты, роялисты, радикалы, социалисты или коммунисты – мы рады всем французам, желающим воевать против общего врага. Доброволец клянется уважать мнения и верования своих товарищей. Терпимость – одна из высочайших добродетелей француза, и только прислужники Гитлера попытались внедрить во Франции фанатизм. Партизан не только уважает мнения и верования своих товарищей, но преданный друг им, брат по оружию. От этого зависит общая безопасность и лишь это может сделать сносной жизнь в укрытиях Сопротивления.
8. Доброволец-партизан будет вооружен, только когда его выдержка, навыки и дисциплина сделают его достойным получения нашего малочисленного и, следовательно, очень ценного оружия. Он должен тщательно заботится о своем оружии, содержать его в безупречной чистоте, всегда держать на себе или под рукой, кроме тех случаев, когда сдает его оружейнику лагеря.
Потеря оружия карается смертью. Это суровое, но необходимое для общей безопасности наказание.
Доброволец блюдет свое имущество и свое тело в посильной чистоте. От этого зависит его моральное и физическое здоровье, драгоценное для безопасности нации.
Каждый партизан – враг маршала Петэна и подчиняющихся ему предателей.
Да здравствует Франция!– Такие у них правила, такой закон, – сказал Мартан с гордостью.
– К чему мы катимся? – вздохнул Жирардан, тронутый, но и обеспокоенный. – Удастся ли нам избежать после всего этого еще и гражданской войны?
– Пошли с нами, – сказал Мартан, когда Жирардан дочитал все и вернул документ, а Мартан аккуратно сложил его вчетверо и засунул обратно, к себе в записную книжку.
– Куда? – спросил Жирардан.
– На чердак по соседству. Выходить на улицу не придется. Мы с братом построили лаз.
Жирардан вопросов больше не задавал. Следуя за старшим братом, он забрались на чердак их дома. Там, через дверь, скрытую в кладовке, забрались в деревянный проход, по которому доползли на четвереньках к дому рядом. Мартан выстучал условный сигнал и добавил:
– Это Мартан!
Дверь открылась. В комнате оказалось пятеро мужчин, они курили, а открывший им держал в руке ружье. Мартан-старший усадил Жирардана.
– Надо подождать, пока вожак закончит, – сказал он.
Пока ждали, Пьер Жирардан не мог отвести глаз от человека с ружьем, который уселся совсем рядом с видом скромным и стыдливым. Чувствуя, что на него смотрят, он не осмеливался поднять на поверенного взгляд. У человека с ружьем была сырая копна волос, полностью скрывавшая уши, с прямым пробором посередине, из-за которого его прическа напоминала женскую. Все лицо его было воспалено и изрыто и присыпано серно-желтой пудрой. Измаранная рубаха – штопаная и до того грязная, что ее будто сработали из гнилого мха и отбросов. К груди присохли остатки спагетти. Но стоило встретиться с ним глазами, становилось ясно, что это самые красивые синие глаза на свете, глаза невинного, чистой души, – и в тот же миг понятно, что под навозом скрыто сокровище золотого сердца. Другие партизаны, напротив – и несмотря на бедность, – одеты были аккуратно, с галстуками, и все утром побрились. Их вожак что-то писал за небольшой мраморной стойкой, защищая руку от холода камня, подложив под нее листок розовой промокательной бумаги, сложенной вдвое, и сдвигал ее по ходу письма, придерживая мизинцем. Этот человек только что осудил на смерть одного из своих товарищей – тот потерял оружие. У вожака партизан были коротко стриженные каштановые с проседью волосы до середины лба, и было ему всего четырнадцать. Когда он закончил писать, Жирардан подошел к нему. Вожак выпрямился и с сердечностью протянул ему руку.
Когда разговор завершился, Пьер Жирардан, по-прежнему в сопровождении Мартана, вернулся на четвереньках по деревянному лазу, выбрался из кладовки и спустился в хлев. Там он обнаружил Соланж де Кледа и Жени – те принесли перьевые подушки и с помощью Мартана-младшего усаживали поудобнее старуху. Жирардан едва поприветствовал Соланж и сразу бросился шептать ей на ухо возбужденно:
– Идемте со мной. Здесь нельзя оставаться ни секунды. Это опасно для всех нас. Прошу, скажите Жени, чтобы немедля шла с нами.
Жирардан взял Соланж под руку и открыл над ней громадный розовато-лиловый зонт, дабы защитить ее черную вязаную накидку. Когда они вернулись в обеденную залу Мулен-де-Сурс, Жирардан сказал ей:
– В Верхнюю Либрё пришел кое-кто из партизан; один их вожак только что попросил меня о встрече с вами. Я не мог отказать, ибо этот вожак – не кто иной, как ваш сын.
– Жан-Пьер – здесь? – воскликнула Соланж. – Когда я его увижу?
– Когда он вернется из короткой вылазки, в День Всех Святых, сразу после обеда. Я подумал, это даст мадам время, если она пожелает, поучаствовать в шествии. Тем же утром похоронят папашу Мартана. Нам удалось отложить погребение на пару дней – это поможет нам добраться на кладбище пораньше и спрятать все планы в держалках для свечей.
– Жан-Пьер здесь! – повторила Соланж, прижимая руки к груди.
Утром Дня Всех Святых паломничество в обитель Сен-Жюльен началось благоприятно, без дождя, хотя небо по-прежнему не прояснилось. В полдень Соланж де Кледа, сидя напротив виконта Анжервилля, отделенная от него всей ширью большого круглого стола, доедала в молчании приправленный розмарином постный суп с хлебными корками, в котором дрожали крохотные капли жира. Ложка Соланж безутешно скребла по тарелке, и д’Анжервилль поднял голову.
– Не могу больше есть, – сказала она, – все представляю встречу с сыном… Не знаю, что и думать, я такая маленькая и потерянная по сравнению с ним… Смогу ли я говорить с ним, как подобает в такой миг матери, но, в то же время, смогу ли скрыть гордость его отвагой, какую глубоко в сердце не могу не чувствовать: такой юный, а решился подвергнуть себя тяготам жизни изгоя из чистого патриотизма!
– Жирардан показал мне напечатанную листовку, обращение к партизанам, – сказал д’Анжервилль. – И впрямь очень впечатляюще.
Тут во дворе залаял Титан.
– Он уже здесь, это он! – Соланж, побледнев, поднялась из-за стола. – Прошу вас, – обратилась она к д’Анжервиллю, – идите наверх и велите Жени тоже подняться. Хочу быть с сыном наедине, без свидетелей.
Д’Анжервилль немедля встал – как раз в тот миг, когда в трапезную ввалился Жирардан.
– Мадам, – сказал он, подбежав приложиться к руке Соланж, – ваш сын уже здесь, но прибыл со свитой. Я удалюсь наверх и подожду вас, поговорим о последних приготовлениях. Все устроено, шествие к Сен-Жюльену начнется через два часа.
Д’Анжервилль, Жирардан и Жени поспешили наверх, закрыв за собой тяжелую дубовую дверь на вершине лестницы, обычно открытую. Оставшись одна, Соланж де Кледа ждала, опершись о стол; его не успели убрать, и посередине все еще курилась супница. Дверь открылась без предупредительного стука, вошли трое мужчин, посередине – ее сын. Он шагнул к Соланж, поцеловал ее в лоб и сурово произнес:
– Статья третья нашего устава запрещает нам общение с семьями. Как вожак я мог бы явиться без сопровождения. Не пожелал этого делать, ибо хочу, чтобы всем моим действиям были свидетели. Я здесь не как сын, а как изгой и боец. Я пришел требовать укрытия для шести моих людей – их нужно скрывать два дня – и заставить тебя исполнять хотя бы часть своих обязанностей, о коих ты, похоже, забыла.
Словно желая все тщательно обдумать, прежде чем говорить, Соланж помедлила с ответом. И наконец заговорила:
– Жан-Пьер, ты приказываешь своей матери сделать нечто, в чем, как ты понимаешь, она не сможет отказать: в гостеприимстве тебе и твоим людям, если они в опасности.
– Я мало что о тебе знаю, и то малое – скверно! – ответил Жан-Пьер, а сам подал знак сопровождавшим его выйти и сел в дальнем углу комнаты.
– Что скверно? – с тоской спросила Соланж, слабея, но все-таки держа себя в руках, с усилием призывая хоть какую-то отвагу.
– Во-первых и в главных – сдача водных ресурсов Мулен врагу, – ответил Жан-Пьер.
– Что тебе известно о причинах этого решения, какие могли у меня быть? – вопросила Соланж, чувствуя, что уже прибита к стене ее казни безжалостным ответом, который, она знала, даст ее сын.
– Никакая причина не извинит предательства нашей страны! – воскликнул Жан-Пьер.
– Послушай, сын мой, в Мулен-де-Сурс я вложила, к добру ли, к худу ли, все, чем владела сама и чем владел ты, и тем самым взяла на себя всю ответственность за управление ею, за ее будущее.
– Будущее! – повторил Жан-Пьер вполголоса, будто в припадке ненависти и презрения ко всему свету.
– Я отправила тебя учиться в Швейцарию, и так же, как твой возраст избавил тебя от ужасов войны, я желала избавить тебя от кошмара и бесчестья оккупации. Я все предусмотрела так, чтобы ты продолжал жить со всеми удобствами. Ты сбежал. Ты чрезвычайно юн для задач и ответственности, принятых тобою не только без моего согласия, но даже и без любовного совета; мог бы хотя бы уведомить меня как друга, раз уж решил презреть мое материнское право.
– Да, я презираю твое право, а какую же любовь ты мне выказала как мать или хотя бы как друг? Недельное посещение школы по расписанию, раз в год, и непомерные подарки ради утишения мук совести. Так вот, говорю тебе: я их ломал и рвал на части так, будто они представляли тебя саму. Теперь-то я знаю суть всего того светского блеска, что ты развела вокруг себя в Париже. Он стал символом поражения 1940-го!
– Сын мой, сын мой! – вскричала Соланж вне себя, и голос ее разодрали рыданья. – Если и хотела я сохранить Мулен-де-Сурс, то для тебя, Жан-Пьер, для твоего будущего!
– Моего будущего? – закричал в ответ Жан-Пьер. – Я из тех, чье единственное будущее – смерть!
– Откуда нам знать, – простонала Соланж, – что принесет конец этой войны? Что может случиться с твоим наследством?
– Я раньше погибну, – сказал Жан-Пьер, все еще срываясь на крик. – Но даже мертвым унаследую я твой срам!
Униженная, уничтоженная, Соланж приблизилась к сыну.
– Посмотри на меня, сын, если не желаешь слушать меня. Хотя бы взгляни на меня, и увидишь в моем лице, что я не полностью презренна! Взгляни на мои белые губы, смотри, как я страдаю!
– Я смотрел на тебя, Соланж де Кледа, и не вижу в твоем лице ничего, кроме остатков колдовской красы, которой ты охмуряла своих любовников, а если хрупка ты и болезненна, то лишь из-за мук несчастной связи с этим графом Грансаем, обесчестившим тебя!
Отвергнутая, растерянная, Соланж медленно повернулась, рыдая, и побрела к главной стене; там уткнулась лицом в ладони и оперлась о шершавый камень. Влага все еще сочилась по стене, и она прижалась к ней сильнее: холодная вода текла и смешивалась с ее кипящими слезами, и чувственность этого ощущения – вместе с ее страданьем – немедля усилилась. Перестав плакать, Соланж вновь обернулась к сыну. Но теперь она, казалось, не видела его, и загадочная улыбка довольства коснулась ее дрожащих губ. Это каменеющее выражение ее лица для Жан-Пьера было непостижимо.
– Почему ты так улыбаешься? – спросил он в бешенстве и беспокойстве. – Это презрение? Ты пытаешься меня задирать? Или ты спятила?
– Помолчи, – еле слышно прошептала Соланж, вскинув руку и опершись о стену. – Я чувствую, он уже близко… Теперь понятно – это началось прошлой ночью… Он собрался навестить меня… Это он, граф Грансай, он желает снова надо мной надругаться. Все мне сладко и горько: он, как ты, непререкаемый, и в нем нет жалости…
Жан-Пьер, совершенно ошалев, шагнул к матери, но та, словно избегая его прикосновения, ловко ускользнула и уселась за стол – потерянная в мечтах, недосягаемая для внешнего мира.
Она тихо плакала, не сопротивляясь потоку слез, улегшись грудью на стол. Белая ткань со столь близкого расстояния ослепила ее, и она закрыла глаза, спрятав лицо в ладонях.
– Ты тоже пришел надругаться надо мной, – сказала она. – Оставь меня, оставь меня! Ты сделал мне так больно!
В этот миг Жан-Пьера, быть может, посетил проблеск нежности – он протянул руку и мягко погладил мать по волосам.
– Уйди, сейчас же, мне больше не нужна твоя жалость!
Рука замерла. Уязвленная тем, с какой готовностью сын подчинился ей, как легко оказалось оттолкнуть его любовь, Соланж повторила:
– Уйди, говорю тебе… – и добавила: – Я отказываюсь укрывать твоих людей!
Соланж почувствовала, как ногти Жан-Пьера больно впились ей в кожу, кулак сомкнулся и убийственно дернул за волосы, вскинул ее голову и придавил к скатерти, – в щеку впились острые крошки черствого хлеба. Более она ничего не слышала. Но когда открыла глаза, в комнате был один д’Анжервилль, сидел рядом. Он поцеловал ее в уголок губ.
– Когда ваш сын ушел, – сказал он, и слова его мягко обдули ей щеку, – вы потеряли сознание – с блаженством на лице… и не переставали улыбаться.
– Ничего не помню… но знаю – он явится.
Она с тревогой взглянула в полуоткрытую дверь кухни.
– Все отправились на праздник Всех Святых, – сказал д’Анжервилль. – Я запер наружную дверь, так что если кто и придет, ему придется позвонить. Мы одни.
– Мне вдруг кажется, что зима кончилась, – сказала Соланж, – будто пришла весна. Увезите меня отсюда! – Д’Анжервилль помедлил, и она повторила: – Увезите меня отсюда, скорее, дорогой мой, готовьте лошадей, мне надо на свежий воздух. Поскачем до обители Сен-Жюльен, успеем к вечерней службе.
Когда д’Анжервилль вернулся с сообщением, что лошади готовы, она уже спускалась из своей комнаты – но вдруг замерла посреди лестницы, облаченная в облегающий жокейский костюм, какой д’Анжервилль не видел с их поездок по Булонскому лесу.