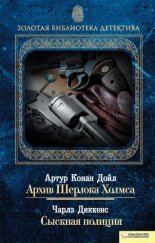Тридцать третье марта, или Провинциальные записки Бару Михаил

В следующем зале был устроен интерьер крестьянской избы, и на полатях лежала еще советская пластмассовая кукла-мальчик, одетая в красную рубашечку и черные штаны. Ноги у куклы были обмотаны белыми портянками. В одном углу стояла извечная прялка, а в другом — ткацкий станок с натянутыми нитками. Признаюсь, я небольшой любитель прялок, да и навидался их в различных провинциальных музеях в таком количестве… но директор сказала:
— Это прялка моей мамы. И ткацкий станок ее, и вышитые рушники, что висят на стене, — тоже ее работы.
После такого вступления, уйти из зала я уже не мог. Потрогал и прялку, и станок и даже куклу-мальчика погладил по голове. Стало почему-то грустно. Уйдут (уже почти ушли) те, кто может сказать: «Это прялка моей мамы»… Зато придут на смену им другие и когда-нибудь, через сто или двести лет, новый экскурсовод мосальского краеведческого музея скажет посетителю:
— Это скафандр моего дедушки. В нем он высаживался на Марс или на Плутон.
И покажет вмятину на шлеме от плазменной сковородки бабушки.
Когда мы прощались, стоя на крыльце музея, я поблагодарил директора за интересный рассказ. Она посмотрела на меня пристально и сказала:— А чего мне бояться. Я с завтрашнего дня на пенсии. Отдохну дома. Пора хоть немного для себя пожить.
Из-за ее спины выглядывала молодая и симпатичная женщина, которую директор отрекомендовала своей молодой сменой. Я понимающе покивал головой директору, а о молодой смене подумал:
— И не надейся. Каждый день, пока жива, она будет сюда приходить. Хоть билеты продавать, хоть чай заваривать, хоть полы мыть. И ты, конечно, будешь директором музея, но и она тоже им будет, а музей … музей замкнет ваш любовный треугольник, в котором нет и не будет ни одного лишнего.Как я проел Новый год, или Опыт исторических записок
Чем старше я становлюсь, тем сильнее хочется писать… нет, не мемуары. Мемуаров я не люблю. Представлять дело так, точно ты один д’Артаньян, а все остальные… неловко, а наоборот — глупо. Мне милее жанр исторических записок. Не тех, в которых описано заседание Государственной Думы или визит одного из наших президентов в какую-нибудь Европу с Америкой, но те, в которых описана жизнь человека частного, не государственного. Тут хороши подробности: что ели, с кем напились пили, кому проиграли в карты и чью коленку совершенно случайно потрогали под столом в гостях. Через сто… да что там — и через триста лет тебе эту коленку припомнят и поставят на вид.
Вообще говоря, наше время не оставило книг, по которым можно изучать как нас вот уже четверть века водят за нос по пустыне наши Моисеи Николаевичи и Авраамы Владимировичи. С более ранними эпохами историкам было проще: взял какую-нибудь «Малую землю» или «Возрождение» и изучай на здоровье эти, можно сказать, энциклопедии советской жизни. Теперь таких книг нет. Что же прикажете брать? Выражение «мочить в сортире» или «хотели как лучше, а получилось как всегда»? Эдак мы и до междометий докатимся. Впрочем, предисловие мое затянулось. Пора приступать к запискам. Пожалуй, я не стану писать всех записок сразу, а напишу для начала только фрагмент пятьдесят второй главы. Потом уж к этому фрагменту при желании можно будет приписать начало и конец.
Наступление нового, две тысячи десятого года, мы отмечали в деревне. Часов за пять до нового года начали резать салаты и нарезались клюквенной настойкой, привезенной одним из гостей из города Кашина. Время от времени во всей деревне отключалась электрическая подстанция, не выдерживая праздничного напряжения. Надо сказать, что праздничное напряжение в деревне почти всю зиму, поскольку аборигены еще со времен крепостного права отапливают свои жилища при помощи нехитрых устройств, называемых «козлами», которые присоединяют непосредственно к проводам на столбах. Нет, печи у этих козлов есть, но у них нет дров. То есть если бы кто-то им их привез и сложил возле печей… Но никто не привозит. Денег на покупку тоже нет. Нет топоров, пил, сил, бензина, чтобы поехать в близлежащий лес и попросту на… пилить этих самых дров. Да что дрова — денег не хватает даже на водку. Кстати, водка «Журавли», настоянная мною на перечной мяте с медом оказалась ничуть не хуже клюквенной настойки, а местами… На этикетке у нее было написано «продукт повышенной экологической чистоты». Что бы это могло означать? Не грязным пальцем деланная?
Потом мы смотрели по первому каналу мультфильм про двух кремлевских куплетистов. Представляю, как теперь принимает поздравления директор первого канала: сидит в чистых, сухих штанах, важно курит, пуская колечки, и качает ногой, заложенной за ногу секретарши. Держу пари, что еще за несколько минут до показа, даже после десятка согласований с вышестоящим начальством, был мокрый со страху и дрожал как мышь. Кстати, о мышах. У соседки по даче есть маленький песик. Из породы наладонников. Думали, совершенно городской и ест только йогурты с кусочками фруктов, а он вдруг победил в неравной борьбе мышь, вдвое превосходившую его в размерах, и немедля сожрал ее. Мало того, в благодарность за все хорошее принес хозяйке недоеденный мышиный хвостик с половинкой жопки. Вот я и говорю: наши-то куплетисты тоже маленькие и отважные по части пожрать. Хоть бы хвостик принесли. Не говоря уж о половинке жопки. Нет, если говорить о жопе вообще, то она у нас… и мы в ней… но это не совсем то, что хотелось бы.
И ведь что печальнее всего, когда приносят горячее, то на него уже никто смотреть не может, поскольку натрескались языка с хреном, малосольной селедки с луком, буженины с горчицей и всего подряд с майонезом и кетчупом. Вообще, майонез в русской кухне начала третьего тысячелетия точно надпись «Сделано в Китае» во всей остальной нашей жизни. Нет такого блюда, в которое его уже не добавили или вот-вот добавят. На этом месте опять выключилось электричество и в телевизоре умерли все наши Петросяны, Галкины, Басковы и Кобзоны.
К сожалению, разовое выключение не дает желаемого эффекта. Они там, внутри, как выяснилось, не умирают насовсем, а просто замирают. Если опять подать двести двадцать вольт, то они оживут. Хоть раз дать бы им туда, к примеру, пару киловольт. Потом вымести из ящика обугленные трупики и начать новую жизнь с чистого экрана.
Часам к трем утра, при свечах, сделали попытку перейти к сладкому. Самостоятельно этого сделать не смог почти никто. Некоторые из тех, кого тащили на себе более выносливые товарищи, умоляли, чтоб их бросили в горячем. Кстати, прекрасная водка «Маруся», которая и сама по себе содержит экстракт одуванчиков, настоянная дополнительно на ржаных сухариках и щепотке кориандра, приобретает вкус не просто клико, а клико-матрадура. Возвращаясь к горячему, могу сказать, что рюмка «Маруси» перед четвертью курицы, запеченной с антоновскими яблоками, точно горничная в полутемной прихожей будуара графини. [21]Зимний воздух переполнен колючим молчанием елок на опушке леса. Только понаделает своим острым клювом дятел в этом молчании десяток-другой дырочек, глядь слышь — они уж и заросли все. Если остановиться и замереть самым сильным замиранием, то можно услышать, как еле-еле шуршат оставшиеся еще с лета на стеблях засахаренной инеем травы крошечные прозрачные скорлупки из-под разноцветных песен зябликов и малиновок, электрического жужжания стрекоз и шмелей, как помирает со смеху в своей норе мышь [22] , объевшаяся конопляным семенем, как катается она по полу и дрыгает лапками, как возмущенно стучат ей в стенку разбуженные соседи — пожилой крот и многодетная землеройка, как далеко-далеко в онемевшем от холода небе беззвучно летит неизвестно откуда и куда самолет, в котором сидит немолодой, с залысинами пассажир, жует с остервенением кусок каучуковой аэрофлотовской говядины и думает: — Ну почему, почему они послали меня?! Послали бы Иванова из планового — он бы за день все уладил. Или Петрова… Да что Петрова — послали бы Сидорова из бухгалтерии! Этот вообще договорился бы обо всем по телефону. Нашли, понимаешь, мальчика для командировок. Вот я им сейчас как напьюсь прямо в самолете — мало не покажется! Попляшут еще у меня…
Зоологический факт: у мыши сердце бьется чаще нашего в пять раз. Потому и новый год мыши встречают в пять раз чаще нашего. Потому так много среди наших мышей хронических алкоголиков. Не у всех мышей лошадиное здоровье. Но это, конечно, касается городских. Полевки и землеройки справляют праздники чаще всего на трезвую голову. Им допивать не за кем. Редко когда удается им погрызть забродивших диких яблок или слив, или приедут к ним в гости городские родственники со своей выпивкой. Обычно это случается тогда, когда какой-нибудь мышиный новый год совпадает с нашим, что бывает не чаще, чем раз в двенадцать лет.
Тут-то и начинается веселье. Но перед тем как сесть за стол, мыши слушают поздравление мышиного короля. Местного, конечно. Понятное дело, что никакого радио и телевидения у землероек и полевок нет, а потому бегает король тридцать первого декабря по тоннелям в глубоком снегу из норки в норку и поздравляет всех до полного заплетания не только языка, но и усов, а в отдельных случаях и хвоста. За столом мыши долго не сидят, поскольку едят очень быстро.
После еды начинается у них разная художественная самодеятельность. Городские родственники представляют живые картины: бесплатный сыр в мышеловке или бой без правил за свиную сардельку, закатившуюся под кровать. Хозяева в ответ покажут пантомиму: как пьяного пастуха коровы домой волокут, или как молодая девка обед принесла трактористу. Еще и в сопровождении хора, исполняющего песню под названием «Не одна я в поле кувыркалась, не одной мне ветер хвост крутил».
Ну, а потом уж дело доходит и до танцев. До танцев мыши большие охотники. Начинают с древнего контрданса «Мышиный жеребчик», во время которого старики танцуют парами с молоденькими мышками. Контрданс состоит из нескольких фигур, одна из которых замечательна тем, что кавалер и дама обвивают друг друга хвостами за талии и в таком виде… Церковные мыши фигур этих не одобряют. Сидят в углу с постным видом и не одобряют. Угощаются в три горла и не одобряют. Потому их почти никогда и не приглашают на такие праздники.
За контрдансом следует молодежный танец — веселый и быстрый фокстрот «Мышиный горошек». Пляшут его и на задних лапках, и на передних, и на всех четырех до упаду. А после упаду все: и хмельные, и трезвые, и старые, и молодые пускаются в зажигательную плясовую под названием «Мышиная возня». Топают так, что на самом верху снежный наст трескается. Хохоту, писку… Кому из озорства на хвост соли насыплют, кому на ус наступят, кого обрюхатят ненароком…
Расползаются все под утро. Довольные, усталые и беременные.В поселке Борисоглебский, Ростовского района Ярославской области, в сотне метров от толстой стены Борисоглебского монастыря, в придорожном кафе «Ника», ко мне подошла маленькая черная и до того лохматая собака, что смотрела она не столько глазами, которых и углядеть-то было невозможно в шерстяных зарослях, сколько розовым пятикопеечным [23] языком. И этим самым языком она так укоризненно посмотрела на меня, что я немедленно отдал ей колбасу, несколько куриных косточек, немного макарон, ломтик зеленого огурца и с огромным трудом саму собаку подбежавшему на хруст куриных костей хозяину кафе.
Кашин
Чем милее русский провинциальный городок, тем больше он похож на девушку. Тихую и скромную. Мимо которой, однако, не пройдешь. Такую обманывать нельзя — на ней надо непременно жениться. Потому и рассказ об этой девушке должен быть рассказом о любви.
Городок Кашин в Тверской губернии как раз из таких девушек. Не знаю, не могу знать, что придает ему очарование: тихая ли речка Кашинка в кувшинкиных листьях, флоксы ли в палисадниках, задумчивые ли кошки на крылечках маленьких домиков или сами кашинцы, никуда не спешащие, похожие на полевые цветы, которых занесло невесть каким ветром в запущенный сад. По утрам они раскрываются от первых лучей солнца, по вечерам тяжелеют от росы, а осенью желтеют, вянут и опадают, чтобы весной снова расцвести. Если идти от центра Кашина к окраинам, для чего и получаса хватит, то дома из каменных превращаются в деревянные, улицы из асфальтовых — в грунтовые, а потом и вовсе становятся тропинками. Домики уменьшаются в размерах, и кажется, что в конце тропинки, того и гляди, превратятся в землянку или норку, в которую юркнет, обратившись в полевую мышку, какой-нибудь местный житель. Но нет, раз уж сказано — цветы, так пусть и будут цветами, хотя… живут кашинцы в таком единении с окружающим их миром, что наверняка могут быть и цветами, и мышками, и даже галками на крестах городского Воскресенского собора, в котором теперь дом культуры. По четвергам, с девяти вечера до часу ночи, в соборе дискотека. И недорого, всего двадцать пять рублей. Редких туристов администрация дома культуры пускает на второй ярус соборной колокольни. Вход на колокольню еще дешевле, чем на дискотеку. Правда, на двери, которая ведет на белую от голубиного помета винтовую лестницу, висит объявление, что вход закрыт по техническим причинам, но это все от злых духов пожарных, как объясняет словоохотливая старушка-вахтерша. На колокольне есть куранты с таким тихим и переливчатым боем, так что даже и не поймешь сразу: то ли это часы бьют, то ли Кашинка, текущая рядом с собором, журчит. А когда-то время в Кашине… Увы, нет, наверное, русского провинциального городка, рассказ о котором обошелся бы без этого «когда-то». Как ни спеши в них приехать, как ни собирайся в дорогу затемно, а все равно приедешь к закату, да и опоздаешь с визитом лет на сто, а то и на сто пятьдесят. А до заката была почти восьмисотлетняя история, был город и столицей Кашинского княжества, и собиралось в нем ополчение в Смутное время, чтобы идти освобождать Москву, были богатые купцы, торговавшие, льном, виноградным вином, знаменитыми кашинскими красками, считавшимися лучшими в России. Один купец основал в городе публичную библиотеку, другой — первую больницу, а третий — краеведческий музей. Кстати, деньги на строительство Вознесенского собора, четверть миллиона рублей, тоже дал купец — виноторговец Терликов, «во искупление грехов». А другой купец, хлеботорговец Жданов, пожертвовал для колокольни собора колокол весом в шестьсот двадцать пять пудов. Жданов был так богат, что хотел крышу своего особняка покрыть золотом и даже писал Александру Второму письмо, в котором испрашивал на то высочайшего соизволения. Может, это и не совсем так, или даже вовсе не так, но кашинцы эту легенду рассказывают уже более ста лет, и за это время она уж точно стала правдой. В местном музее смотрят на тебя с портретов на стенах строгие купцы с золотыми медалями «За усердие» на аннинских лентах. А рядом с портретами в рамках висят государевы указы о пожаловании им звания потомственных почетных граждан. Кашинские купцы были очень набожными. Почти все храмы в городе построены на их пожертвования. Четыреста лет назад на три с половиной тысячи кашинцев приходилось около семидесяти церквей и тринадцати монастырей. Сейчас, конечно, кашинцев больше. Раз в пять. А храмов меньше. Раз в десять. Один из них, храм Петра и Павла, стоит на пересечении улиц Крестьянской и Красных идей. Да-да, именно красных идей. Но про идеи, тем более красные, и без меня все хорошо известно.
Если покинуть эту улицу и дойти до Николаевского Клобукова монастыря, древнейшего в городе, который кашинцы называют меж собой Каблуковым, то во дворе, под небом, усеянным ласточками, можно отыскать поваленное и заросшее бурьяном надгробие кашинской поручицы Дарьи Ивановны Меньковой, скончавшейся в 1862 году, на восемьдесят четвертом году жизни… И не то чтобы жалко поручицы, она, слава Богу, пожила, или обветшавшего захолустного Кашина, который прожил еще больше, или… Нет, не жалость это. Любовь. Без которой о Кашине рассказывать можно, да только…
Кашинцы иногда жалуются, что лежит их городок вдали от туристических маршрутов. Напрасно жалуются. В книге отзывов кашинского краеведческого музея среди записей из разных городов есть запись из самого Санкт-Петербурга: «Спасибо! Пондравилось!»В ожидании автобуса на остановке в городке Протвино наблюдал стоящий неподалеку маленький грузовичок, на лобовое стекло которого с внутренней стороны была прикреплена табличка «Пустой и трезвый». В кузове грузовика из последних сил стоял нетрезвого вида мужчина в бейсболке. Он стучал кулаком по крыше кабины и кричал шоферу, маленькой, худой женщине: — Витя! Витя, блядь! Остановись!
Кострома
На центральной, Сусанинской площади Костромы, называемой местными жителями «Сковородкой», находится красивое здание пожарной части, увенчанное стройной каланчой. Пожарной части там теперь уже нет, но есть музей истории пожарного дела. А раньше, когда там была пожарная часть, в залах музея размещались учебные классы и начинающим безусым пожарным старшие товарищи с усами показывали, как надо баловаться со спичками, чтобы ничего не загорелось. Теперь это старинное искусство, увы, утрачено. Что спички — теперь и пожарные бывают без усов. И только баловаться со спичками все любят, как и сто лет назад. Да только ли со спичками…
Но мы отвлеклись. Чего только нет в музее: и каски брандмейстеров с двуглавыми орлами, и костюмы рядовых с пожарными рукавами, и даже ряд картин, иллюстрирующих народные суеверия, связанные с тушением пожаров. Считалось, к примеру, что пожар, начавшийся от удара молнии, надо тушить молоком. Вот и поливают молоком из ведер и кувшинов горящую избу дед со своею бабкой, и даже какая-то кормящая молодуха в исподнем, с дитем на руках, тоже, по мере сил и возможностей… Пожарных на картине не видно: они только-только прискакали, но уже чей-то могучий брандспойт блестит из-за спины молодухи.
На другом полотне бородатый мужик изо всех сил бросает яйцо через полыхающий дом. По народному поверью, освященное яйцо, перекинутое через горящий дом, мгновенно прекращало пожар. Горело часто, а вот освященные яйца были не у всех. Да и вообще — жили крестьяне бедно. Не только освященные, но и куриные яйца были не у всех. Вот почему бьется в истерике простоволосая баба рядом с мужем семьям погорельцев у нас всегда сочувствуют больше и подают охотнее, чем отставшим от поезда или потерявшим билет в кино.
Завершает экспозицию диорама под названием «Пьяное новоселье». В центре диорамы интерьер комнаты в новом доме. На полу валяются картонные коробки, чайники, многочисленные стопки связанных бечевкой книг. Возле продавленного дивана — деревянный ящик, на котором стоят полные и лежат пустые бутылки. На самом диване разбросаны непотушенные окурки. Чувствуется, что новоселы не просто упились в дым, но перед этим долго спорили об искусстве, литературе и даже философии…
Экскурсовод нажимает незаметную кнопочку и начинается пожар. Сначала мигают красные огоньки в ящике, на котором стоят бутылки, потом загорается диван, потом книжки. Через какое-то время система хитроумно устроенных зеркал представляет вам совершенно другой вид комнаты: закопченные стены и потолок, лопнувшие от жара стекла в окнах, летающий книжный пепел, кирзовые сапоги, обгоревшие до туфель. Магнитофонная запись при этом кричит голосами так и не протрезвевших погорельцев:
— Любка, сука, тут еще две бутылки водки было полных! Куда припрятала?! Да гори она синим пламенем, твоя водка, козел! Серегу тащи — он уж горячего копчения весь…
Ну, насчет магнитофонной записи я приврал, каюсь, но она могла бы быть. А может, эти слова нашептывал экскурсовод, стоящий у меня за спиной…
P.S. В одном из залов музея Ипатьевского монастыря солидный пожилой мужчина в модной норковой кепке спрашивает у заморенного экскурсовода:
— Девушка, я извиняюсь, у вас же этот монастырь Ипатьевский?
— Ипатьевский, да.
— Ну, а раз тот самый, в котором Романовы и все такое, то вы мне скажите, где у них тут дом Ипатьевский? У нас автобус уже скоро обратно пойдет, а мы только монастырь и успели осмотреть…Рассказ подводника
Я как в запас уволился, так с Камчатки в Кострому и приехал. Друг зазвал. Он тоже подводник. Как приехал — так сразу и работу стал искать. Хотелось мне поближе к воде. Пошел на один дебаркадер — не взяли. Не нужны там инженеры-электрики. И на другом отказали. А на третьем оказалось место в котельной. Аппаратуры у них там много было. Котлы, манометры и все такое. Зарплату предложили хорошую. Наличными, конечно. Тогда, в девяностые, про белую зарплату и не заикался никто. Ну, а я тем более. На флоте-то нас зарплатой не баловали. Работаю, значит. Месяц, другой. Хозяйство содержу в полном порядке. Начальство довольно. Зарплату не задерживают — день в день платят. А что у них за контора — мне без интересу. Я как пришел — сразу к себе на нижнюю палубу и к котлам.
Как-то раз подходит ко мне начальник — тот, что меня на работу принимал, и говорит:
— Ты, Константин Сергеич, работаешь хорошо — претензий к тебе никаких. Может, ты отдохнуть хочешь? Так, чтобы по полной программе.
У нас для своих скидки, а тебе по первому разу и вовсе бесплатно будет. Вроде как премия.
И подмигивает. Думаю: может, путевку какую хотят в дом отдыха дать или санаторий. А хрен ли мне эта путевка? Здесь на Волге не то, что на моей камчатской базе с лодками, здесь везде санаторий. Лучше пусть деньгами дадут. Мне семью кормить надо. Дочке скоро в школу. Так, значит, и говорю — лучше материально премируйте. А если нельзя деньгами, тогда ладно, давайте путевку, но чтоб я мог с женой и дочкой поехать. Само собой — их за свой счет.
— Нет, — отвечает начальник. — С женой и дочкой — это не к нам. У нас…
И тут оказывается, что я два месяца отстоял на вахте в плавучем борделе… У меня аж в глазах потемнело. Я, офицер, присягу давал…
Так и уволился. Как ни уговаривали. Даже и зарплату поднять обещали. Шел домой и думал:
— Не дай Бог жена узнает — убьет первым выстрелом из скалки.Павловский посад
Во дворе павлово-посадского историко-художественного музея живут гипсовые дети-инвалиды. Мальчик лет двух или трех, голый, выкрашенный когда-то серебряной краской, без рук и без, извиняюсь, причинного места. Может, это был наш ответ брюссельскому писающему мальчику, а потом у него жестокая цензура отбила руки, чтоб не баловался, чем не следует. Но он, видимо, не прекратил баловаться, и тогда отбили причину этих безобразий. Рядом с мальчиком еще один пьедестал, на него присела девочка лет шести, с косичками, но… опять с отбитыми руками. Ума не приложу, за что ее лишили рук. Неужто за то, что она у мальчика…
В музее экскурсантам по залам самостоятельно ходить воспрещается. К каждому приставляют экскурсовода. Не от обилия посетителей, а потому, что музейных старушек у них нет и следить за экспонатами некому. Вот и ходит с тобой вместе экскурсовод, точно конвоир и следит, чтобы ты не положил в карман старинный буфет или ржавый холодильник «Саратов», который стоит из последних сил в зале истории советского периода.
Начинается осмотр как обычно — с ледникового периода и мамонтов. Снег и лед на диораме с мамонтами желтый, но не потому, что у мамонтов энурез, а оттого, что вся эта красота сделана из строительной монтажной пены. Со временем пена от солнечного света станет коричневой, и можно будет строить новые догадки… Чуть выше мамонтов еще один кукольный театр с первым человеческим поселением в этом крае. Землянка на берегу Клязьмы с двумя доисторическими павлово-посадцами и еще с одним, плывущим по реке на лодке-долбленке. Человечков для этой картины покупали в игрушечном магазине, а там, как на грех, в тот день древних северных людей не завезли, а завезли индейцев и горилл, потому и провожают две обезьяны, в накидках из шкур, а не в расписных платках, плывущего в лодке индейца с отломанным копьем.
В маленьких провинциальных музеях время из-за нехватки места течет стремительно и уже следующая витрина представляет нам быт рабочих местной мануфактуры. В тесной комнате, под сохнущим на веревках исподнем, под часами с кукушкой, под фотографиями предков… все лежат. Лежит за столом, уронив голову на руки, мужик в поддевке, лежит баба на кровати, у люльки с младенцем полулежит на табуретке молодуха, поставив почему-то ноги в таз. А вот глава семейства, остекленевший, со сжатыми кулаками, сидит так, как будто хотел лечь, но не смог. И такое ощущение, что у всех внезапно кончился завод. Или водка. Не лежит только крошечный лысый малец, сидящий на горшке спиной к зрителю. У него ничего не кончилось. Все только начинается.
За скрипучими дверями следующего зала быт мещанства и купечества. Величественные, точно Титаники, комоды и немецкие настенные часы. В детстве в доме у дедушки мне довелось просыпаться и дрожать от страха в полночь под их оглушительный, артиллерийский бой. На дубовом столе лежат чудом сохранившиеся французские журналы мод, которые павлово-посадские купчихи выписывали из самого Парижа. Шляпки умопомрачительные. А осиные талии моделей… Представляю себе, сколько горючих слез пролили наши краснощекие, упитанные Прасковьи и Акулины, глядя на эти талии. Впрочем, не думаю, что это кто-то из них пририсовал усы и бороду одной из парижанок. Это, скорее, какой-нибудь младший братец, стервец этакий. Мало того что у папеньки папироски таскает, так еще и художествами своими журнал испоганил.
А вот макет дома. Красивый двухэтажный особняк из красных кирпичиков. С балконом, с резными деревянными колоннами и башенками. Но ценен он нам вовсе не этим, а тем, что в нем в начале прошлого века была подпольная типография большевиков. А уж после семнадцатого года, как большевики повылезли из подполья, так от этого дома и остался один макет.
В советском зале оглушительно пахнет прокисшими щами. Черт его знает почему. Может потому, что была здесь столовая или кухня. Здание музея в прежних своих жизнях было санаторием для передовиков производства, а потом детским садиком. Дети выросли, передовики оказались в… короче говоря, не в авангарде, а вот запах остался. Под потолком зала, на карнизе типа «струна», висит красное знамя, которое вручили в день тринадцатой годовщины административному отделу красной милиции. Замечательно это знамя тем, что вышито на нем золотым шитьем с ошибкой «от призидиума павлово-посадского РНКА». А еще там есть сокращение прилагательных перед милицией — «раб. крест.», которые до эпохи исторического материализма были существительными… да так ими и остались.
В этом же зале обнаружился совершенно целый гипсовый мальчик. Но он был не родственник голому калеке во дворе. Он был наоборот. С хитрым прищуром недетских глаз. В одежде, с книжкой и кудрявый. Нет, не так. Правильно — «с кудрявой головой». Этот мальчик «бегал в валенках по горке ледяной». У меня был значок с его портретом. Потом от него отвалилась булавка, которой он прикреплялся к школьному пиджаку. То есть она не сама отвалилась, а мы подрались с Вовкой, но не с тем, который на значке, а соседом по парте… Впрочем, все это было давным давно в моем детстве, а не в Павловом Посаде, и к нашей экскурсии не имеет никакого отношения. Хотя, мне потом всыпали и за значок, и за треснувший по шву пиджак по первое число.
В последний, военный зал музея надо входить осторожно. У входа в зал, под макетом березы из нее же спиленной, стоит макет героя отечественной войны с французом, партизана Герасима Курина, с таким свирепым лицом, что его боятся даже экскурсоводы. Одет он в какое-то пальто женского покроя грязно-горохового цвета. Подпоясан партизан розовым кушаком, за который засунут топор, купленный, вероятно, в ближайшем хозяйственном магазине.
Дополняет наряд Герасима Гламурина розовая косоворотка и синие рукавицы.
Совсем уж на выходе, в маленьком коридорчике, стоят два сундука. Они украшены резьбой и обиты ажурными железными и медными накладками. Когда поворачиваешь ключ в замке такого сундука, то раздается громкое и мелодичное «дзынь». Так что, когда хозяин укладывал в него добро или доставал, семье было слышно. И завидно. А некоторым, поди, и тошно.
Да! Совсем забыл упомянуть про знаменитые павлово-посадские платки и шали. Есть, конечно, в музее отдельный зал с платками, с приспособлениями для их раскрашивания, но… я расскажу про другое, которое, на самом деле, про это же. В нескольких километрах от музея стоит Покровско-Васильевский монастырь. Когда я подходил к монастырскому собору, то увидел двух девушек. Вполне современных смешливых девушек в брюках, ярких майках и с рюкзачками. Стояли они у входа и что-то искали в своих рюкзачках. Одна так ничего и не нашла, а вторая достала огромную шаль, которой, за неимением платков, они и накрылись. Еще и завернулись в нее по пояс. Так и вошли, тесно прижавшись друг к дружке. Так и крестились, и клали поклоны одновременно, так и свечи ставили — все в ярких астрах, георгинах и золотых красных листьях. А как вышли из храма, так и пошли, позабыв снять шаль, по дорожке монастырского сада, шурша опавшими золотыми и красными листьями, мимо клумб с астрами и георгинами… Что ни говори, а сразу два бабьих лета в одном саду не часто увидишь.Остановка в пустыне
А указателей к ней и нет никаких. Как доберешься до границы округа Кольчугино, так свернешь с асфальта и пойдет белый от пыли проселок, на котором, точно хлебные крошки на скатерти, рассыпаны то тут, то там стайки воробьев. Километра через полтора будет село Богородское, с худыми, загорелыми дочерна местными жителями и рыхлыми, белотелыми дачниками. И то сказать — какое село… Церкви в нем нет, а может, никогда и не было. Деревня деревней. Зато большая. Впрочем, в нее и въезжать не надо. Как раз у ржавого указателя свернуть налево и пойти по кривой, раскисшей от беспробудного пьянства, разбитой колее деревенскими задами мимо… Нет, конечно, можно спросить у пастушки [24] в рваных кроссовках и засаленной джинсовой куртке с чужого, в три раза большего плеча, как пройти, но она вряд ли ответит. Поковыряет задумчиво в носу, махнет неопределенно рукой в небо, попросит закурить и отвернется разговаривать со своими козами. Так что лучше идти мимо. Пройти заброшенные силосные ямы, на месте которых растет могучая и свирепая крапива, пройти давно разложившийся труп трактора со следами пыток сварочным аппаратом, кувалдой и какой-то матерью, пройти пасущегося черного теленка, привязанного к покосившемуся забору. То ли забор удерживает теленка от самоволки, то ли теленку наказали в случае чего не дать забору упасть… Дальше колея выведет на пригорок, с которого откроется поле с изнемогающими от жары овсами и небо с двумя или тремя высохшими и сморщенными от долгой засухи облачками.
Вот по краю этого поля и неба надо пройти еще километра четыре мимо важных ворон государственного вида, бредущих по колено в пыли, мимо малиновых зарослей иван-чая, мимо высокой и серебристой песни жаворонка. Тут-то ты ее и увидишь. Сначала не всю, а только верхушку колокольни, заросшую чахлыми кустиками. Колея мало-помалу будет зарастать травой, ромашками, пижмой и повиликой. В конце концов, она из последних сил доплетется до оврага и упрется в ручей. Можно, конечно, его перепрыгнуть и пойти дальше, а можно разуться и переходить долго-долго по гладким блестящим камешкам, по мелкому желтому и красному песку, жмурясь от наслаждения. А как выберешься из оврага — так вся она как на ладони и будет. Только продираться надо еще с полкилометра по лугу, заросшему огромным, в человеческий рост, чертополохом.
Сама церковь, приземистая и дородная, с темными провалами окон, почему-то напоминает добрую русскую печь из сказки про гусей-лебедей. Вот-вот раскроет рот и предложит… Но некому. Вокруг леса, поля и овраги. Поблизости нет ни деревни, ни хутора, ни даже домиков вездесущих дачников. Да и дородная церковь только на первый взгляд — там пролом в боку, там трещина змеится, там угол отгрызен, точно грызла его огромная крыса, да и подавилась кирпичами. Обескровленный купол зарос разными деревцами. Сейчас, в середине августа, он еще зелен, а к сентябрю покроется мелким березовым и осиновым золотом.
Внутри прохладно. Во всю ширь одной из стен ходят волны Галилейского моря, рыбаки жмутся друг к дружке в лодке и с надеждой смотрят туда, откуда исходит Свет. Он исходил и исходит… но не здесь. Здесь его выломали, вырвали из стены, обнажив красную кирпичную плоть. Где-то над головой в гулкой пустоте летает шмель и жужжит, жужжит монотонным басом, словно пономарь. В маленькой стенной нише, в которой когда-то была икона или чаша, или… Бог знает, что там было. Теперь там пустое прошлогоднее гнездо из серой соломы. Их много, этих покинутых гнезд.
Из окон, из провалов в куполе падают на мозаичный пол столбы света. Может, и держится храм на этих столпах. Точно на них. Да и не на чем ему больше держаться. Если встать у входа, то за анфиладой арок, за проломом в алтаре можно увидеть «через призму церкви» заброшенное и разоренное кладбище. Немногое от него осталось. Пять или шесть могил, заросших бурьяном. На одной из них до сих пор торчит, воткнутый в землю, когда-то красный, а теперь почти белый букетик искусственных цветов. На другую упала высохшая липа и повалила крест. Рядом с крестом, еле видный в густой траве, лежит небольшой осколок от церковного колокола. Где-то внутри этого осколка, как в глазах умирающего, еще осталось отражение комиссара в кожаной тужурке, размахивающего наганом, пьяных мужиков и голосящих баб. А может, и не осталось. Нам все равно не увидеть.
Чуть поодаль еще одна могила. Разрытая, с вывороченной могильной плитой и разбитым мраморным надгробием, бледно-зеленым от наросшего мха. На надгробии высечен ангел. Лицо у него отбито. Обычно у ангелов крылья отбивают, а у этого — лицо. Наверное, чтобы не смотрел. И не кричал.
А как будешь уходить от церкви, от ее Галилейского моря, от рыбаков в лодке, от столпов света, от ангела, от пустых окон и опустевших гнезд… — то и окажется, что некуда.Гаврилов посад
Гаврилов Посад, что в Ивановской губернии — это медвежий угол, страшное захолустье, конец географии, истории и биологии маленький, наивный, точно картина Пиросмани, городок, живущий как бы с бодуна спросонок. Если ехать к нему по дороге через Юрьев-Польский, то надо проехать деревню Бережок, которая стоит как раз по берегам преогромных пяти или даже шести луж. Места там не курортные и не туристические. Сельские жители не выносят проезжающим на обочины ни ягод, ни грибов, ни картошки. Редко-редко увидишь какое-нибудь ведерко с перезрелыми огурцами. Не сидит рядом с ним ни старушка с кроссвордом, ни конопатый мальчонка, ковыряющий от скуки в носу, ни даже смышленая деревенская Жучка. Только смотрят на тебя с тоской и немой укоризной подслеповатые окошки избушек на полиартритных курьих ножках, которые и повернулись бы к лесу передом, а к тебе задом — да сил у них на это никаких не осталось. Въедем, однако, в Гаврилов Посад. В самом центре его, на пересечении улиц Дзержинского и Розы Люксембург или Карла Либкнехта, или вовсе Советской, стоит бывшее здание бывшей дворянской гостиницы, построенной два века назад по проекту Карла Росси. Бывшее здание потому, что обветшалость и облупленность его описанию не поддаются. Теперь там бомжует краеведческий музей со скрипучими полами, протекающим потолком и непременным бивнем мамонта в первом зале и пулеметом системы Максим в последнем. А между бивнем и пулеметом был богатый купеческий город, лежащий на пути из Москвы в Нижний. Путь этот назывался Стромынка, и от него осталась только московская улица с тем же названием. Был царский конный завод, заведенный еще при Грозном, крахмальная фабрика, производившая дамскую пудру, которую, если верить воспоминаниям князя Долгорукого, государыня Екатерина Великая предпочитала любой другой, хоть бы и французской. На месте этой фабрики еще можно видеть огромную яму, в которую ссыпали картошку. А внушительное здание конного завода, отстроенное при Анне Иоанновне попечением Бирона, все стоит и от него обнадеживающе пахнет конским навозом. В войну двенадцатого года и после нее стояли здесь пехотные и гусарские полки. Еще остались частные дома, в которых квартировали тогдашние корнеты, поручики и ротмистры. В музее, в старинном дубовом буфете, хранится резная шкатулочка, в которой собраны чудом сохранившиеся страстные вздохи и томные взгляды, которые мещанские и купеческие дочки и жены бросали на бравых гусаров. Говорят, что зарево от тогдашнего московского пожара было видно в Гавриловом Посаде. Теперь в сторону столицы, хоть и гори она синим пламенем, не смотрят. Смотрят все больше за белыми и рябыми курами, перебегающими перед машинами улицу на тот свет, за собственными огородами да за лошадями на конном заводе. Из московского в Гавриловом Посаде только мороженое «Мажор» в ларьке на местном рынке да мечты о заоблачных столичных зарплатах. Местные и даже губернские ивановские власти давно обещают… и будут обещать. На то они власти. Бог им судья. Зато, если забраться на заброшенную колокольню церкви Ильи Пророка, что на Пионерской или Первомайской, или вовсе Октябрьской улице, то откроются такие золотые поля и такие зеленые леса, уходящие в небеса такой пронзительной синевы, что никаких крыльев не хватит их облететь.
О провинциальных музеях
В каждом нашем провинциальном музее есть непременный набор экспонатов, без которых решительно невозможно его существование. В самом первом зале это трухлявый бивень мамонта. И в музеях самых южных губерний, куда мамонты не забредали даже по пьянке, такой экспонат имеет место быть и лежит у входа в макет землянки, обрамлённый россыпью кремниевых скребков и рубил по пальцам, которые местные археологи-любители во множестве изготовляют находят на своих огородах.
За бивнем идут позеленевшие бронзовые гвозди, найденные при рытье котлована под городские бани, каменные горошины бус величиной с грецкий орех, фибулы, височные и годовые кольца древних славянок и понаехавших хазарок с половчанками. В той же витрине лежат обломки первых самогонных аппаратов глиняных горшков, чарок и турок, которые уже в те времена приезжали торговать к нам турецкой кожей, содранной с рабов, и дешёвыми золотыми цепочками из медной проволоки.
Перейдем, однако, в следующий зал, посвящённый татаро-монгольскому нашествию. Здесь и берестяные грамоты с первыми нецензурными выражениями, принесёнными нам завоевателями, и диорама героической обороны города, похожая как две капли медовухи на оборону Козельска или Твери. В углу диорамы мизансцена: двое наших скребут вражеского лазутчика, переодетого русским, до тех пор, пока не обнаружится татарин. Как же так, воскликнете вы, да в эти дремучие архангельские или вятские леса не токмо татары с монголами, но даже и евреи со скрипками никогда не забредали! Что ж из того? Наша история не есть камень, лежащий дураком у дороги, но полноводная река, которую мы то перегородим плотиной, отчего она затопит все дома в округе, то построим над ней мост и станем с него плевать на воду, то станем поворачивать её вспять, то решим переплыть, как три мудреца в одном тазу, и заплывём… к примеру, в архангельские леса. Да и вообще, вы бы ещё спросили, что делать и кто виноват. Не в нашей привычке задавать вопросы, на которые, как всякому у нас известно, нет и не может быть ответов. А те, у кого они есть, пусть бы и предлагали нам свои ответы, но мы у них не возьмём, даже и даром. В нашей привычке — почесать в затылке, вздохнуть, послать всех на и побрести дальше.
А дальше — нотариально заверенная копия указа Ивана Грозного о взимании с города налога на мобильную ямщицкую связь, батоги, которые государь и великий князь изволил обломать о спину местного воеводы, написанная на полях приказной книги окаянная дума думного дьяка, сосланного в эти края за мздоимство не по чину, кошель с серебром одного из сподвижников Стеньки Разина, подобранный им на большой дороге у проезжающего, и неподъёмные амбарные замки от неподъёмных купеческих дочерей.
От петровских времен остались нам пушки, отлитые в первый, но не в последний раз из церковных колоколов, кучки ядер, портреты генерал-фельдмаршалов с красными лицами, заржавевшие шпаги, похожие на муравьиные кучи макеты железоделательных заводов и адмиралтейские якоря, которые можно найти даже в самой что ни на есть сухопутной российской глухомани. Петр Алексеевич, как известно, куда ни заезжал, так сразу, ещё и не обрив бород заспанным боярам, приказывал строить флот. И строили. Где фрегат, где галеру, а где обстоятельства не позволяли — там ботик. Хоть щепку под бумажным парусом, но по ручью пускали, а уж потом, потной от страха рукой, писали царю отчёт о лесах, порубленных на этот ботик, о сотканных вёрстах холста на паруса и просили, просили денег на новое кораблестроение. И вот ещё что — от того времени остались в наших музеях такие огромные кубки и даже рюмки для вина, в которых и большому кораблю было большое плаванье.
Как хотите, а мой любимый зал — это быт дворянских усадеб позапрошлого века. Тут тебе и ломберные столики под зелёным сукном, и портреты внушительных предводителей дворянства, тётушек с усиками, дядюшек с пышными бакенбардами, насупленных предков до седьмого колена, стулья из карельской берёзы с гордо выгнутыми спинками, преогромный дубовый письменный стол с хрустальным письменным прибором, в котором упокоится еще с Тильзитским миром захлебнувшаяся чернилами муха. А вот миниатюрная перламутровая коробочка, на крышке которой едва заметен истёршийся цветок. В таких коробочках девицы хранили пилюли от меланхолии, романтической бессонницы и учащённого сердцебиения. Дамы же солидные и умудрённые житейски клали туда что-нибудь от несварения желудка. Рядом стоит надтреснутая гарднеровская чашка с субтильной пастушкой, которая на самом деле была ядрёной и краснощёкой Евдокией или Прасковьей, подававшей утром барину кофей в постель до полного изнеможения. В углу дивана лежит в кожаном переплёте французский философический роман, которым удобно давить мух, перед тем как завалиться спать после обеда, стаканчика какой-нибудь рябиновки и двух выкуренных трубок…
Здесь бы реке времени и остановиться, но она несёт свои воды дальше, дальше — к прокламациям, матросским бескозыркам, комиссарским кожанкам и чекистским наганам, расстрельным спискам и революционным знамёнам. Что ж тут можно поделать… только и остаётся, что тихонько, не скрипя половицами и не разбудив вечно спящую музейную старушку, выйти на улицу и пойти пить пиво с такими же праздными мечтателями и бездельниками, как ты сам.Дом-музей Н. Е. Жуковского в деревне Орехово
В усадьбе Николая Егоровича Жуковского, отца нашей авиации, есть зал с разными моделями самолетов. Ничего себе модели. Бывают и лучше. Есть там и два огромных пропеллера, один из которых Жуковский собственноручно выточил на токарном станке. Ничего себе пропеллеры. Теперь таких не носят. Но есть там один маленький игрушечный пропеллер, которому цены нет. Этот пропеллер маленькому Коле выпилил лобзиком его крепостной дядька Варфоломей Усатов. Коля был ребенком упитанным и не очень поворотливым. Вот Варфоломей и придумал ему пропеллер, который называл просто вертушкой. Сначала вертушку прибили на палочку для того, чтобы Коля бегал с ним и развивался физически, а уж потом не по годам сообразительный мальчик попросил закрепить ему пропеллер на спине, на лямках штанов. Когда мать Коли увидела, как ее сын в штанах с пропеллером приготовился прыгнуть с крыши сарая, то, прежде, чем упасть без чувств, успела крикнуть:
— Руки расставь! Руки…
До открытия ее сыном закона о подъемной силе крыла оставалось каких-нибудь пятьдесят лет.
Вообще, мать Николая Егоровича сделала многое для того, чтобы он еще в самом юном возрасте заинтересовался небом. Она часто играла ему на рояле польку-бабочку, народную песню «Летят утки» или читала стихи «Божья коровка улети на небо…». Но самое большое впечатление на маленького Колю произвела народная украинская песня «Чому я не сокiл, чому не лiтаю», которую спел ему сам Тарас Григорьевич Шевченко. Честно говоря, Шевченко оказался в усадьбе Жуковских по ошибке. Он ехал в гости к Василию Андреевичу Жуковскому, но к тому времени, как Тарас Григорьевич к нему собрался, тот давно умер. Шевченко, поскольку был самородок, об этом даже не подозревал.
Кроме самыих различных черновиков великого ученого, исписанных аэродинамическими уравнениями, в музее есть небольшая ученическая тетрадка, в которую Жуковский записывал пословицы и поговорки, переделанные им в часы досуга на «авиационный» лад. Вот лишь некоторые из них: «со свиным крылом в калашный ряд»; «курица не птица, а у братьев Райт не самолет»; «самолет всегда падает летчиком вниз»; «левое крыло не знает, куда машет правое»; «любишь летать, люби и в гипсе ходить»; «семь раз взлети, один раз сядь»; «первый самолет комом»; «слово не самолет — вылетит не посадишь»; «у летчиков мысли сходятся»; «у семи конструкторов самолет без крыльев»; «что русскому хорошо, то немцу штопор».
Мало кто знает, что именно Николай Егорович первым предсказал и даже рассчитал появление стюардесс на самолетах. В первом аэродинамическом уравнении есть член, связывающий размеры стюардессы и подъемную силу авиатора крыла. Более того, преобразуя этот член в бином Ньютона, можно легко получить всем известное соотношение девяносто-шестьдесят-девяносто! При жизни ученого, когда хлипкая летающая этажерка с трудом поднимала одного летчика, стюардесс невозможно было себе даже вообразить. Первые конструкторы самолетов часто смеялись над Жуковским, но он не отвечал на эти булавочные уколы. Много лет спустя в рукописях Николая Егоровича исследователи обнаружили часто встречающиеся на полях рисунки стюардесс. Иногда это даже и не вся стюардесса, а ее ножка или какая-нибудь другая часть тела.
После семнадцатого года большевики у Жуковского усадьбу экспроприировали, но оставили ему комнатку в мезонине. В ней он и жил, когда наезжал в свою бывшую усадьбу поработать и отдохнуть. На балкон Николай Егорович никогда не выходил, поскольку с детства, особенно после падения с крыши сарая, боялся высоты.
Теперь перед входом в усадьбу стоит списанный МиГ-17. К самолету прикреплен такой же списанный летчик. Зимой кабина истребителя заперта, а летом летчик сидит в ней во время экскурсий, одетый в полную летную форму. Иногда он по просьбе экскурсантов мастерски кашляет, изображая перебои в работе двигателя, а иногда кашляет и без просьбы, по возрасту и состоянию здоровья. Бывает, что и заснет в кабине. Тогда экскурсовод его будит, стуча кулаком по летному шлему. Я заглянул в воздухозаборник самолета: там лежит горсть опавших листьев и огрызок яблока.Серпухов
Последний день марта. В Серпухов приехал большой цирк лилипутов. Большая жёлтая афиша с синими буквами. Будут выступать в городском театре, который ещё в позапрошлом веке построил местный купец. Как склад самоваров построил. Уж потом его переделали в театр. Бархату красного завезли, кистей золотых, лепнины гипсовой намешали — и сделали театр. Он без претензий. Отзывается на «гортеатр». И сто лет назад в него приезжали лилипуты, и пятьдесят, и сейчас. И мы все умрём, а лилипуты все равно будут приезжать в Серпухов. Просто он лежит на пути их сезонных миграций. Весенних, должно быть. Осенью лилипутов у нас не замечали. А вот весной, когда грязь, когда мусор какой-то несусветный так и ползёт изо всех щелей, когда оттаивает замёрзшее собачье дерьмо, когда авитаминоз, когда кулаков не хватает сопли наматывать, когда даже руки на себя наложить сил никаких нет, тогда нате вам — ещё и этих блядских лилипутов принесло.
В углу церковной лавки серпуховского Владычного монастыря стоит стол, а у стола — пожилая пара и пишет заздравную записку. Вернее, пишет жена, а муж стоит, вздыхает, мается и с неизбывной тоской смотрит в сторону прилавка, уставленного бутылками с церковным кагором. Жена старательно выводит имена и шепчет про себя:
— Вера, Анатолий, Елена…
Муж вдруг спрашивает:
— Это что ж за Елена такая?
— Со второго этажа. Ты ее не знаешь. Да какая тебе разница-то?
— Почему это не знаю? — раздражается муж. Может, и не знаю. Нужна она мне больно. И вдруг прибавляет: — тогда и Татьяну впиши.
— Вот еще, — шипит жена, — вот уж кто-кто, а эта обойдется.Посетил с дружественным визитом Серпуховский историко-художественный музей. Мы с ним дружим очень давно, хотя и редко встречаемся. В среднем раз в десять лет, не чаще. Посмотрел на старых голландцев, на передвижников. Поскрипел вытертым паркетом. Подышал воздухом старинного купеческого особняка. Погладил мраморные, в трещинках и оспинках, подоконники. Пожертвовал толику денег на реставрацию. В одном из залов стояла фанерная тумбочка, в которые обычно собирают пожертвования на дела церковные. Собственно, она такая и была, только нарисованный храм закрывала бумажка, написанная сотрудниками музея. Когда деньги свои засовывал в прорезь жертвенной тумбочки, старушка, что за залом присматривает, сказала: «Дай Бог здоровья». Обветшал мой друг. Сильно обветшал. Латунные таблички на картинах темнее темного. Что написано, и не разобрать почти. Смотрел по памяти. Помню, где Рокотов, а где Левицкий, где Шишкин, а где Айвазовский. Картин много — висят и в залах, и в коридорах, и в полутемных закоулках. Как больные в переполненной районной больнице. Не стонут, не жалуются. Позолота с рам облупилась, лепнина с потолков высматривает, как бы шмякнуться поаккуратней, чтобы не задеть старушек-смотрительниц. А старушки… Никто уж и не упомнит, когда их в последний раз реставрировали. Тихо-тихо они шуршат по залам, даже и паркет под ними почти не скрипит. Уж когда уходил, то подумал, что неплохо бы мэра серпуховского за его отношение к музею подвесить за яйца перед входом. Мэр, конечно, скажет, что он-де не виноват, что это все при его предшественнике музей дошел до такой разрухи…. А и предшественника за это же самое место рядом подвесить. Пусть оба повисят, подумают на этаком досуге о судьбах нашего общего культурного наследия.
Снегу навалило по колено. Мороз еще, конечно, не воевода, но уже и не простой стрелец. По такому морозцу и поехал я покупать себе зимнюю шапку на серпуховской рынок.
Продавец, жгучий брюнет-кавказец, в своем вступительном слове — докладе тосте о достоинствах той шапки, на которую я имел неосторожность посмотреть, сказал, что ей не будет ни сносу, ни сглаза. В их семье такие шапки передаются от отца к сыну, а от сына к внуку. И все равно — шапка не снашивается. Чтобы добро не выкидывать, потом отдают какой-нибудь дворовой жучке или мурке, а те уж в ней хотят сами бегают в лютые холода, а хотят щенят с котятами высиживают. Отдельно было сказано о достоинствах меха и замшевого верха. Выходило так, что если погладить рукой замшевый верх, а сразу за ним жену и после этого еще и не убояться сравнить нежность замши и жены… После этих слов я решился на примерку. Шапка была хороша, конечно, но, как мне показалось, немного тесновата, о чем я и сказал продавцу.
«Брат», — ответил тот, — «посмотри на свою голову. Она такая же, как и моя». Мне эта шапка даже чуть-чуть велика, потому, что у меня нет твоей бороды. Он снял с моей головы шапку и надел на свою. Потом он вновь надел ее на меня, а мою старую шапку, в которой я был, нахлобучил на себя. «Ну», — сказал он, — «ты видишь разницу? Каким ты пришел сюда и каким можешь уйти?» Я колебался. В последующие пять минут он перемещал шапки с головы на голову со скоростью опытного наперсточника. Я и не заметил, как в процесс примерки вовлекли стоящего рядом похмельного мужичка с бутылкой пива. Его бритая голова была размером с большое антоновское яблоко и приблизительно такого же цвета. На нем, кстати, моя старая шапка приободрилась. Когда от моей головы уже шел пар, я сдался. Продавец настоял, чтобы я шел домой в обновке. Для старой шапки мне был выдан пакетик и наказ отдать ее первой попавшейся жучке.
Товару теперь на серпуховском рынке много и разного. Продавцы поют на разные голоса. А уж обходительны…
— Мужчина, Вам понравится. Вы ж посмотрите, какая кожа! Практически телячья.
— А по виду свиная… Точно свиная.
— Мужчина, верьте мне, верьте. Оно, конечно, свиная, но на ощупь практически телячья. Курточки свежие, только утром привезла. Еще тепленькие. Телятинка…
— И почем кило?
К прилавку подходит семейная пара. Он — мужчина в расцвете сил с неликвидами размера эдак шестидесятого. Она… он отдыхает.
— Вова намеряй-ка вон ту, с пуговичками на боках.
— Женщина, ну что вам сказать? Просто очень! Верьте мне. И Владимиру обязательно понравится.
— Рукава что-то длинноваты.
— Ой, да что вы, женщина. Он начнет ходить, будет руками размахивать — они поднимутся. Вы посмотрите, какие у вашего мужа руки… Он же ими как размахнет…
— Морщит она как-то.
— Женщина, разве она морщит? Вы бы видели, как морщит. Она вам чуть-чуть улыбается. Вот вы, когда улыбаетесь…
— Вова, ну что ты молчишь? Как тебе?
Вова поднимает руки. Вздыхает и шевелит губами-сардельками. Опускает руки.
— Восторга нет, Лена. Вот нет и все.
А вот прилавок с банными халатами. Все махровое, по самое не могу, конвульсионных расцветок. Турция, одним словом. У прилавка стоит немолодая супружеская пара. Пропорций неописуемых. Стоят, едят жареные пирожки, размером с кирзовый сапог снежного человека. С той стороны прилавка — бойкая старушка.
— Молодой человек, купите своей девушке халатик. Гляньте, какие весенние…
— У… э… Клава…. — издает супруг, готовясь откусить пирожок по локоть.
— Миш, это… а… — неуверенно отрыгкликается супруга.
— Да вы приложите, приложите, — не унимается старушка.
Клава прикладывает к могучей груди один из халатов. Миша смотрит на нее, судорожно сжимая пирожок в руке. Из пирожка показывается капля повидла, моля о пощаде…
— Девушка, да вы возьмите не этот, а другой, с надписью. Смотрите, какие надписи чудесные. Вот — «Я тебя хочу». Выходите вы из ванной, вся в таком халатике… Старушка закатывает оба глаза, изображая лицом название второй симфонии композитора Скрябина.
— Кла…ва…ва…
Старушка вздыхает.
— Да вы не волнуйтесь, мужчина. Все ж по-английски написано. Кроме вас и не поймет никто.
Перед отъездом домой зашел я в какой-то ларек с самоваром и выпил стакан чаю. К чаю взял «бутерброд с рыбой грудинкой». Именно так и было написано на ценнике. На вид и вкус — обычная грудинка. Может, раньше она и была рыбой, а потом жизнь ее так ломала и корежила, что она и освинела. По-всякому в жизни бывает. Половину от этого бутерброда скормил воробьям, скакавшим тут же, под и на столиках. Я, кстати, заметил, что, если летом кормить воробьев, то они просто с шумом и гамом клюют крошки, которые ты им бросаешь. А вот понюхавшие первого морозца воробьи клюют и заглядывают при этом преданно тебе в глаза.
P.S. При входе в городской автобус висит объявление: «Проезд по городу пятнадцать рублей. Без льгот». Достаю деньги и протягиваю кондуктору. Та, однако, деньги берет не сразу, а, наклонившись ко мне, тихо и доверительно сообщает:
— У нас касса сломалась. Билетики по десятке. Возьмете?
После таких историй надобно патетически воскликнуть: «Нет, в этой стране никогда не будет порядка!» или: «Умом Россию не понять!». Но я малодушно купил билет за десятку. Так что я, пожалуй, не буду восклицать и друг другом восхищаться.Истории города Александрова
Александров — город уездный. И так он уезжен, что нет на его мостовых и тротуарах живого места — одни ямы да колдобины… Нет, негоже начинать рассказ о городе с таких слов. Начнем лучше с названия. Историки, а пуще местные краеведы, выводят название города от Александра Невского. В своих этимологических изысканиях доходят аж доЕздил-де князь на каникулы к своему отцу в Переславль и несколько раз стоял станом на том самом месте, где возникло потом село Александровское. Ну, краеведам только волю дай — они и от Александра Македонского название выведуткю приплетут. Пока, правда, ни греческих амфор, ни бутылок из-под коньяка «Метакса» на территории Александровского округа не найдено, но ведь и не искали, как следует… По другой версии название пошло от хозяина Александровской Слободы в конце пятнадцатого века — боярина Александра Ивановича Старкова. Это, конечно, больше похоже на правду — и археологом быть не надо, чтобы насобирать на местных землях хоть мешок пустых бутылок из-под «Старки».
Так или иначе, а Слобода, или Новая Слобода Александровская, в 1513 году была куплена Василием Третьим у семерых братьев Москатиньевых. К тому времени на землях Слободы, вместе с селом Александровским, было пять деревушек, из которых три — заброшенные. Великий князь основал Новое село Александровское и устроил в нем свою загородную резиденцию. Здесь он отдыхал иногда со своей первой женой Соломонией Сабуровой. И со второй, Еленой Глинской, матерью Ивана Грозного, тоже отдыхал. Кстати, в угоду Глинской сбрил Василий бороду. Бояре тогда над ним надсмехались. Молодой князь Овчина-Телепнев-Оболенский говорил Ивану Шуйскому, что бородой дело не ограничится — дойдет дело и до подмышек. О том имеются доподлинные протоколы допросов, которые дошли и до наших дней, но… засекречены. Между прочим, есть частные свидетельства, что протоколы эти читал Император Петр Алексеевич и страшно был возмущен оными. Не за Василия Третьего он обиделся, коего он не был прямым потомком, но за саму власть государеву. Решил он тогда боярам отомстить. И начал с самого дорогого — бород боярских. Это уж потом стали говорить, что в угоду европейской моде. Ох, и любим мы Европу приплетать по всякому случаю.
Но вернемся в Александрову Слободу. В 1564 году уже новый Великий князь и Государь Всея Руси Иван Васильевич, разругавшись в Москве с боярами, с Думой и даже пнув в сердцах одну из кремлевских кошек, уехал с сыновьями и ближними людьми в Слободу. По приказу царя сюда же были доставлены ящики с бумагами, касающимися внешней политики, царская одежда и казна. Прискакало и сорокатысячное конное войско, имущество которого привезли на четырех тысячах саней. Из московских церквей привезли древние иконы и драгоценную церковную утварь. Ближние бояре и приказные люди приехали с семьями, а те, кого отобрали из других городов, приехали со своими людьми и «служебным нарядом». Нам сейчас трудно и представить, что творилось в переполненной Слободе. Обычные курные избы поднялись в цене до каменных палат. Кружка пенника и кусок холодца с чесноком в рядовой Александровской забегаловке стоили таких денег…
И стала Александрова Слобода фактической столицей Руси на целых семнадцать лет. Устроили вал и крепостные стены. Даже царские палаты окружили рвом и валом. Опричникам отвели свою улицу, а купцам — свою. Возвели новые дворцы и храмы. Создали уникальную систему прудов и шлюзов на реке Серой, протекавшей по Слободе. Система прудов и шлюзов на реке потом пригодилась: царь приказал утопить в Серой свою шестую жену, Марию Долгорукую, ровно через сутки после венчания, заподозрив ее в неверности. В Слободе принимали иноземных послов, к примеру, датского, прибывшего со свитой в сто человек. Закатывали такие пьянки пиры… По словам очевидца, во время братских трапез с опричниками, когда все рассаживались по лавкам и ели, Иоанн стоя читал вслух душеспасительные наставления. Одним глазом читал, а вторым следил, чтобы никто трезвым с трапезы не ушел.
Все у царя здесь было под рукой — даже подвал для пыток, в который он уходил после обеда, если не удавалось заснуть. Вообще, Грозный спал плохо. В исторических сочинениях пишут, что на ночь Ивану Васильевичу трое слепых рассказывали сказки — только бы уснул. Давно уж нет Грозного царя, но обычай тот остался. Говорят, что Тому, кто выше всех не по росту, но по Званию, три депутата или три министра рассказывают на ночь… Любят у нас небылицы рассказывать — хлебом не корми. Теперь времена не те. Нет никаких депутатов и министров… но есть три телевизора или даже один, с тремя каналами, и уж по этим трем каналам такие показывают сказки, каких Ивану Васильевичу и во сне присниться не могло.
В Александрову Слободу ученик Ивана Федорова перевез из Москвы типографию и отпечатал в 1574 году «Псалтырь» и «Букварь»… Вот ведь как получается — европейский или американский историк (в Америке, как это ни удивительно, тоже есть историки) будет из архивной кожи вон лезть, чтобы украсить свое повествование каким-нибудь интересным анекдотом или совпадением. Нам же это все без надобности — достаточно просто рассказать, как было на самом деле. А было так, что первый русский букварь отпечатал человек по фамилии Невежа. А по имени и отчеству — Андроник Тимофеевич.
Из Слободы отправлялся Грозный в свои военные походы на Тверь, Новгород, Клин и Торжок. Тверские и Новгородские врата и сейчас украшают западный и южный порталы Троицкого собора в Александрове. О том, что царь привез из Торжка, летопись умалчивает. Зато экскурсоводы клинского дома-музея Петра Ильича до сих пор жалуются на стрельцов Ивана Васильевича и показывают Стейнвей великого композитора со следами ударов бердышей и пик.
Видимо, история с Клином как-то царя мучила. Решил он замолить этот грех и устроил в Александровой Слободе первую на Руси консерваторию. Консервировать тогда не умели, поэтому привезли по указу лучших музыкантов и певцов и велели им петь и играть, а не то… Среди певцов, как пишут историки, были всемирно известные Иван Нос и Федор Христианин. Грозный не остался в стороне — сам написал то ли ораторию для хора пытаемых на дыбе, то ли концерт для пищали с артиллерийским оркестром. Между прочим, ноты те сохранились в архивах. Рукопись озаглавлена «Творение царя Иоанна».
От высокого искусства перейдем, однако, к печальному. В 1581 году, в припадке гнева, царь убил своего старшего сына Ивана. В Слободе и убил. Потом оказалось, что не убивал, а нечаянно ранил жезлом в висок. Так и Годунов не убивал царевича Димитрия. И историки все доказали множеством доказательств, но черт их разберет, этих историков. Сегодня у них одно, а завтра третье. Мы же, как верили Репину и Пушкину, так и будем им верить. Еще Гоголю с Чеховым. И то сказать — а кому нам еще верить…
Грозный поехал сына хоронить в Москву и уж более в свою вотчину не возвращался. За царем в столицу потянулись бояре и приказные. Их семнадцатилетняя командировка была окончена.
Не прошло и четверти века после этого возвращения, как в России наступило Смутное время. Не осталась в стороне от военных действий и Александрова Слобода. Весной 1609 года ее занял гетман Сапега. Из песни слов не выкинешь — александровцы сражались и с той, и с другой стороны. Многие состояли на службе у Сапеги. Осенью того же года к Слободе подступили передовые отряды войска Михаила Скопина-Шуйского и выбили гарнизон, оставленный Сапегой. Досталось на орехи и полкам гетмана Ружинского, пришедшего на помощь Сапеге из Тушинского лагеря. Тем не менее, в июле 1611 года Сапега в Александрову Слободу вернулся и простоял в ней всю зиму. Многое тогда было разграблено и сожжено. Но и местные жители отомстили захватчикам. Партизаны исхитрились украсть из обоза Сапеги все стратегические запасы краковской колбасы, которые гетман привез из Польши. Когда летом 1612 года к Слободе подошли войска ополченцев под командованием князя Пожарского, шедшие освобождать Москву, ослабленные русскими кислыми щами и кашей поляки не смогли оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления.
Говоря об истории Александрова, не можем мы обойти вниманием и историю воцарения дома Романовых. Генеалогическое древо Романовых начинается от Федора Кошки-Кобылина (бояре завистники из Рюриковичей и Гедиминовичей уничижительно называли его Собака-Коровин). Отец Федора, Андрей Кобыла, основал на александровской земле деревню Кобылино (ныне Калинино). Надо думать, что калининцы, в свете последних событий, могли бы требовать от властей переименования в кобылинцев и даже добиваться включения своей деревни, как малой родины дома Романовых, в список городов российского Золотого Кольца. Наверняка нашлись бы в деревне и дальние родственники отца Федора, и были бы у нас свои, местные претенденты на престол, а не только швейцарские да французские, но… никто из знающих людей калининцам не удосужился рассказать об основателе их деревни. Так они и живут — калининцы-калининцами, а проще говоря — деревня-деревней.
В 1615 году, при Михаиле Федоровиче, александровцы приняли участие в беспорядках. Хотели они всего-навсего… закрепления права крестьян на военную службу. Тогда служба военная оплачивалась, и хорошо. Ну, нам, нынешним, этого не понять. Короче говоря, разогнали всех желающих стать контрактниками по домам. Войска у царя тогда было достаточно, а денежки экономили. Про доходы с продажи нефти и газа тогда и слыхом не слыхивали. Приходилось самим работать. А трудовая копеечка, — она счет любит.
После окончания Смуты для Михаила Федоровича был выстроен на месте разрушенного царского дворца новый, деревянный, который царь использовал как путевой стан для разъездов по близлежащим монастырям. Этот дворец простоял сто лет, до 1730 года, потом сгорел и никогда больше не восстанавливался. В 1650 году александровские купцы упросили игумена близлежащего монастыря Лукиана ходатайствовать перед Алексеем Михайловичем о разрешении устроить женский монастырь на развалинах царской резиденции столетней давности. Царь разрешил передать для будущего монастыря домовую церковь Василия Третьего и примыкающую к ней каменную палату. Через двадцать лет к Успенскому женскому монастырю отошел и Троицкий собор.
При Петре Первом, после того, как Россию разделили на губернии, Александровская Слобода (все еще не город) была приписана к Дмитровскому уезду Московской губернии. Петр неоднократно приезжал в Слободу. В первый раз, во время стрелецкого бунта, он приехал сюда с матерью и женой из Троице-Сергиевого монастыря. В Слободе, на Немецких горках, юный царь со своим потешным полком проводил учения со вполне взрослой артиллерийской пальбой («чтоб в Москве слышно было») и «конными экзерцициями».
Надо сказать, Петр Алексеевич особой набожностью не отличался. Женские монастыри ему представлялись чем-то вроде парикмахерских для его врагов из числа слабого пола. Для начала, в 1698 году он приказал постричь в монахини Успенского монастыря свою сводную сестру, Марфу Алексеевну, которую подозревал в поддержке мятежа 1689 года. В 1718 году настал черед и для его первой жены, Евдокии Федоровны, принять постриг. Вместе с ней в Успенском монастыре пребывали и другие высокородные монахини, имевшие отношение к ее делу. Уже в 1727 году, после смерти Петра, сюда заточили свояченицу Меньшикова, Варвару Арсеньеву. Кстати, Александр Данилыч сам на нее и донес перед ссылкой в Березов.
Верный своей политике перековки орала на мечи, Петр, когда ему потребовался металл для пушек, приказал, в числе прочих, снять самый большой колокол весом в пятьсот пудов с Распятской колокольни Успенского монастыря и отправить на переплавку в Москву. По преданию, этот колокол изготовили в Новгороде, в честь рождения Ивана Грозного и был он необыкновенно благозвучен. Через сто с лишним лет александровские купцы Каленов и Уголков подарили Распятской церкви колокол такого же веса, но… так как старый он уже не звенел и его, пребывая в расстроенных чувствах, тоже переплавили.
С 1729 года в Александровой Слободе, которая досталась ей в наследство от матери, жила Елизавета Петровна. Ей тогда повезло: Анна Иоанновна хотела заточить дочь Петра в монастырь, но, благодаря заступничеству Бирона, постриг заменили запрещением покидать Слободу. Развлечений у великой княжны было немного: по праздникам она отстаивала службы в Троицком соборе Успенского монастыря, а потом крестила Александровских дворянских и купеческих детей. И, конечно, охота, скачки. Лошадей Елизавета любила так, что к ним ее впоследствии ревновал даже Алексей Разумовский. Впрочем, она его, уже будучи императрицей, утешила — подарила сотню скакунов из Александровского и Тайнинского конных заводов. Одетая в мужское платье, точно кавалерист-девица, неутомимо скакала она по александровским лесам и полям, травя зайцев. И затравила их во множестве. В древнем селе Крутец, на крутом берегу реки Серой, в окрестностях усадьбы Ивана Ивановича Бутурлина, сподвижника Петра Великого, у которого часто гостила Елизавета, собирается общественность поставить памятник затравленному зайцу. Давно собирается. Первые попытки поставить памятник относятся еще к концу девятнадцатого века. Либерально настроенная интеллигенция из земских и общество краеведов-любителей по подписке собрали деньги и уж было начали подготовлять площадку для заячьего постамента, как сверху пришел указ — немедля прекратить. Не то, мол, сейчас время, чтобы воздвигать этакие провокационные памятники. Ссылки на память покойной императрицы, на любовь к истории отечества не помогли. С членами комитета по устройству памятника строго поговорили, где надо, и отпустили дрожать по домам. Конфисковали портрет Елизаветы Петровны с зайцем на руках и отдельное чучело местного русака. Чтобы не пропадать добру, арестовали и кассу. Касса почему-то оказалась пустой — то ли все истратили на собрания комитета, то ли на портрет, то ли на чучело… В советское время о памятнике никто из зайцев уж и не заикался. Впрочем, жившие в Александрове, к тому времени столице сто первого километра, диссиденты иногда рисовали по ночам на стенах домов зайцев да при встрече друг с другом поднимали приветственно указательный и средний пальцы в виде латинской буквы V, что означало у них заячьи уши. И только теперь, когда свобода, нас встретив радостно у входа, норовит вытолкать к выходу… все равно боязно.
Вернемся, однако, в восемнадцатый век. Первого сентября 1778 года по указу Екатерины Второй Александров получил статус уездного города. Через три года городу по высочайшему соизволению был пожалован герб. В верхней части герба находится губернский владимирский лев, а в нижней — две наковальни и тиски, символ кузнечного ремесла, которым к тому времени славился Александров. В топографическом описании Владимирской губернии 1784 года написано, что «главнейшая промышленность здешних купцов и мещан состоит по большей части в кузнечном мастерстве, содержании полотняных фабрик и кожевенных заводов, а также в торговле общеупотребительными и съестными припасами». К началу девятнадцатого века в Александрове на две с лишним тысячи жителей приходилось около пятидесяти кузниц. По рабочим дням от стука молотов о наковальни звенело в ушах у всех, включая мышей в погребах. Александровские кузнецы были большими эстетами. Даже к цепям своих дворовых собак выковывали затейливые брелоки. Да что кузнецы — любая собака могла выковать гвоздик или скобу для ремонта своей будки. В городе была улица под названием «Кузнечная». Она и сейчас есть, но под именем Зои Космодемьянской. Нет, несчастная девушка не жила и даже не проезжала мимо Александрова. Она не виновата. Никто не виноват. Но название улице так и не вернули. Один из последних представителей старинной кузнечной династии Жижимонтовых, которой более трехсот лет, еще живет на этой улице, еще борется за то, чтобы называли ее «Кузнечной».
Говоря об Александровских династиях, нельзя не упомянуть еще о двух, купеческих — Барановых и Зубовых. История Барановых уходит корнями в первую половину восемнадцатого века. Еще в 1740 году в дворцовой Новоалександровской Слободе имел небольшую торговлю Тихон Петрович Баранов. Его внук, Федор Николаевич, уже вовсю тор говал холстами, нанкой и крашениной по местным ярмаркам и в Москве. Война двенадцатого года разорила Баранова — основные его покупатели были в Москве. Но он смог подняться. Устроил в своем доме красильню, а затем и небольшую фабрику для тканья платков и холстины. Потом построил еще одну фабрику для окрашивания бумажной пряжи в красный цвет. И тут настал черед его сына, Ивана Федоровича, брать отцовское дело в свои руки. Иван Федорович от природы был исключительно одаренным человеком — не только купцом, фабрикантом, но и талантливым изобретателем. Он выращивал на побережье Каспийского моря водоросль морену, чтобы из нее по собственной технологи, добывать высококачественный тканевый краситель. Мало того, Иван Федорович нашел новый, удобный способ закрепления краски на тканях — настоем пшеничных отрубей. Вот сейчас мне возразят нынешние скептики — подумаешь, отруби. Что ж тут такого? А такого, что до отрубей в России краску закрепляли выдерживанием ткани в смеси навозной жижи и бычьей крови. Конечно, потом ткани отмывали, но… Так что не будем судить свысока о технологии, изобретенной купцом Иваном Барановым. Впрочем, самое удивительное в Баранове было, наверное, не это, а то, что он ни от кого не скрывал своих изобретений и охотно ими делился. Иван Федорович мечтал о том, чтобы русское купечество широко торговало с азиатскими странами. Уж больно хотелось ему вытеснить из этой торговли англичан. Баранова избирали Александровским городским головой. Многое он сделал для города, не в последнюю очередь на свои собственные средства. В его доме находили приют и странники, и погорельцы, и просто нуждающиеся. Иногда до полутора тысяч человек жило на его иждивении. Каждый год пяти невестам лично от себя Иван Федорович давал приданое. А спрашивать, где же теперь такие люди, — глупо. Не дети мы, чтоб такие вопросы-то задавать. Но отчего они не родятся вновь? Неужто во всем экология виновата? Все же, меньше надо пить кока-колы и есть гамбургеров. Глядишь, и наладится все. Ну, пусть не все, но хоть малая толика… Да, чуть не забыл. Прожил Иван Федорович Баранов всего сорок лет. Дети его потом расширили дело. Завели новые фабрики в Александровском уезде. Обучали инженеров с других предприятий, строили больницы, школы и аптеки. Короче говоря, в семнадцатом году все оставили кипящему возмущенным разумом пролетариату в образцовом порядке.Обратимся к другому именитому александровскому купеческому роду — Зубовым. В писцовой книге за 1677 год есть запись: «Среди посадских дворов за рекою Серой… во дворе Ивашко Петров сын Зубов печет калачи». Калачами, однако, дело не ограничилось. Потомки Ивана Зубова стали текстильными фабрикантами, как и Барановы. Строили красильно-набивные фабрики и на паях с Барановыми завели неподалеку от Александрова, в Карабанове, фабрику по крашению кумачей, набивке платков и рубашечных ситцев. У Зубовых в начале девятнадцатого века был лучший частный дом в городе. Именно в этом доме, у братьев Степана и Михаила Зубовых, останавливался Александр Первый во время своего посещения Александрова. «Выслушав рапорт городничего и удостоив милостивым поклоном челобитие городского общества в лице его городского головы и выборных», Александр «спешил на отдохновение в покоях дома братьев купцов Зубовых». Верноподданные александровцы отдохнуть ему, однако, не дали. «Беспрерывное „ура!“ волновавшейся массы народа, окружавшего дом, поощрялось неоднократным появлением в растворенном окне открытого и доброго лица Императора… Государь удостаивал приемом представителей местных властей, дворянства и купечества и, подкрепив себя приготовленным для него и свиты в тех покоях обедом-завтраком, кушал чай».
Поняв, что в Александрове выспаться ему как следует не дадут, Император поблагодарил всех за радушный прием, «пожаловал в память сего невестке первого и жене второго каждой по перстню, украшенному драгоценными каменьями», сел в карету и укатил в Москву. Невестке потом этот перстень припомнили, конечно. Еще и теперь, спустя почти двести лет, в сувенирных лавках Александрова вам предложат из-под полы, конечно, с убедительнейшей просьбой сохранения строжайшей тайны, тот самый, невесткин перстень. Мол, пришлось ей прятать перстень от обиженной свекрови, да закопала она его в огороде, да увидел это мальчик, несший самовар в покои, и потомок этого мальчика, если б не нужны были срочно деньги на операцию за границей, ни за что бы и никогда, но… вернемся к Зубовым.
Василий Павлович Зубов, деятельность которого пришлась на вторую половину девятнадцатого века, был не только промышленником. Жил он уже в Москве и из столицы управлял своими предприятиями. Живо интересуясь музыкой, он собрал уникальную коллекцию смычковых инструментов, в которой были скрипки Амати, Гварнери и Страдивари. Несколько лет Василий Павлович даже возглавлял Московскую консерваторию, пока его на этом посту не сменил Петр Ильич Чайковский. Вместе со своими родственниками, с семейством Барановых, с другими александровскими купцами и фабрикантами, Зубов приложил все усилия к тому, чтобы железная дорога из Москвы в Ярославль прошла через Александров, а не Переславль-Залесский. До сих пор экскурсоводы в Переславле, рассказывая об этом факте, скрежещут экспонатами своих музеев.
Последний из фабрикантов Зубовых, Павел Васильевич, получил образование в московском университете и стал химиком, чтобы вместе с отцом заниматься красильным делом на фабрике. Увы, он быстро понял, что не имеет ни малейшей склонности к управлению фабрикой. После смерти отца в 1889 году Зубов продал фабрику и окончательно переехал в Москву. Двадцать лет он занимался наукой в первой термохимической лаборатории МГУ, но знаменит стал не своими научными изысканиями. Павел Васильевич был страстный нумизмат. Его называли Третьяковым нумизматики. Коллекция монет, собранная Зубовым, по отзывам специалистов, была больше чем Эрмитажное, Парижское и Берлинское собрания монет вместе взятые. Она и вообще была крупнейшей в мире: в ней насчитывалось двести тысяч экспонатов. В 1901 году Павел Васильевич завещал Государственному историческому музею всю свою коллекцию, а кроме нее и обширную библиотеку.
Он умер в голодном двадцать первом. За два года до смерти у него реквизировали коллекцию музыкальных инструментов, которые собирал его отец. Руководивший изъятием некто Кубацкий заявил, что «талантливым музыкантам не на чем играть — все инструменты находятся у богатых людей». Рассказывают, что на одной из реквизированных у Зубова скрипок играл маршал Тухачевский. Еще на одной — некто Кубацкий…
На этом рукопись моя обрывается. Она, конечно, могла бы продолжаться, и я мог бы рассказать о том, как мучалась семья Зубовых после его смерти, как даже его могила на территории Спасо-Андрониковского монастыря была уничтожена, как пришла и семьдесят лет не уходила советская власть из Александрова, как закрыли все монастыри и репрессировали священников, как жили в Александрове, на сто первом километре, отбывшие свой срок политические заключенные, как теперь, при новой, демократической власти все возрождается, цветет и пахнет, пахнет… но не расскажу. Не знаю почему. Может оттого, что устал, а может оттого, что не историк-профессионал. Это им надо в конце своего исследования поставить жизнеутверждающую точку, а меня вполне устроит и многоточие.P.S. Говорят, что еще при Грозном был прокопан подземный ход из Александровского кремля аж до самой Москвы. Такой огромный, что по нему можно хоть на тройке ехать. Ищут его краеведы и просто интересующиеся, да найти не могут. И не найдут. Потому как ход этот… Ну, да. А вы как думали? Стоит там бронированная тройка — один лимузин и два джипа охраны. Мало того, и бункер правительственной связи есть. И вообще все, что полагается в случае экстренного переезда, вплоть до семи жен на случай неурожая, засухи или, не приведи Господь, войны со Ливонией. Почему семи? Сами-то как думаете, а?
Примечания
1
Они бы, может, выросли и большими, но я не добавлял в них воды, вот они и остались маленькими. Но все у них есть, как и у больших — и ручки, и ножки и преамбула, и амбула, и фабула с фистулой.
2
На этих словах, в сущности, можно было бы и остановиться, но я продолжу.
3
Во рву воды давно нет. На одном склоне рва смекалистые белозёры устроили концертную площадку, а на другом — скамеечки для зрителей. Между ними болото и растет камыш. В таком концертном зале не обходится без того, чтобы сольные выступления не превращались в хоровые. Особенно перед дождем. Местные исполнители привыкли и дружного кваканья не смущаются — продолжают петь как ни в чем не бывало, а вот заезжие… Впрочем, заезжие здесь бывают редко.
4
В конце царствования Екатерины Великой в газете «Ведомости Владимирской губернии» описан удивительный случай, произошедший с крепостным князей Грубецких. Этот мужик, по имени Платон Каратаев, имел кроме обычной, законной жены, в своем семейном хозяйстве пять лесных русалок и смог так разбогатеть на торговле лесными орехами и сушеными грибами, что не только выкупился из крепостной неволи, но и смог стать купцом первой гильдии. Мало того, еще и десяти своим дочерям, прижитым от русалок, смог дать приличное приданое. Могучий старик еще жил бы и жил, наслаждаясь многочисленными детьми и внуками, если бы не война с французами, которую Каратаев не перенес. Ходили слухи, что попал он в плен к захватчиком и был расстрелян как партизан или умер от голода… Наверное никто не знает. Достоверных сведений нет, а есть только отрывочные упоминания о судьбе Каратаева в записках артиллерийского капитана Толстого, подлинность которых серьезные исследователи подвергают большим сомнениям.
5
Муракамешки — это дорожные мурашки. Получаются из мелкого гравия, если пощекотать дорогу.
6
Этимология топонима «Мытищи» не так проста, как кажется. В средние века название села Мытищи произносилось и писалось как «Мычищи» из-за обилия коров на мытищинских лугах, и только в восемнадцатом веке, после устройства мытищинского водопровода и появления большого количества прачек, моющих белье, село стали называть «Мытищи».
7
Как ни убирал Кустодиев арбузы с груди купчихи, а внимательный (да хоть бы и невнимательный) зритель легко может заметить, что там еще есть на что положить глаз. Даже два.
8
Вот только насчет сахарной головы я малость приврал. Вездесущие краеведы выяснили, что не из рафинаду она была, а из обычного неочищенного желтоватого сахару.
Городской голова даже как-то признался зятю или шурину, что в роду у него, должно быть, затесался какой-нибудь китаец и от этого цвет лица немного азиатский.
9
Суббота Семенович был человек хоть и набожный, и нрава не буйного, но очень не любил панибратства. Какому-то стольнику, который при нем пошутил на известную тему о том, что не человек для Субботы, а Суббота для человека, отсек саблей ухо… или нос… или горло… В летописях точно не говорится.
10
Вот удивительное у нас сочетание — человек, бывший городским головой, действительно имел ее на плечах!
11
Билеты в музей маленькие, размером с две почтовых марки. На них написано «Межпоселенческий народный краеведческий музей Пошехонского муниципального района». Музейная сотрудница настригает ножницами целый пук билетиков и вручает каждому посетителю, поскольку цена одного билета пять рублей, а вместе с услугами экскурсовода — целых двадцать пять. Цифры с ценой синие, расплывающиеся, вроде тех, что раньше встречались в сырных кругах.
12
А ведь это не те самые мыши, что были вывезены еще Петром из Голландии, а их далекие потомки. У нас они прожили не одну сотню лет, и за это время сменился не один десяток мышиных поколений. Как там они будут жить, не зная ни языка, ни обычаев — одному их мышиному королю и известно.
13
Сотрудница музея рассказала, что купец был колбасным фабрикантом. Ну, обшарили они весь особняк — думали, может, тайник какой с колбасой остался. В их бедственном положении и кусок колбасы подспорье. Увы. Даже шкурки не нашли. И то сказать — столько бесколбасных лет прошло по смерти купца.
14
В те далекие времена москвичи были почему-то трезвые. Историки и археологи головы сломали, пытаясь понять почему, но успеха не достигли, хоть и голов, конечно, наломали немало.
15
Точно так же как лето — время сухого вина, а зима — время водки, осень — время наливок. Их приносят из погреба, где прячут от домашних, чтобы дать им время настояться. Кстати, бывают и женщины-наливки. Они, безусловно, крепче женщин-вин и слаще их, но не ударяют в голову, как женщины-водки. Одна беда — женщину-наливку можно переносить только в очень небольших количествах. Буквально несколько капель на стакан. Другими словами, они хороши в любовницах. Правда, рано или поздно не миновать вам неприятностей — или придете домой в слипшейся одежде, или будете воротить нос от домашних сладостей.
16
Никогда не понимал, почему у нас бокалы называют фужерами тогда, когда в них наливают водку. Никто не скажет: он выпил полный бокал водки, а вот полный фужер водки ухо даже не оцарапает. И уж совсем непонятно, почему большие чайные фаянсовые кружки называют в просторечии бокалами. Впрочем, из этих кружек при случае могут пить все что угодно.
17
На высоком берегу Протвы, неподалеку от часовни, на месте гибели боярыни Морозовой и ее сестры княгини Урусовой, стоит небольшой закладной камень, на котором написано: «Героям Куликовской битвы, боровскому князю Владимиру Храброму, боровчанам — освободителям России». Мало кто знает, что из-за этого камня разгорелся целый дипломатический скандал между Серпуховым и Боровском. Любому серпуховичу с детства известно, что князь Владимир Андреевич Храбрый был Серпуховским. По совместительству и Боровским, поскольку владел и Боровском. И княжество называлось Серпуховско-Боровское, а не Боровско-Серпуховское. И памятник Владимиру Андреевичу стоит в Серпухове. Очевидные же факты! Как можно их не замечать! Так серпуховский посол и сказал Боровскому начальству перед тем, как его отозвали на малую родину. С тех самых пор в Серпухов из Боровска можно попасть только через Москву.
18
Как-то у нас не складывается с мирной жизнью. Стоит только наступить миру или даже какому-нибудь кратковременному перемирию, как сейчас же обнаруживается, что улицы у нас не метены, дома облуплены, а внутри них и вовсе черт ногу сломит. И не на что все это списать! Другое дело боевые действия — всё в дыму, везде обломки, посуда побита, клок волос выдран и жена в слезах. Хочешь, кури перед телевизором, а хочешь, пей пиво в постели. И тут, можно сказать, на развалинах рейхстага, когда знамя победы уже устанавливают на куполе… тебя не мытьем, так катаньем по постели понуждают, как говорит наш гарант, к миру. И ты как миленький идешь подметать, мыть посуду и курить на лестнице, потому что от никотина тюль, видите ли, желтеет.
19
Вот этой связи я понять никак не смог, но переспрашивать не стал. Знаком и знаком. Какое мое дело. Тем более, что теперь ни мужа, ни КГБ…
20
Внимательный читатель тотчас заметит автору, что зимой мухи по столу не ползают. Ну, да. Не ползают. Что из того? Надо же чем-то оживить небогатый стол в захолустном городке. Вот они и поползли. Не почтмейстеру же с исправником ползти по столу. Тем более, что их место под ним.
21
Вот с этого места я понял, что мне надоело писать исторические записки. То ли дело мемуары…
22
Мыши из-за своей крошечной конституции часто умирают со смеху. Как начнут хохотать, так и заходятся насмерть. Сердчишко у них и без того бьется чаще некуда, а в таких экстремальных ситуациях просто вон выпрыгивает. Мыши, конечно, стараются вести серьезный образ жизни, но куда там… Между прочим, хитрые лисы этим пользуются при охоте на мышей. Так-то, поди, достань ее из-под глубокого снега. Начнешь копать в одном месте, а она уж в другое убежала. Но стоит только лисе начать выделывать лапами и хвостом разные уморительные штуки, на которые она большая мастерица — так мышь нос высунет (любопытная — сыром не корми) и давай с места в карьер, даже не улыбнувшись для разгону, хохотать как подорванная. Минута — и летальный исход.
23
Да знаю я, что теперь нужно говорить пятирублевым. Поздно мне переучиваться.
24
Местные жители, по-видимому, не знают слова «пастушка» или не хотят употреблять. Поэтому называют они женщину-пастуха «пастухша». Вот как бывает, к примеру, докторша или бухгалтерша.