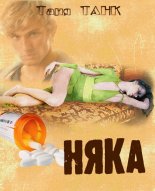Полезная еда. Развенчание мифов о здоровом питании Кэмпбелл Колин

Глава 14
Индустрия: эксплуатация и контроль
Богатая могущественная индустрия, формирующая систему здравоохранения, подменила исходную цель (здоровье человека) погоней за доходами. Деньги извращают научный поиск, освещение медицинских вопросов в прессе, государственную политику. И благодаря искусному владению незримой силой они не оставляют следов. Моя задача — показать всю подноготную, особенно когда речь идет о холистическом питании, одной из главных жертв контроля промышленности над созданием, распространением и использованием информации.
Медицинская, фармацевтическая промышленность и производители добавок давно поняли, что правильно питающаяся нация — катастрофа для них. Чтобы больше заработать, доказательства пользы ЦРД лучше проигнорировать и дискредитировать. Посмотрим, как эти отрасли максимизируют прибыли за счет нашего здоровья.
Медицинская промышленность
Цель медицины — лечить. Врачей многие годы учат самым совершенным, научно обоснованным методикам. Мы приходим к ним в надежде, что нам покажут путь к благополучию. Мы верим, что они знают то, чего не знаем мы, и блюдут наши насущные интересы. Поэтому, столкнувшись с угрожающим жизни диагнозом, большинство из нас соглашаются с рекомендованной агрессивной хирургией, лучевой и химиотерапией, даже если иногда задумываются, можно ли без этого обойтись.
Рынок медицины практически монополизирован. Насколько мне известно, большинство врачей — прекрасные специалисты, которые искренне желают пациентам блага и стремятся к нему изо всех сил, применяя свои знания и постоянно их совершенствуя. Однако их подготовка ограничена редукционистскими методами. И, как любая группа, которой «виднее», врачи могут не рассматривать других вариантов, даже более целесообразных, чем их навыки и инструменты. Некоторые доктора, желая одновременно лечить и оставаться безупречными, злоупотребляют своим положением, чтобы запугивать и затыкать рот скептикам, захотевшим ознакомиться с холистическими методами. В результате даже самые смелые и любознательные пациенты обычно считают, что лучше лекарств и хирургии ничего нет. Вспомните о воплях в прессе, когда выяснилось, что Стив Джобс, последний директор Apple, на девять месяцев отложил онкологическую операцию, «возясь» с нетрадиционной медициной и растительной диетой. Подтекст ясен: отклоняться от стандартной медицины вредно. Даже вольнодумцы вроде Джобса должны преклониться перед жрецами в белых халатах, если хотят выжить.
Рак и заболевания сердца делают нас бесправными в отношениях с медиками, и слишком многие врачи пользуются своим авторитетом, чтобы запугать пациента и заставить его слушаться, при этом искренне веря, что действуют для его же блага. Не раз говорилось, что врачи — священники светской эры, держащие в руках ключи от жизни и смерти и не терпящие ереси. Как и духовенство, они используют символизм и ритуалы для демонстрации и укрепления власти (вспомните регистратуру: медсестра за стеклом и бесконечные бумаги, которые вы заполняете, поглядывая на старые журналы). Ритуалы не раздражают, как раньше: они призваны успокоить ранимых пациентов, которые очень хотят верить доктору. В такие моменты отношения между врачом и пациентом неравные, хотя, наверное, и случайно: одна сторона отчаянно хочет спасти свою жизнь, а другая может это сделать. Если диагноз — рак, использование врачом эмоциональной уязвимости может приводить к тяжелым, даже трагическим результатам. И не случайно методы лечения, на которых настаивают онкологи, приносят больше всего прибыли медицинской индустрии и ее партнеру — фармацевтической промышленности.
Когда люди выясняют, что я занимался поиском способов профилактики и лечения рака, они, естественно, спрашивают о конкретных диагнозах: родственников, друзей, даже собственных. Конечно, я подчеркиваю, что у меня нет врачебной лицензии и я не могу дать конкретного совета. У лечащего врача за плечами годы специального образования и опыта, которых у меня нет. Но многие люди, столкнувшиеся с онкологией, упорны. Они спрашивают: «Что бы вы сделали, если бы вам или члену вашей семьи поставили такой диагноз?» Я могу только поделиться своей интерпретацией научных доказательств, часто советуя выслушать еще одно мнение и призывая уважать рекомендации врача. В 2005 году моя лучшая подруга поцарапала родинку на бедре. Остался небольшой струп, и она решила провериться и при необходимости его удалить, потому что в семье рак не был редкостью.
Через несколько дней врач позвонил ей и пригласил зайти: результаты анализов готовы. Почуяв неладное, она попросила меня сходить с ней. Вошедший в кабинет врач был очень серьезен. Диагноз? Распространенная меланома третьей стадии, самый тяжелый вид рака кожи. Он посоветовал ей безотлагательно этим заняться и направил к хирургу и онкологу. Знакомая была подавлена и переживала эмоции, хорошо известные каждому онкобольному: пронизывающий страх и растерянность.
Специалисты изучили образцы тканей, подтвердили диагноз и запланировали операцию. Злокачественная опухоль была удалена, для биопсии взяли образец близлежащего сигнального лимфоузла, чтобы посмотреть, есть ли метастазы. Сигнальный лимфоузел — часть лимфатической железы, в которую рак должен распространиться в первую очередь. Если признаки найдены, обычно считается, что рак распространился в лимфатический коллектор. Сигнальный лимфоузел — вроде двери в комнату. Если клетки меланомы попали в него, считается, что они оказались и в коллекторе, который придется удалить. Тактика, схожая с уничтожением деревни ради ее спасения.
Примерно тогда же подруга встретилась с молодым онкологом, чтобы обсудить варианты лечения в зависимости от результатов анализов. Она пошла со старшим сыном, но потом рассказывала, что врач предложил обычные варианты: химиотерапию и лучевую терапию. Она ответила, что не хочет ни того ни другого независимо от результатов биопсии, и врач, похоже, не имел ничего против, попросив зайти через несколько дней после получения анализов. Биопсия показала: рак распространился в лимфатическую систему. Три патолога подтвердили диагноз.
Но, перед тем как пойти к онкологу, я решил больше узнать о меланоме и ее лечении. Я зашел к открытому и радушному патологу, чтобы изучить гистологию (меня этому учили, и я много работал с микроскопом в моей лаборатории). Я был немного знаком с меланомами. Примерно двадцатью годами ранее я пользовался сводным отчетом по меланоме за 1995 год1 в качестве рекомендованной литературы для курса по растительному питанию, потому что в нем было видно замечательное влияние диеты на выживаемость пациентов. Это был не просто редкий пример рецензируемого отчета о благоприятном воздействии диеты на тяжелый рак. Основной автор входил в авторитетную научную комиссию, определяющую интерпретацию и публикацию результатов исследований из альтернативных клинических баз данных. В отчете были приведены подробные доказательства, что растительная диета имеет значительный потенциал для сдерживания развития меланомы, и упоминалось схожее действие на другие виды рака. Пациенты получали преимущественно цельную растительную пищу, прописанную знаменитым (или, если угодно, печально известным2) Институтом Герсона в мексиканской Тихуане. Выживаемость значительно возросла даже в случаях, когда диагнозом был рак III и IV стадии.
Я ознакомился с не самыми приятными последствиями удаления лимфоузлов. Данные свидетельствовали, что удаление крупных лимфатических желез в паховой области часто приводит к потере функциональности нижней конечности в течение примерно года и множеству побочных эффектов и неудобств, не говоря о серьезной опасности для иммунной системы. И действительно, врач сказал знакомой, что она должна запланировать «отдых» в течение года.
Я также узнал, что для компенсации потери активности иммунной системы после удаления лимфоузлов врачи часто назначают интерферон — мощный иммунотерапевтический препарат. Порывшись в источниках, я нашел очень свежий обзор использования интерферона и схожих средств в лечении пациентов со II и III стадией меланомы3. В нем был сделан вывод, что «в настоящее время нет единой терапии (включая интерферон), продляющей общую выживаемость при меланоме II и III стадий». Работы на эту тему сложны, рассматривают интерфероны различных типов, разные дозировки, протоколы и стадии меланомы, а также содержат пространные рассуждения о подробностях реакции. Скажем так: это не книжка на ночь. Не знаю, как человек без соответствующего опыта и подготовки — включая большинство больных меланомой — может что-то вынести из этого исследования, не говоря уже о том, чтобы обосновать для онколога другой вариант лечения.
Возможно, больше всего помог старший сын подруги, который не был ни врачом, ни ученым. Он нашел статью группы лондонских ученых, систематизировавших истории болезни 146 пациентов с меланомой. Если вы думаете, что научная часть этой книги сложна, вот название статьи: «Микроанатомическая локализация метастатической меланомы в сигнальных лимфатических узлах как прогностический фактор поражения несигнальных узлов»4. Однако!
Вот что сообщалась в статье. У всех 146 пациентов, как и у моей подруги, были обнаружены метастазы в сигнальном лимфоузле. Этот результат обычно подразумевает хирургическое удаление соседнего лимфатического коллектора. Поскольку у всех пациентов в сигнальном узле были клетки меланомы, лимфатический коллектор им удалили. Однако ретроспективное обследование образцов показало, что клетки меланомы в коллекторе имелись только у 20%5, то есть 80% эта операция была не нужна. У 38 человек из них метастазы ограничивались подкапсулярной областью сигнального узла.
Результаты исследования были потрясающими. Я позвонил в Лондон основному автору, доктору Мартину Куку, и он подтвердил написанное. Можете себе представить, как нас впечатлило это заумное, но убедительное открытие: биопсия показала, что у подруги метастазы были ограничены подкапсулярной областью! Я дал копии статьи хирургу и патологу (никто из них о ней не слышал), а один экземпляр оставил себе для предстоящего визита к онкологу.
Я пришел к врачу, вооруженный новыми сведениями и лично обследовав образцы тканей. Он ожидал, что подруга выберет вариант и время лечения, хотя она уже сказала, что не будет этого делать. Последнее слово, конечно, было за ней, хотя я тоже считал, что лечение назначено неверно: удаление лимфатических узлов не имело смысла и привело бы к серьезным осложнениям. В клинических исследованиях интерферон оказался неэффективным и с побочными эффектами. Более того, наличие клеток меланомы только в подкапсулярной области указывало на хороший прогноз, особенно если придерживаться ЦРД.
Онколог не знал о моем научном опыте и, насколько мне известно, о визите к патологу насчет исследования доктора Кука. Он думал, что я пришел поддержать пациента, и я просто слушал. Речь шла о его работе, и факты были просты. «Поздняя» стадия меланомы, диагноз подтвержден, уже есть метастазы в сигнальном узле. Оставшиеся лимфатические железы надо удалить и начать лечение интерфероном или его эквивалентом. Действовать нужно срочно, и по его поведению было видно, что именно он ожидал услышать в ответ.
Перечислив «сухие факты», врач спросил: «Когда вы сможете начать?»
Моя подруга повторила: «Я не собираюсь применять ни один из рекомендованных вами вариантов».
Шокированный и раздраженный онколог понял, что обходительное поведение во время первого визита не сработало. Он бросил: «Если вы не решитесь, в следующий раз может быть слишком поздно!» — подразумевая, что «слишком поздно» настанет скоро. Такое давление со стороны сведущего в медицине специалиста на эмоционально ранимого, неинформированного, цепляющегося за жизнь пациента — нечестная игра. Оно, несомненно, заставляет принять врачебные рекомендации. Больные очень хотят верить своему онкологу, в котором видят обладателя ключей к выздоровлению.
Увидев такую реакцию, я предложил ему ознакомиться с литературой, которая у меня была с собой. Он резко и грубо отвел ее рукой, явно считая бессмыслицей. Ему не интересно было слушать ничего, кроме своего голоса.
Могу только представить, сколько таких случаев каждый день происходит в кабинетах онкологов. Учитывая заболеваемость раком, думаю, в США их около 2–3 тыс.6. В большинстве случаев пациенты, их знакомые и члены семьи не могут или не хотят оспаривать мнение врача. Меня же его самоуверенность ошеломила. Я задумался: я чего-то не понимаю? Откуда эта твердолобая убежденность и безграмотность вкупе с заносчивостью — по крайней мере, по отношению ко мне? Его явно не интересовали данные, указывающие на что-то другое, чем «стандартное лечение»: традиционные химические методы.
Я слышал похожие истории от десятков, если не сотен пациентов, искавших информацию о питании и раке. Исследования поддерживали диетологический подход, но врачи настаивали на инвазивном, опасном и дорогом лечении с невысокой эффективностью. Но в данном случае я оказался заинтересованным лицом, потому что пациентом была моя жена. И я знал, что этот случай — единственный в своем роде. Особый. Точка. Однако Карен предпочла не делать ничего, никаких побочных эффектов не было, и восемь лет спустя мы в добром здравии празднуем пятидесятилетие совместной жизни.
Это происшествие стало для меня олицетворением многих аналогичных случаев и побудило написать эту книгу. Поскольку я не могу ходить с каждым пациентом на важные встречи, то хочу сделать что-то, чтобы уравнять игроков в правах: дать уязвимым людям право голоса и заставить поверить, что у них есть выбор и он не ограничен агрессивными и дорогими методами лечения.
С одной стороны, общение Карен с врачом было просто историей о заносчивом профессионале, давящем на пациента и заставляющем делать то, что, по его мнению, нужно. Он знает, что такое стандартная помощь. Она — нет. Точка. Но если мы исследуем тысячи таких разговоров, мы заметим происки медицинской индустрии, прибыль которой зависит от неколебимой веры и убедительности врача, а может, и от его апломба. Попробуем проследить за деньгами. Куда они идут, когда выбран не диетологический, а хирургический или химический метод, и кому это выгодно?
Во-первых, очевидно: чем больше химиотерапевтических, хирургических и лекарственных вмешательств выписывают пациенту, тем больше денег получает промышленность. Даже если мы не допускаем, что химический подход так же эффективен, как диетологический (тому нет доказательств), индустрии выгоднее подталкивать к первому варианту. На лечении рака делают большие деньги. Именно поэтому в медицинских журналах в основном дают рекламу компании, производящие лекарства и оборудование. (Она объясняет, почему журналы не горят желанием публиковать результаты, ставящие под вопрос такие методы, но профессиональными изданиями мы займемся в главе 16.)
Во-вторых, гоняя пациента туда-сюда, медицинский «клуб однокурсников» обеспечивает своих членов работой и деньгами. При постановке диагноза Карен сходила к трем разным врачам, а это деньги пациента и страховой компании. При химическом лечении нужно много специалистов, потому что каждый из них сосредоточен на конкретном элементе рака. Но узкая специализация обусловливает скорее ошибочный подход к болезни, чем эффективность лечения. Чтобы прописать ЦРД и отслеживать результаты — если бы эту стратегию когда-нибудь использовали, — понадобился бы всего один доктор.
Кроме того, врачи, к которым обращалась Карен, скорее всего, подтвердили бы диагноз первого специалиста. Из-за стандартизованной программы обучения они используют одну парадигму, в которую не входит холистическое питание, и, скорее всего, принадлежат к одному социальному кругу. Можно поручиться, что онколог Карен не играет в гольф с диетологом — сторонником ЦРД!
Я знаю, что многие люди думают, будто описанное мной поведение типично для медиков. Но я не согласен. Я встречал многих блестящих врачей, искренне преданных пациентам. Не они виноваты в насилии и враждебности к предлагаемым альтернативам. Виновата система, для которой их готовили и в которой приходится работать. Из-за структуры медицинской отрасли честным и заботливым врачам очень трудно идти против эгоистичного, алчного и реакционного отношения индустрии. Те, кто выступает против системы, сталкиваются не просто с идеологическим давлением, а с давлением, подкрепленным незримой силой денег. Иногда на кону даже лицензия.
Фармацевтическая промышленность
Наше общество охотно принимает благодушную картину, рисующую фармацевтическую промышленность как самоотверженную группу ученых, которые, влекомые жаждой знаний, хотят спасти человечество и лезут из кожи вон, чтобы найти лекарство от рака, диабета и болезней сердца. Такое восприятие сформировалось во многом потому, что Большая фарма очень хорошо научилась прикидываться доброй, играя на эмоциях. В этой отрасли много хороших людей, но экономические императивы системы перевешивают попытки принести благо.
Большая фарма — обычная отрасль, состоящая из компаний. Большинство из них представлено на бирже, или, в случае молодых геннотерапевтических компаний, финансируются частными инвесторами, желающими получить серьезную прибыль как можно быстрее. Они отвечают только перед акционерами.
Ну и что? Каждая компания стремится к доходам, верно? Если Большая фарма зарабатывает на продаже лекарств, которые продлевают жизнь и уменьшают страдания, почему нет? Надо радоваться их прибыльности, потому что деньги пойдут на исследование и разработку новых лекарств и повышение качества уже имеющихся. Это азы бизнеса! Так просто, что даже профессор биохимии разберется. К сожалению, Большая фарма — исключение из правил, потому что хитроумно и коварно заставляет клиентов, не подозревающих об этом, щедро финансировать их исследования еще до того, как мы оплатим рецепт.
Вы ведь платите налоги? Если да, часть ваших денег идет в бюджет ведущего правительственного агентства медицинских исследований, национальных институтов здравоохранения, чьи научные приоритеты служат интересам Большой фармы. Вы когда-нибудь вносили деньги в частный научный фонд, например ассоциацию изучения сердечных заболеваний, диабетическую ассоциацию? Если да, вы оплатили создание неэффективных, а часто и вредных лекарств, которые потом очень выгодно продадут. Прибыли идут не к настоящим инвесторам, а к фармацевтическим компаниям, которые патентуют, производят эти продукты и торгуют ими. Мы платим дважды за то, что в лучшем случае не работает, а в худшем — убивает.
Большой фарме, однако, мало такого уютного механизма. В бесконечной погоне за прибылью она стремится получить государственную защиту от свободного рынка, хотя сама использует его по полной программе. Это как съесть пирожок и оставить его себе! Вот как это работает (спасибо профессорам Дональду Лайту из Университета медицины и стоматологии Нью-Джерси и Ребекке Уортбертон из Викторианского университета в Канаде, чьи работы показали ряд малоизвестных и порочащих фактов в отношении Больших утверждений о Больших затратах Большой фармы)7.
В онлайн-обзоре результатов Лайт и Уортбертон делают следующий вывод. Большая фарма оправдывает затраты и колоссальные прибыли заявлениями об очень высоких расходах на исследования и разработки, необходимые для вывода на рынок нового препарата. Чаще всего приводится ошеломляющая цифра — 1,32 млрд долларов за препарат. Это уйма денег, учитывая, что, согласно данным независимых групп обозревателей, 85% новых лекарств бесполезны или ничем не лучше имеющихся. Но, по словам Лайт и Уортбертон, цифра 1,32 млрд раздута, «чтобы оправдать высокие цены и [получить] государственную защиту от свободной рыночной конкуренции и большие налоговые льготы». Завышенные оценки помогают прикидываться бедными и водить за нос правительство, которое вводит антиконкурентные законы и освобождает их от налогового бремени. В конце концов, если ограничить фармацевтическую промышленность, произойдет трагедия и национальная катастрофа. Представьте: прорыв в лечении рака недалек, но мы его не увидим, потому что какой-то компании пришлось сократить бюджет на разработки.
Проведя тщательный анализ и опубликовав результаты в научных изданиях, Лайт и Уортбертон заявляют: «нельзя доверять никаким оценкам» стоимости разработки лекарств Большой фармой. Они выяснили, что для стандартных лекарств затраты намного меньше и в среднем составляют всего около 98 млн долларов на разработку (21–333 млн долларов), плюс какая-то сумма на исследования. Последнюю оценить практически невозможно, поскольку сложно понять, что считать научным исследованием, ведущим к изобретению конкретного препарата. К тому же, по данным Национальной академии наук и других официальных отчетов, большинство фундаментальных исследований проводится за государственный счет, и «84% мировых фондов на исследования формируется из государственных средств и благотворителями».
Независимые и надежные источники оценки стоимости говорят, что Большая фарма дурачит систему, как ребенка. Во-первых, они придумали эти 1,32 млрд долларов, оценив стоимость только 22% самых дорогих лекарств (новые химические соединения, разработанные самой компанией) и намекая, что это среднее значение для всех препаратов. Во-вторых, затраты на рандомизированные клинические исследования, которые они приводят, выглядят завышенными, поскольку в них включено в два раза больше участников, чем в среднем по данным FDA, а затраты на каждого выше в шесть раз. В целом стоимость исследований Большой фармы более чем в двенадцать раз выше, чем средняя, полученная из независимых источников. В-третьих, заявленная ими продолжительность как исследований, так и рассмотрения заявок на регистрацию новых лекарств существенно выше, чем заявляемая FDA.
И это не все! Большая фарма раздувает процентную ставку, которую использует для определения затрат на привлечение капитала, и игнорирует налоговую экономию, связанную с разработками и использованием офшоров. Этот недобор налогов, согласно Лайту и Уортбертону, «мог бы покрыть практически все затраты на фармацевтические разработки»8.
В целом цена, которую отрасль платит за разработку новых препаратов (с учетом государственных грантов), достигает всего 70 млн долларов, а не 1,32 млрд. Кстати, добавлять 0,02 млрд долларов к 1,3 млрд — смешно. Это говорит о том, что Большая фарма использует рыночный трюк мнимой точности, чтобы общественность поверила, будто они провели математическую оценку.
Большая фарма твердит нам Большую ложь десятилетиями. Когда в 1969 году президент Линдон Джонсон выступал перед группой руководителей фармпрома, он прямо заявил: им хорошо известно, что национальные институты здравоохранения проводят исследования за них, а по счетам платит общество.
Отрасль реинвестирует прибыли стратегически, скупая эфирное время, чтобы вещать Большую ложь. США — одна из двух стран мира (вторая — Новая Зеландия), в которых фармацевтическим компаниям можно обращаться не к врачам, а напрямую к клиентам9. Под натиском рекламы мы все чаще «спрашиваем доктора о виагре» и тысячах других фирменных лекарств.
Большая фарма не забывает и об «образовании». Согласно отчету 2008 года, в 2004 году для продвижения продуктов на каждого врача в стране было потрачено в среднем 61 тыс. долларов. Проводится много встреч с врачами, их кормят и поят, им оплачивают поездки и компьютеры, дают другие бонусы. В 2004 году, последнем, за который мне удалось найти данные, в США прошло 371 тыс. таких встреч, а это более тысячи ежедневно, включая выходные и праздники. Это дает в среднем двадцать праздников для врачей в день в каждом штате10.
Большая фарма получает от налогоплательщиков Большие субсидии, чтобы финансировать свои исследования, и платит намного меньше налогов, чем положено. Она энергично пытается выбить — путем раздутых затрат на разработки — налоговые послабления от ничего не подозревающего населения. Ей можно напрямую обращаться к клиентам, и никто толком не проверяет, что она говорит. Неудивительно, что из-за такой беспечности, по последним оценкам, «из 192 рекламных объявлений 82 [включенных в исследование] уникальных продуктов лишь 15 полностью соответствовали всем 20 нормам рекламы рецептурных лекарств FDA. Кроме того, 57,8%… не оценивало серьезность риска, а в 48,2% не были приведены проверяемые источники информации»11. Мало того, на рекламу Большая фарма тратит намного больше, чем на исследования. В отчете 2008 года за предшествующий год на продвижение продуктов было потрачено в два раза больше средств, чем на разработки12. Приоритеты расставлены неправильно! «Бескорыстная» программа Большой фармы проста: продавать, продавать, продавать, а в свободное время лоббировать налоговые льготы и субсидии в правительстве.
Доход Большой фармы в 2010 году составил 289 млрд долларов13, что превышает совокупные национальные бюджеты как минимум 80% стран мира14. Пожалуй, на это можно было бы пойти, если бы результатом — да хотя бы целью! — было улучшение здоровья. Но, как мы видим, это не так.
В довершение всего в рукаве Большой фармы есть еще один козырь. Важная проблема фармацевтического бизнеса — то, что здоровые люди обычно лекарств не принимают. Витамины, минеральные вещества и травы — да. Медицинские препараты — нет. Следующим шагом стала разработка профилактических средств. Их можно давать любому человеку, которому угрожают вездесущие убийцы вроде сердечных заболеваний, инсульта, рака и диабета, то есть в диетологически безграмотной стране — практически каждому.
Одной из таких попыток «профилактики» стало предложение разработать «политаблетку» для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)15. Она включала бы несколько с виду эффективных лекарств, в частности «три гипертензивных препарата разных классов в половинных дозах, аспирин, статин и фолиевую кислоту»16. Создание таблетки обосновывалось необходимостью «[уменьшить] бремя сердечно-сосудистых заболеваний с помощью стратегий, применяемых ко всей популяции или крупным сегментам»17. Непыльно и прибыльно!
Таблетка иногда приносит пользу, поэтому ее можно рекомендовать «всем лицам с диагностированными ССЗ и лицам старше пятидесяти пяти лет без ССЗ»18. Впечатляет. Оценка во многом основана на теоретических построениях и, похоже, получена путем сложения эффектов отдельных вмешательств за продолжительные периоды. Но совокупный эффект двух и более факторов практически никогда не суммируется, а побочные результаты комбинированной лекарственной терапии практически невозможно предугадать. Дело ухудшает еще и то, что идее поверили престижные национальные и международные медицинские организации19.
Защищая политаблетку, фармацевтическое лобби заявляет: «Первичная профилактика должна включать множество стратегий: правильную политику в области здравоохранения, улучшение окружающей среды, изменение образа жизни и использование проверенных и безопасных лекарств»20. Утверждается, что изменение образа жизни требует изменения в поведении. Это верно. Но дальше говорится, что такие изменения слишком дороги, «оказывают умеренный и ненадежный эффект, и способность уменьшения заболеваемости ССЗ не была показана в крупных долгосрочных исследованиях»21. Как в главе 2: если все население бьет себя молотком по голове и страдает от головной боли, учить их остановиться слишком дорого и неэффективно. Лучше заняться политикой в сфере здравоохранения и изменить среду, например расклеивать объявления, призывающие надевать каски, и советовать принимать обезболивающее на завтрак, обед и ужин.
Отчет22, на который они ссылаются, — метаанализ 31 исследования, собрание независимых вмешательств. Вошедшие в него работы посвящены изменениям образа жизни, ведущим к снижению риска заболеваний сердца после изолированного и разрозненного применения лекарств (лечение гипертонии, снижение уровня холестерина и сахара в крови), а также бессмысленные независимые (но не обязательно объединяемые) подходы к снижению массы тела: сократить потребление жиров, больше упражняться и бросить курить. Иными словами, если давать людям лекарства и просить их сбросить вес, есть меньше жиров и раз в день ходить вокруг дома, они не станут здоровее. И это они называют «изменением образа жизни»? Кого-то удивляет, что такой подход не сработал?
Большая фарма использовала этот сборник неполноценных исследований как пугало, утверждая, что «изменение образа жизни» не улучшает здоровья. Но сочетание лекарственных вмешательств (с недоказанными долгосрочными эффектами) и туманных призывов уменьшить массу тела (какими средствами — полезными для здоровья или нет?) и потребление жиров (еще один редукционистский результат, который можно получить не только улучшением диеты, но и потреблением переработанных «низкожировых» продуктов) ни в коем случае не может считаться «изменением образа жизни». Они должны быть холистическими, системными, постоянными и всеобъемлющими. Достойное доверия исследование на эту тему должно включать как минимум перевод участников на ЦРД. Но большинство специалистов в этой области не только отказываются признавать питание способом сохранить и восстановить здоровье, но и не хотят даже поинтересоваться его возможностями.
Индустрия добавок и нутрицевтиков
Пищевые добавки (к которым относятся не только однокомпонентные, но и широкий спектр пищевых и растительных экстрактов) — огромный бизнес (по последним подсчетам, в США он стоит 60 млрд долларов). При холистической парадигме он теряет все. В конце концов, добавки, как и лекарства, — продукт редукционистской науки, в которой нутриенты считаются независимыми игроками, делающими свое «дело» в отрыве от всего остального в организме и среде. Как я показал в части I, ограниченная эффективность добавок отражает ограничения породившей их науки: питательные вещества вне естественного контекста дают мало полезного, а иногда причиняют существенный вред.
Это не остановило производителей. Да и не могло, потому что статей так много: выбрав те, которые, хоть и ошибочно, поддерживают использование добавок, можно заработать уйму денег.
Сегодня индустрия добавок берет новые научные исследования отдельных нутриентов, поверхностно их обобщает, делает выводы о способности улучшать здоровье и выдает это за «науку». Компании добавляют свежеоткрытые «питательные вещества» в таблетки, организуют пиар-акции и пишут маркетинговые планы, как заставить сбитую с толку общественность эти добавки покупать. Но так было не всегда. Когда-то скромная отрасль разрослась до многомиллиардного монстра, эксплуатируя относительно молодую государственную политику либерализации продаж определенных медицинских препаратов.
Отрасль пищевых добавок родилась в 1930-х и несколько десятилетий росла медленно. Однако в 1970-х и в начале 1980-х произошли два события, давшие ей сильнейший импульс. Во-первых, в 1976 году американскому сенатору Уильяму Проксмайру и его коллегам удалось протолкнуть поправку к закону о продовольственном и лекарственном регулировании, позволявшую продавать витамины и минеральные вещества без рецепта23 (ранее он требовался для любого препарата, содержащего более 150% рекомендуемого суточного потребления). Во-вторых, в 1982 году Национальная академия наук опубликовала известный отчет о диете, раке и питании, который мы уже обсуждали24, и производители сделали из него научную вывеску для своих продуктов. В этом отчете, подготовленном за два года группой из тринадцати ученых, включая меня, речь шла об отдельных питательных веществах в том виде, в каком они существуют в цельных продуктах, например крестоцветных. Мы упомянули некоторые витамины и минеральные вещества, но не собирались стимулировать производство добавок, о чем ясно указали в резюме. Проигнорировав наши выводы, промышленность нагло заявила, что мы говорим противоположное и ей виднее!
Вот и весь рецепт успеха. Поправка Проксмайра открыла рынок, а отчет Национальной академии наук дал, по мнению компаний, научные доказательства пользы их продуктов. Какова комбинация! Но было одно препятствие: по стандартам FDA производители не могли заявлять о конкретной пользе продуктов для здоровья в рекламных целях. Свидетельства обмана с использованием нашего отчета уже всплыли на поверхность. Академия наук обратилась в Федеральную торговую комиссию и попросила меня представлять ее в судебных процессах. Я три года занимался проверкой данных, предоставленных производителями в качестве обоснования своих утверждений. Большинство их было фикцией, и суд ФТК со мной согласился.
Ни Академия наук, ни Торговая комиссия не нашли никаких подтверждений пользы добавок. Тем не менее индустрии по-прежнему удавалось вести бизнес, получая все большую свободу высказываний. Несмотря на существовавшие (и существующие) небольшие ограничения, они нашли способ — незримо, но мощно — рекламировать пользу добавок для здоровья и развить свою отрасль. Я не очень хорошо знаком с регуляторными и законодательными процессами, в следующие несколько лет вымостившими им путь к процветанию, потому что был занят своими исследованиями, а не политическими интригами. Но факт остается фактом: отрасль продолжала расти вместе с гонорарами юристов, создающих благоприятное для нее законодательство. Выручка увеличивалась вместе с числом людей, поддавшихся массированной рекламе и поверивших, что здоровье можно получить из бутылочки витаминов и таблеток с минеральными добавками.
Индустрия, уже устоявшаяся, получила следующий мощный толчок в 1994 году после принятия Закона о статусе и маркировке пищевых добавок — поправке к Федеральному закону о продуктах питания, лекарственных и косметических средствах. Она была призвана стандартизировать требования к маркировке и другие текущие вопросы, но придала добавкам вид научной достоверности и солидность. Большинство добавок и пищевых ингредиентов теперь стало можно относить к пищевым продуктам, и это изменение было радостно встречено производителями. К этому моменту добавки уже стали такой же частью американского быта, как машины, церкви и яблочный пирог, и даже вошли в число элитных продуктов, прямо как молоко.
Согласно отчету 2008 года25, разнообразие пищевых добавок в последние тридцать лет необычайно выросло: от исходных «алфавитных» витаминов (A, комплекс B, C, D, E) и минеральных веществ до пребиотиков, пробиотиков, омега-3 и концентратов цельных продуктов. Но в основе практически всех заявлений об их пользе для здоровья лежат все те же недальновидные результаты, которые мы разоблачили в части II.
Я упоминал об этой статистике выше, но стоит повторить ее еще раз. 68% взрослых американцев принимает пищевые добавки, а 52% называет себя «регулярными» потребителями26. На 2007 год рынок добавок в США составлял 25–30 млрд долларов, из которых на одни только витамины приходилось 7,4 млрд. Более свежие оценки американского рынка говорят о 60 млрд долларов. Мировые продажи пищевых добавок в 2007 году составили 187 млрд долларов. Тем не менее, несмотря на колоссальный рост рынка этих «полезных» продуктов, на поправку пошли только счета производителей.
Обычное дело
То, как деньги растлевают государственную политику и организации, не обязательно в области здравоохранения, описано много раз и подробно. Я сам мог бы создать целую книгу только на примерах, которые видел лично, и уже поделился некоторыми из них в «Китайском исследовании». Рассмотренные здесь отрасли — медицинская, фармацевтическая и производства добавок — не единственные в системе здравоохранения. Пищевые компании, в частности производители животных и суррогатных продуктов (которые я подробно рассмотрел в «Китайском исследовании»), тоже стали крупными игроками, искажающими наше здравоохранение, как мы увидим ниже. Однако эти отрасли получают больше всего прямых выгод от редукционистской парадигмы здоровья и сделали больше всего для ее продвижения и поддержания.
Я хочу, чтобы из приведенных здесь примеров вы поняли, как много денег можно заработать, игнорируя холистическое питание в пользу редукционистских решений, и как далеко может зайти индустрия в погоне за прибылью. В нашей сегодняшней системе здравоохранения это не исключение. Это обычное дело. То, что выглядит как вклад индустрии в наше благополучие, часто не более чем игра с выручкой под видом заботы о здоровье. Мы разберем многочисленные методы, благодаря которым корпорации поддерживают продукты, услуги и убеждения, гарантирующие им доход. А начнем мы с влияния индустрии на саму науку.
Глава 15
Наука и прибыль
Критиковать намного легче, чем быть правым.
Бенджамин Дизраэли
Вы можете спросить: почему же наука участвует в этих интригах? Почему ученые в связанных со здравоохранением дисциплинах создают работы, поддерживающие стратегии, которые погрузили нас в это болото? Ответ прост. Истина, к которой наука всегда стремилась, в искаженной системе здравоохранения подменена другими целями: деньгами, статусом, влиянием, личной безопасностью. Качество информации — основа здоровой информационной системы, а мотив прибыли исказил самую суть научных исследований, которые эту информацию создают.
Вспомните, как информация проходит в системе здравоохранения в идеальном обществе. На входе — важные вопросы, достойные изучения. Ученые вместе занимаются ими, используя разнообразные методики — от крайне редукционистских до радикально холистических. Это служит нескольким задачам. Во-первых, если результаты более или менее согласуются, они очень надежны. Во-вторых, редукционистские исследования ставят новые вопросы, дают параметры и рамки для холистических исследований и наоборот. В-третьих, противоречивые результаты, полученные в исследованиях разных типов, показывают, где нужно переосмысление допущений, а возможно, и прорывы в парадигме, чтобы приблизиться к истине. Как и в любой экосистеме, разнообразие способствует сложности, стойкости и грамотному производству научной информации.
В нашей системе, движимой прибылью, разнообразием исследований пренебрегли. Совокупность доказательств складывается не из множества точек зрения, а из данных, считающихся достоверными в текущей парадигме, — продуктов одной из разновидностей редукционизма. Узкий диапазон допустимых методологий и научных данных используют для создания более прибыльных «решений», которые создают больше проблем, требующих исследования и лечения.
Вопрос, который мы должны здесь задать, — «почему». Ответ, как вы увидите, в том, что ученых поощряют, если они предоставляют вырванную из контекста информацию, полезную для индустрии, но способствующую плохому здоровью, и карают, если они этого не делают.
Обнищание науки
В своей лучшей и самой полезной форме наука сочетает искусство холистического и редукционистского наблюдения и эксперимента и стремится к благополучию человечества. Но сегодня мы практически забыли искусство наблюдения целого, систем, в пользу точной количественной оценки и манипулирования мельчайшими деталями. Мы ошибочно судим о качестве научного поиска в медицинских дисциплинах по их точности и сосредоточенности на подробностях — на том, насколько они редукционистские. «Настоящие» ученые исследуют части, а не целое. Однако это обедняет и принижает цели истинной науки. То, чем сегодня занимается большинство ученых, правильнее назвать не наукой, а технологией.
Это различие очень важно. Технология занимается средствами, способом выполнения определенной задачи. Это последний этап прикладной науки, где результаты свободного творческого поиска создают почву для новых продуктов. Когда эта фаза выбрасывается из научного планирования, как происходит во многих медицинских исследованиях, мы больше не имеем дела с истинной наукой. Наука определяется ее методом. Это беспристрастный поиск истины, готовность оказаться неправым. Технология же определяется потенциалом рынка: достойны изучения вопросы, приносящие прибыль.
От современных технобиологов требуют глубоко изучать ДНК и клеточный метаболизм, но нельзя проявлять профессионального интереса к таким темам, как человеческое благополучие. Широкий поиск просто «ненаучен». Поскольку рамки сведены к редукционистским деталям, мы потеряли из виду истинное значение прогресса. Мы приравниваем движение вперед к развитию новых технологий и продуктов, а не к благополучию и счастью человечества.
Это не ново. Подчинение науки прибылям индустрии отмечалось в течение как минимум всего прошлого столетия, с тех пор как капитализм изобрел защиту интеллектуальной собственности, чтобы вознаграждать людей, чьи открытия и изобретения можно превратить в продукты, продажи и капитал. Когда появились патенты, товарные знаки, копирайт и другие защитные механизмы, двигатель промышленного капитализма заработал на полную, используя прогресс для создания прибылей, которые затем удобряли систему путем финансирования дальнейших исследований и развития. Система стала бесконечно самовоспроизводиться. Исходный рыночный успех давал капитал для финансирования следующих рыночных прорывов.
Факты и информация, поставляемые наукой и используемые для создания капитала, — топливо, поддерживающее работу маховика свободного рынка. Чем перспективнее исследование в этом отношении, тем скорее оно будет оплачено. Если не видно штрихкода, денег оно, скорее всего, не получит.
Как мы видели, технологический подход к питанию — тот, который приносит доход, — включает лекарства, добавки, а также обогащенные продукты. Все они очень выгодны и защищены законами об интеллектуальной собственности. Этот вид науки лучше финансируют, и поэтому таких исследований множество. Исследования цельной пищи, напротив, не имеют реального рыночного потенциала. Вы не можете запатентовать совет есть больше фруктов, овощей, орехов, семян и цельных злаков, поэтому промышленности нет смысла инвестировать, а исследователям — изучать и обосновывать эти утверждения.
Традиционная модель свободного рынка не будет полноценно продвигать здоровье, счастье и благополучие человека. Вместо холистического питания она дает нам ходкие фрагменты: добавки и нутрицевтики. Когда мы болеем от неправильного питания, рынок предлагает редукционистские решения: патентованные лекарства и дорогую хирургию. Из-за этого ученые маршируют под барабан промышленности в костюмах благородных искателей правды и штампуют новые способы делать деньги за счет нашего благополучия.
За деньгами
Вы никогда не задумывались, кто платит за медицинские исследования? Те, которые посвящены базовым биологическим принципам и законам, создают задел для последующего применения? Университетские профессора, по крайней мере штатные, имеют гарантированную зарплату1, но это не покрывает расходов на лабораторное оборудование и время выпускников-ассистентов и аспирантов, которые делают всю черновую работу.
Как политики, вынужденные тратить большую часть времени на сбор средств для переизбрания, многие ученые долго заполняют заявки на получение и продление грантов. Основной источник финансирования исследований, кроме университетов, — частные организации и правительство. Поскольку ученых, стремящихся получить финансирование, больше, чем денег для их поддержки, идет яростная борьба за средства, а частные компании и государственные органы должны решать, какие из множества проектов одобрить.
То, что мы называем исследованием, варьирует от очень фундаментальных работ с труднопроизносимыми названиями до прикладных экспериментов, которые правильнее было бы назвать технологией (хотя разделение между фундаментальным и прикладным часто туманно, и споры могут идти даже в одной организации). Полезны оба типа, но финансирование смещено в сторону последних, даже если не идет от промышленности.
Большинство медицинских исследований, фундаментальных и прикладных, спонсирует фарминдустрия и связанные с ней госорганы (например, национальные институты здравоохранения). Поскольку промышленность ожидает прибылей, ее выбор по понятным причинам склоняется в сторону прикладной науки. Главный критерий при оценке заявок, как правило, — сумма, которую можно заработать. Но даже государственные субсидии, идущие, например, через НИЗ или Национальный научный фонд (основные источники фундаментальных исследований), прямо или косвенно применяют редукционистские критерии почти ко всем работам на тему здоровья и питания.
К сожалению, в несколько последних десятилетий я наблюдал вторжение корпоративного сектора и его приоритетов в область фундаментальной науки в университетах и других научных организациях. Последствия видны практически на всех уровнях: от дизайна отдельных исследований (что и как изучать) и интерпретации результатов до направлений научной карьеры.
Деньги и дизайн исследования
Если ученый, подающий заявку на фундаментальное исследование, хочет получить финансирование, он обязан позаботиться, чтобы в его гипотезе была «конкретика» — эвфемизм редукционизма. Чтобы иметь шансы на победу, лучше предложить подробно исследовать биологическое действие отдельных нутриентов, а не продукты, из которых они взяты, или поискать ключевой биохимический механизм, объясняющий какой-то эффект, а не делать обзор вариантов. На уничижительном научном жаргоне холистические исследования называют «походом на рыбалку» или «подходом по принципу пулеметной очереди».
В фундаментальных исследованиях каждое редукционистское открытие обычно ведет к очевидному вопросу: «Что дальше?» Практически универсальный (и часто закономерный) ответ ученого — рекомендовать новые исследования. (Это, несомненно, гарантирует, что лаборатории не останутся без денег и работы!) В результате ученые теряют способность широко смотреть на основополагающие феномены, которые по идее должны быть сферой их компетенции как фундаментальных исследователей. «Что дальше?» — практически всегда еще один редукционистский вопрос, который приближает результаты предыдущего исследования к рынку. Не столь важно, руководствуются ли ученые в дискуссиях коммерческими интересами. Ведь результаты исследований все равно ценны и уместны, только когда на них можно заработать, а это влияет на наши мысли о следующем этапе. Как ни проводи и ни планируй работу, все равно это будет шаг к коммерческому использованию. Потенциальная рыночная ценность — испытанный мощный магнит, к которому тянутся исследовательские работы. С годами я все больше убеждаюсь, что рыночный потенциал — единственная цель даже самых фундаментальных, неприкладных биомедицинских исследований.
Я не говорю, что конкретные ученые обязательно это поймут. Они могут даже не подозревать об этом. Многих мои реплики оскорбят, и они станут отрицать, что лично их исследования направлены на коммерческую выгоду для себя и работодателей. Тем не менее они работают в системе, основной мотив которой — доход от инвестиций. Деньги — основное топливо, приводящее в движение нашу биологию и медицину, и практически все профессиональные исследователи — часть системы и чем-то ей обязаны. Чем вероятнее инвестиция в исследование принесет доход, тем больше энтузиазма и поддержки общества, от потребителей и предпринимателей до политиков и финансирующих науку органов.
Деньги и научная честность
Есть свидетельства того, что финансовое давление даже побуждает исследователей опускаться до мошенничества, чтобы порадовать спонсоров. Я говорю не о таких вопиющих грехах, как фальсификация или подтасовка данных, а о более тонких моментах. Согласно красочно озаглавленной статье «Ученые шалости», вышедшей в июне 2005 года в Nature, опрос более 3000 американских ученых, получавших финансирование НИЗ, показал, что 15% «меняло дизайн, методы или результаты исследований под давлением источника финансирования»2. Если разбить эти данные по этапам карьеры, становится еще интереснее: в начале карьеры только 9,5% ученых говорит о таком поведении, но уже к середине цифра подскакивает до 20,6%. Похоже, промышленность успешно учит ученых соответствовать их рыночным мотивам. Кроме того, такой рост может показывать, что чем дольше человек погружен в систему, тем меньше он склонен ее трогать. Вложено слишком много времени, энергии и профессионального статуса, души, чтобы рисковать финансированием.
Два других откровения из той же статьи показывают, как эти сомнительные практики сочетаются и вредят медицинским исследованиям. Во-первых, 15,3% ученых признаются: они «отбрасывают результаты наблюдений и данные, если чувствуют, что те неточны». Они видят только то, что хотят, и пренебрегают остальным! Даже если результат-«выброс» выжил в редукционистском исследовании, каждый седьмой ученый считает допустимым его проигнорировать по указке «интуиции», или предубеждения. Во-вторых, 12,5% заявили, что не обратят внимания на «использование в других работах неверных данных или их сомнительную интерпретацию» при формировании собственных исследовательских задач и поддержке выводов. Они будут прикидываться, что плохое исследование, совпадающее с их мнением, на самом деле хорошее и его можно цитировать, чтобы обосновать свои убеждения. Вывод таков: отрасль медицинских исследований жонглирует фундаментальными истинами, выбирает и отбрасывает данные, чтобы поддержать заранее известные и оплаченные выводы, и, вероятнее всего, не будет мешать продажам и маркетинговым планам индустрии, спонсирующей такие работы.
Цифры, приведенные в предыдущем абзаце, занижены. Во-первых, такое поведение рефлекторно и подсознательно. Многие исследователи действительно не отдают себе отчет в развращающем влиянии желаний и давления спонсоров на честность их работы. Во-вторых, даже при гарантиях анонимности о «плохом» поведении сообщат не все респонденты. В-третьих, на вопросы ответило чуть меньше 42% опрошенных. Возможно, оставшиеся 58% более подвержены влиянию денег, так как в добровольных опросах участвуют люди, которым не нужно что-то скрывать и не стыдно за свое поведение.
В статье не рассматривалось, как именно эти ученые меняли дизайн и методологию, но мой опыт в качестве получателя грантов и члена комиссий, оценивающих заявки, подсказывает, что они практически гарантированно смещены в сторону редукционизма — к большей конкретности, предположениям о причинной связи, менее «запутанному» дизайну наблюдений.
Деньги и карьера
Диетологов награждают за создание и укрепление системы, сосредоточенной вокруг отдельных, вырванных из контекста нутриентов, и наказывают за изучение настоящих продуктов и популяций в реальном мире. Это важно не только на уровне отдельных исследований, но и когда речь идет о выборе пути в науке. Возьмите, например, китайского ученого Лю Жуйхая. Профессор Лю, как вы помните из главы 11, провел переломное исследование, показавшее, что активность антиоксидантов в яблоке в 263 раза выше, чем содержащегося в нем витамина C. Лю встал перед выбором: в каком направлении вести работу?
Он мог показать тот же эффект — «целое больше суммы частей» — на многих растениях и веществах. Его исследования, как мы знаем из выводов других ученых, были способны дискредитировать обманчивые и часто опасные утверждения производителей добавок и нутрицевтиков. Он мог посвятить карьеру идее, что потребление растительной пищи опережает редукционистский подход — таблетки с «активным компонентом» продукта.
Но в науке такой путь не найдет финансовой поддержки. Поэтому, будучи хорошим, даже выдающимся исследователем, он выбрал редукционистский подход как единственный, который мог принести деньги. Если он хотел чего-то достичь в профессии и не остаться без работы, необходимого оборудования и сотрудников для исследований, решение было очевидным.
Встав на путь редукционизма, профессор Лю исследовал много интересных идей. Он искал в яблоках вещества вроде витамина C, объясняющие разницу между его химической и предполагаемой биологической активностью. Он определил их химическую структуру, механизм всасывания и распределения в организме, метаболизм, силу. И все это на исключительно высоком уровне. Многие могут позавидовать его репутации и профессиональному статусу. Его цели — из тех, что легко привлекают финансирование. У него много студентов, результаты их исследований выходят в прекрасных научных журналах.
Дело не в том, что редукционистский подход неинтересен или не дает ничего ценного. Я очень люблю редукционистские исследования, которые провел. Они бросали мне вызов и стимулировали мышление, а когда я «сужал» тематику, то не испытывал недостатка в государственном финансировании творческой работы и привлекательных проектов. Благодаря этим исследованиям студенты развивали критическое мышление, учились планировать эксперимент, овладевали навыками научной работы и написания статей. Все было очень полезно для них, научного сообщества и общества в целом.
Проблема не в том, что редукционистские исследования — один из вариантов карьеры. Скорее, дело в том, что это единственный вариант. По пути профессора Лю идут тысячи молодых специалистов — от фундаментальной биологии до прикладных наук. Исследователей награждают за следование по проторенному пути редукционизма. Так намного легче получить финансирование. Так надежнее заработать и укрепить научную репутацию.
Если бы профессор Лю остался верен себе и пытался внести в западную науку холистические начала китайской медицины, ему бы не хватало средств, нормальной лаборатории и мотивированных студентов и он бы и близко не подошел к достойным должностям. Тому, кто научился грамотно проводить редукционистские исследования, вернуться к холизму практически невозможно. Тогда он рискует потерять все, на что ушли годы работы: финансирование, место, престиж и влияние. Поэтому, закрепившись на хорошо оплачиваемой позиции, исследователь становится еще покорнее спонсорам и господствующей в данной дисциплине парадигме.
Мне не хотелось приводить в пример моего друга и коллегу. Я знаю и ценю преданность делу, настойчивость и честность профессора Лю. Однако он прекрасная иллюстрация выбора, перед которым стоит каждый ученый. Выбора, который, учитывая нашу систему, не существует.
Деньги и специализация
Спонсоры редукционистской научной программы не только поощряют редукционистский дизайн исследований, но и награждают узость мышления о том, что важно, а что нет. Это приводит к появлению все более специализированных областей знания.
«Здоровье человека» слишком сложно, чтобы считаться настоящей научной дисциплиной, но «биология» теперь слишком всеобъемлюща и не может считаться допустимой областью исследования. Вместо того чтобы стать биологом, вы становитесь биохимиком, генетиком, микробиологом, нейробиологом, биоинформатиком, молекулярным биологом. Никаких «естествоиспытателей» больше нет. Зато появились зоопсихологи, экологи, эволюционные биологи, энтомологи, морские биологи и специалисты по биоразнообразию. Но даже эти дисциплины (я скопировал их из списка специализаций на сайте кафедры биологии Корнелльского университета) сегодня звучат до смешного общо. Кафедра молекулярной биологии и генетики (кстати, отдельная от кафедры биологии) предлагает студентам следующие дипломные программы: биохимия, молекулярная и клеточная биология; биофизика; генетика, геномика и биология развития; а также сравнительная, популяционная и эволюционная геномика.
Такое деление неизбежно по мере того, как мы узнаем все больше о нашей бесконечно сложной биологии. Знаний так много, что естественно и полезно разбить их на подразделы: биохимию, генетику, патологию, диетологию, токсикологию, фармакологию и т. д. Плодотворно обсуждать идеи проще, когда единомышленники способны общаться на точном общепонятном языке.
Однако такое деление подпитывает иллюзию, что каждая дисциплина занимается чем-то совершенно отличным от всех остальных. Субдисциплины приобретают свое лицо и строят интеллектуальные границы, отгораживаясь от других наук, которые могли бы внести конструктивный вклад в обсуждение более широких медицинских тем. Чтобы патологи воспринимали вас всерьез, вы обязаны быть патологом. Ни один генетик не согласится, что может узнать что-то полезное от диетолога и т. д. В результате эти анклавы (я считаю их крохотными пещерками) становятся не только узкоспециализированными, но и изолированными и враждебными.
Быть сведущим в биомедицинской дисциплине или субдисциплине, сохраняя при этом понимание общей совокупности биомедицинских исследований, в которую та входит, не модно. Пытаясь не заработать репутации людей, которые «за все берутся, но ничего не умеют», ученые стремятся сосредоточиться только на своей специальности. Они могут досконально изучить гвозди, но часто не имеют представления, когда лучше взять отвертку, бутылку клея или соединить детали шипами.
Эту проблему замечали и до меня. Были попытки ее решения — перекрестные и междисциплинарные программы, призванные стимулировать общение между специалистами. Но даже в них сохраняется групповая идентичность. Люди по-прежнему несут свои ярлыки. Здесь, как и в исследовательской работе, компетентность в конкретной дисциплине ценится больше, чем целостное понимание взаимосвязей между ними.
Я принимаю и понимаю рост специализации биомедицинских исследований. Но у него есть и недостаток, о котором очень часто забывают, и серьезный. Некоторые специализированные субдисциплины дают более выгодные редукционистские решения и поэтому получают больше финансирования. Тогда они начинают еще сильнее доминировать в научном сообществе, создавая платформу для господства над общественным мнением. Даже не отдавая себе в том отчета, они контролируют диалог о вышестоящей дисциплине, в которую входят. Они становятся основным мнением, и причина не в том, что они более ценны для решения задачи, а скорее в большей способности окупать инвестиции.
Общество должно об этом знать, потому что такое дробление — важный источник путаницы. Одна субдисциплина предлагает свою точку зрения по какой-то теме, а вторая и третья смотрят с другой перспективы, вмешиваются в спор и иногда порождают конфликт. Общественности, не способной разобраться самостоятельно, остается лишь угадывать, кто прав, хотя ответа может не быть ни у кого. Помните слепцов и слона? Любая замкнутая субдисциплина резко ограничена в своем видении «целого».
Если кто-то — квалифицированный специалист в медико-биологических науках, это значит лишь то, что он владеет частицей знаний специализированного подраздела, а при обсуждении общих вопросов биологии и медицины он не обязательно ценнее дилетанта. Из-за узости специализации такие ученые могут даже хуже разбираться в широком контексте. Это немного напоминает лягушку, которая всю жизнь прыгала на дне ямы и рассказывает нам о мире.
В биологии и медицине нет лучшего примера ложно понятого элитизма, чем люди, называющие себя генетиками, особенно молекулярными. Сейчас они получают особенно много средств, выделяемых на биомедицинские исследования, и поэтому стали доминировать в профессиональном сообществе и публичной дискуссии. У них есть деньги, чтобы создавать и описывать результаты, отдавая приоритет собственным интересам и взглядам. Они могут иногда расширять границы и включать другие дисциплины, но только на своих условиях. Например, генетики считают диетологию наукой, совершенно не связанной с их сферой, — и это в лучшем случае! Там, где они пересекаются, диетологию определяют как раздел генетики — «диетологическая геномика», «эпигенетика», — сводя ее минимум ко вторичной, иногда даже совершенно не связанной со здоровьем дисциплине. Генетики управляют дискуссией. Это не обмен информацией между равными: генетики используют диетологию, потому что она эффектна на публике, но сильно искажают ее и контролируют важную для общества диетологическую информацию.
От дробления наук о здоровье на субдисиплины выигрывают материально заинтересованные спонсоры. Как и в любой рыночной системе, чем больше претендентов борется за ограниченные фонды, тем яростнее конкуренция и тем сильнее кандидаты вынуждены преувеличивать важность своих научных программ и методологий, чтобы задобрить состоятельных покровителей.
Деньги и приоритеты
Иногда подсознательная установка на прибыль, обусловливающая редукционистскую сущность практически всех исследований, влияет и на то, что получит приоритетную поддержку. В некоторые науки вкладывается больше денег, чем в другие. Генетика, как мы видели, гораздо более «горячая» тема, чем диетология. Предполагаемый рыночный потенциал генной терапии для укрепления иммунитета привлекает намного больше денег, чем рыночный потенциал брокколи. Деньги рекой текут в генетику и тестирование лекарств не потому, что это самый многообещающий и эффективный путь улучшения здоровья, а потому, что это прибыльнее всего. Это лучший способ удовлетворить потребности рынка.
Можете себе представить пользу для здоровья американцев, если полтриллиона долларов ежегодной выручки Большой фармы пустить на пропаганду ЦРД и обеспечить население свежими, натуральными, рационально выращенными овощами и фруктами по умеренной цене? Нам сложно вообразить такую инициативу. В сегодняшней системе она кажется невозможной. Но почему? Почему, если всеобщий переход на ЦРД так эффективен, немыслимо объединение общества вокруг диетологического проекта? Потому что мы знаем: исследования и программы в здравоохранении отражают приоритеты ориентированной на прибыль отрасли, а не научные или общественные интересы. Такая инициатива принесла бы здоровье, а не деньги (хотя в долгосрочной перспективе обеспечивает прибыль в виде экономии на здравоохранении!).
Здесь акцент на рентабельном редукционизме и влияет на государственное финансирование, хотя оно вроде бы не руководствуется мотивом прибыли. Посмотрите, например, на национальные институты здравоохранения США — самого престижного и богатого спонсора медицинских исследований в мире. Это 28 институтов, программ и центров, занимающихся раком, старением, офтальмологией, злоупотреблением алкоголем и многими другими аспектами здоровья человека. Но ни один из них не работает над проблемой питания! (Если, конечно, ради смеха не считать таковым Институт по вопросам злоупотребления алкоголем и алкоголизма.) Из мизерного финансирования, выделяемого НИЗ на диетологические исследования (всего 2–3% бюджета институтов, специализирующихся на сердце и раке, а в других институтах и программах и того меньше), большинство средств уходит на изучение эффектов отдельных питательных веществ в рандомизированных клинических испытаниях, оптимальное питание пациентов, принимающих определенные препараты, а также биохимические исследования функции конкретных нутриентов. (В прошлом ряд проектов НИЗ периодически затрагивал холистическую основу медицинских исследований и клинической практики — конечно, без странного слова холистический! — но они были забыты при формировании продовольственной и медицинской политики и в основном остались на страницах научной литературы.) К сожалению, общество пришло к убеждению, что такие научные приоритеты — лучший способ достичь цели, просто потому что это лучший способ заработать.
Финансирование исследований: взгляд изнутри
Мне известно, как деньги расставляют приоритеты, потому что я долго был и получателем грантов, и рецензентом финансирующих органов, определяющих, какие заявки получат деньги, а какие нет. Мне хорошо знакомы и отчаяние, когда нужно облечь исследовательские вопросы в удовлетворяющую комиссию форму, и давление, заставляющее искать редукционистские ответы.
С годами осознание ограничений редукционизма все больше меня беспокоило. Взгляды менялись, и было все труднее и неприятнее преподавать традиционные (редукционистские) взгляды на питание — то, чему меня учили. Я старался преодолеть рамки редукционистской парадигмы и понимал, что чего-то не хватает.
И тогда я начал получать зловещие предупреждения. Одно мне неофициально дал бывший коллега, член группы по рассмотрению заявок на исследования НИЗ («секция исследований» на жаргоне сотрудников), в которую мы подали последнюю (оказавшуюся успешной) заявку на грант для продолжения проекта в Китае. В ней я с энтузиазмом писал о биологически сложной связи диеты с раком и том, что наш проект может открыть уникальные возможности для создания сложных моделей возникновения заболеваний, возможно, отражающих более холистическую природу болезней, чем линейная механистическая модель. Это вызвало глубокую озабоченность комиссии. Как сказал мой коллега, нарушив тем самым обычный для рецензентов обет молчания, в своей заявке я подошел опасно близко к холистической стратегии исследования. Он посоветовал мне никогда больше не ссылаться на холистическую интерпретацию. Мне было указано, что я поставил под угрозу основной принцип биомедицинских исследований и это могло стоить нам денег на важный заключительный трехлетний этап проекта. Вскоре после этого я предпочел завершить программу экспериментов, длившуюся более тридцати лет. Решение далось мне непросто, потому что такие исследования долго были делом моей жизни и я обожал работать со студентами. Но я больше не мог заставлять себя писать заявки на исследование узких гипотез о крохотных, вырванных из контекста деталях3.
Но этот выбор — выйти из системы и даже бросить ей вызов — есть не у всех. Наша программа в то время была крупнейшей, хорошо финансируемой, мы работали на большой кафедре наук о питании, считавшейся лучшей в стране. Это дало мне возможность изучать вопросы, которые незаметно подтачивали господствующую парадигму. Другие, особенно начинающие ученые, испытывают гораздо большее давление и должны соответствовать спонсируемым промышленностью ожиданиям научного сообщества.
На комиссии тоже давят. С конца 1970-х до конца 1980-х я был членом комиссии по рассмотрению заявок на гранты для Национального института рака НИЗ (и других организаций по изучению рака). Несколько раз заявитель с энтузиазмом предлагал изучить биологический эффект, рассматривая сравнительно широкую гамму причинных факторов, — смотрел на проблему холистически. Такие заявки быстро отклоняли и в дальнейшем не рассматривали как приоритетные для финансирования. Обычно я соглашался с этими решениями, потому что у заявителей часто напрочь отсутствовали сосредоточенность и чувство цели. Но не всегда. Иногда в рефлекторном отбрасывании нашей комиссией заявлений было нечто большее, что я считаю особенно поучительным и тревожным: вера, что узкоспециализированные гипотезы единственные заслуживают финансирования.
Иногда я узнаю об исследованиях, которые получают финансирование при системном подходе, схожем с нашим. Однако в те годы наша работа была единственным проектом, интерпретирующим данные таким образом. То, что мы узнали в Китае, в сочетании с данными нашей лаборатории полностью перевернуло наши представления о диете. Представьте, что еще можно узнать, если мы профинансируем хоть немного нередукционистских исследований!
Финансирование ради прибыли: издержки для общества
Я не понаслышке знаю о страсти и честности большинства исследователей и практиков биологии и медицины. Но они работают в системе, давление которой вынуждает их заниматься только редукционистскими проектами и затрудняет превращение страсти и честности в хорошую, эффективную науку.
Как я говорил в части II, редукционистское исследование неполно. Ему по определению не хватает понимания целого, необходимого, чтобы наработки стали осмысленными. Предложенные им решения — как и любые решения для сферических коней в вакууме — не выдерживают столкновения с реальностью. Но мотив прибыли не только ограничивает способность исследователей строго следовать научному методу из-за приоритетов отрасли. Он ведет к серьезным негативным последствиям, например стремлению промышленности конвертировать сомнительные новые исследования в деньги как можно быстрее.
Продукты, возникающие в результате редукционистских медицинских исследований, в основном действуют через шприцы, таблетки и микстуры, а их спонсоры (или инвесторы) выталкивают их на рынок как можно быстрее, обычно еще до того, как выводы работ, на которых они основаны, полностью изучены и интегрированы в науку. Конечно, компании тестируют новые продукты и даже тратят круглые суммы в расчете, что рандомизированные контролируемые исследования дадут положительный результат. Иногда так случается. Однако, чтобы назвать эти результаты по-настоящему перспективными, надо предположить, что краткосрочные эффекты укрепляют здоровье в долгосрочной перспективе, а это рискованно и обычно необоснованно.
Из-за давления рынка создаются продукты, основанные на незрелых научных выводах, с непредсказуемыми долгосрочными последствиями. Неудивительно, что польза от них ограниченна, а в худшем случае они вообще вредны.
Витамин E, который мы обсудили в главе 11, — хороший пример. В известном исследовании было высказано предположение о корреляции между уровнем витамина E в организме и здоровьем сердца4. Промышленность начала рекламировать его как полезную добавку и вбросила ее на рынок. Затем появились доказательства, что добавление витамина E повышает общую смертность, в том числе увеличивая риск рака простаты и вторичных сердечных заболеваний5. Эти данные промышленность игнорировала, пока было возможно. Увидев новую, убийственную информацию о витамине E, ученые пришли к консенсусу: банкет надо продолжить6. Все хотят спасти рынок витамина E, а если ничего не выйдет, найти ему замену. Есть очевидный стимул найти доказательства, оправдывающие дальнейшую продажу таких продуктов.
Я не осуждаю отдельных людей из моего сообщества (хотя некоторые могли бы проявить больше смелости и изобретательности!), а говорю о мире науки в целом, на который так сильно влияют силы рынка, показывающие, что от нас ожидают. Большинство понимает, что деньги решают все. Но немногие из моих коллег-ученых и практикующих врачей действительно осознают, насколько деньги портят. Это настолько распространено, что сложно заметить изнутри. Когда мы в желудке у зверя, как мы определим, какой он породы и вообще зверь ли это?
Наши исследовательские приоритеты слишком часто определяются личными интересами, а не благом для общества. Но платит за исследования оно, оно же зависит от их результатов, и в сегодняшней системе его же за это наказывают. Отдельные ученые могут преуспеть, придерживаясь редукционистской линии корпораций, но мы не приближаемся к нашей цели — здоровью.
Глава 16
Вопросы СМИ
Научные данные лежат в основе наших решений о здоровье. Они используются обычными людьми для выбора образа жизни и покупок, врачами — для диагностики и лечения пациентов, чиновниками — для формирования политики, промышленностью — для создания и улучшения продуктов и заявлений об их пользе для здоровья, а страховщиками — для определения, какие заболевания и методы лечения включать в страховку. И это только некоторые примеры влияния результатов исследований на повседневную жизнь.
Ключевое звено между исследованием и потребителями — СМИ. Профессиональные журналисты оценивают и публикуют научные статьи, основываясь на восприятии редактором их обоснованности и важности результатов. Ведущие СМИ сообщают о них обычным читателям, комментируя и давая советы, основанные на научных данных. Без СМИ эти открытия остались бы никем не замеченными в лабораторных записях и умах ученых. Поэтому СМИ незаменимы для переноса информации от создателей к тем, кто ее использует.
В идеале СМИ — не просто канал, четко передающий информацию от создателей обществу. Они традиционно служат противовесом власти — государственной и научной (способность заглянуть в суть и рассказать все тайны — определенная форма власти). Контрольные функции требуют критического отношения к данным и их надежности, способности отвечать на трудные вопросы, журналистской независимости. Необходима прозрачность мотивов, чтобы конечные потребители информации могли принять аргументированное решение, как оценивать подачу научных доказательств разными СМИ.
К сожалению, независимая, умная журналистика в области здравоохранения — редкость. Чтобы получить смелое и непредвзятое освещение этих вопросов, нельзя полагаться ни на профессиональные издания, например Journal of the American Medical Association (JAMA), ни на обычные СМИ, например Службу общественного вещания (Public Broadcasting Service, PBS). Я привожу именно эти примеры, потому что они считаются вершиной в своем жанре: от них меньше всего ожидаешь жонглирования правдой. Я не говорю, что они хуже других. В вашей газете или вечерних новостях по телевизору полно куда менее умных и честных сообщений о здоровье. Я просто хочу, чтобы вы поняли: проблема не в нескольких «гнилых яблоках», а в системе, в которой барахтаются СМИ, и в жаждущих прибыли владельцах.
Профессиональные издания
Первой остановкой на пути результатов исследований к потребителю становится один из профессиональных журналов. Они различаются по влиятельности и престижу. Статьи в Nature, JAMA и New England Journal of Medicine (NEJM) часто попадают в вечерние новости, если кажутся интересными и уместными. Другие престижные журналы известны только практикующим специалистам. Примеры — Cancer Research, American Journal of Cardiology и сотни других, посвященные конкретным дисциплинам и субдисциплинам. Еще одна группа изданий имеет репутацию «второго эшелона» и выживает благодаря статьям, которые не слишком хороши для изданий высшего ранга.
Главная защита журналов от некачественных исследований — рецензирование. Редколлегия отправляет присланные рукописи двум, иногда трем квалифицированным рецензентам (опытным ученым в той же области), чтобы оценить качество работы и значимость результатов. Автору они неизвестны. Система призвана отфильтровать некачественные и недостоверные исследования. При условии честной работы это одна из важнейших гарантий научной чистоты. Авторитетная с виду статья, которая не прошла процесс рецензирования, не должна, на мой взгляд, служить доказательством чего бы то ни было.
Однако процесс начинает хромать, когда рецензенты руководствуются своими предубеждениями, заранее считают, что определенная тема исследований избыточна, или конкретный дизайн (например, холистический) неуместен, или определенные выводы не могут быть правильны по определению. Иными словами, когда они догматически держатся за парадигму вместо того, чтобы стремиться ее расширить. Рецензирование может стать помехой любознательности и творчеству и мешает многим перспективным исследованиям, гарантируя, что они не будут опубликованы. Это происходит очень часто. Не случайно процесс рецензирования пронизан редукционистской предвзятостью: она может служить финансовым интересам самих журналов, привлекая и удерживая рекламодателей.
Может быть, вы помните, что, когда мы сравнивали редукционистский и холистический дизайн, для тестирования действия лекарственных средств лучше подходил редукционистский подход. Имеет смысл изучать редукционистские феномены, например таблетку с одной функцией, в редукционистских же рамках. Медицинские журналы делают большие деньги, угождая Большой фарме. Профессиональные издания, как и обычные газеты и журналы, часто финансируются за счет рекламы. Марша Энджелл, бывшая редактор NEJM, пишет, что в 2001 году фармацевтическая промышленность потратила на рекламу в медицинских журналах 380 млн долларов. Иначе те не выжили бы. Понятно, что никакой рецензент не укусит руку, кормящую издание.
Большая фарма спонсирует медицинские журналы и более хитрым способом: через репринты статей. Если исследование, вышедшее в престижном журнале, поддерживает утверждения производителя препарата — это очень хорошо для продаж, потому что представители фармкомпаний подсказывают врачам, что надо выписывать, вручая дорогие глянцевые перепечатки статьи (обычно с коробочкой пончиков или угощением получше). Репринты повышают рентабельность журналов, по данным бывшего редактора British Medical Journal Ричарда Смита — иногда на 80%1. А в исследовании 2010 года2 показана корреляция высоких продаж репринтов с исследованиями, финансируемыми индустрией. Иными словами, опубликованные исследования, за которые заплатила компания, намного вероятнее принесут журналу большой доход от репринтов. О каких суммах речь? Заказ на репринт стоимостью миллионы долларов — обычное дело3.
Даже оставив в стороне очевидный вопрос, предпочитают ли рецензенты медицинских журналов работы, демонстрирующие положительный эффект препарата, мы можем увидеть, что холистическое исследование, скорее всего, не даст прибыли от перепечатки. Кому выгодно распускать слухи, что потребление переработанной пищи и произведенных в промышленных условиях говядины, молока и птицы повышает риск заболеваний? Даже ретейлер «натуральных продуктов» Whole Foods получает доход от переработанных продуктов. Wall Street Journal в 2009 году сообщал, что СЕО[19] этой сети Джон Маки признался: «Мы продаем кучу мусора»4.
Медицинские журналы ощущают финансовые стимулы, если не прямое давление, своих фармацевтических благотворителей, чтобы публиковать редукционистские исследования, пропагандирующие эффективность препаратов и других доходных вмешательств. Другие модели и точки зрения представлены в медицинской литературе намного хуже, и из-за этого читатели — врачи, исследователи, правящие круги и общество в целом — ошибочно полагают, что предвзятые обрывки данных, прошедшие через фильтр медицинских журналов, на самом деле отражают нечто большее.
Я много раз наблюдал тенденциозность редакционной политики медицинской прессы. Нам удавалось публиковать результаты о действии животного белка в очень авторитетных журналах, но более обширные комментарии о значении этих данных — совсем другое дело (по завершении работы над этой книгой я собираюсь заняться этим еще активнее).
В главе 3 я упоминал разговор с моим коллегой Питером Мэги, главным редактором Cancer Research — ведущего онкологического журнала в нашей области. Я рассказал ему о планируемом эксперименте по сравнению влияния белка на развитие рака с признанным эффектом по-настоящему сильного химического канцерогена. Я надеялся показать, что сравнительно небольшое изменение потребления питательных веществ сыграет даже большую роль, чем мощные канцерогены. Он отнесся к идее скептически, но согласился, что, если мы действительно получим такие данные, он их разместит на обложке журнала.
Однако когда все было готово к публикации, мой коллега покинул пост редактора. Его преемник и новый редакционный совет отрицали влияние питания на рак. Им нужны были статьи о более «интеллектуально стимулирующих» идеях — действии рака на молекулярном уровне, особенно если работы касались химических веществ, генов и вирусов. Хотя мы строго придерживались редукционистских процедур, наше исследование было для них почти бессмыслицей. Естественно, Cancer Research не опубликовал нашу статью.
Еще один холодный прием в медицинском журнале я получил после сотрудничества с директором и основателем True North Health Center доктором Аланом Гольдхамером. Мы были соавторами ретроспективного анализа сильнейшего влияния его программы голодания на пациентов с гипертензией5. У всех 176 пациентов, рассмотренных нами, было отмечено падение давления крови в большинстве случаев в течение нескольких дней после начала голодания. Результат был относительно быстрым и более заметным, чем у всех изученных антигипертензивных препаратов, и не имелось побочных эффектов. Вмешательство оказалось чрезвычайно эффективным. Однако такие журналы, как JAMA и NEJM, доходы которых зависели от массированной рекламы лекарств от давления, отклонили публикацию, несмотря на мнение рецензентов. Они предпочли свое богатство вашему здоровью.
Самый вопиющий пример предвзятости и затыкания рта со стороны научного журнала был связан с крайне низкокачественным исследованием6, которое якобы подтвердило, что опасная диета Аткинса эффективнее в борьбе с лишним весом и ожирением у женщин, чем три другие, включая низкожировую диету доктора Дина Орниша. Статья была опубликована JAMA в марте 2007 года, и в ней грубо искажались результаты исследования. Всего один пример: авторы утверждали, что участники на диете Орниша, согласно рекомендациям, потребляли не более 10% жиров. Однако при внимательном знакомстве с таблицей данных оказалось, что они на самом деле 12 месяцев получали из жиров около 29% калорий. Это не помешало авторам настаивать на честности сравнения, и обман был поддержан редактором колонки писем в редакцию, доктором Робертом Голубом, который отказался публиковать информацию о серьезнейших недостатках работы, в том числе комментарии самого доктора Орниша, доктора Джона Макдугалла, доктора Колдуэлла Эссельстина и мои. Тогда я написал доктору Голубу письмо с жалобой на антинаучное поведение и призвал его опубликовать хоть какую-то аргументированную критику. Его ответ? Весьма содержателен:
Уважаемый проф. Кэмпбелл,
Ваше письмо отклонено, и мы не будем вступать в дальнейшую переписку по данному вопросу.
Доктор Голуб должен был быть немедленно уволен с выговором. Это непорядочность высшей пробы. Однако при существующей системе медицинской прессы это норма. В конце концов, Фонд Аткинса — больше чем диета. Это отдел пропаганды многомиллиардного бизнеса. Он «заказывает музыку» в виде грантов, составляющих миллионы долларов в год7, а врачи и исследователи, которым не стыдно торговать своей репутацией, весело пляшут под его дудку на страницах самых авторитетных медицинских изданий мира.
Ведущие СМИ
Большинство людей не читает научных журналов. Новости о здравоохранении они узнают из газет, телевизора и новостных сайтов в интернете, принадлежащих крупным медиакорпорациям. В идеале журналисты, освещающие медицинские сенсации, тщательно изучают ведущие профильные журналы, участвуют в конференциях и берут интервью у ученых о новых открытиях и текущей работе. Они используют собственное образование и опыт научной работы (часто небогатый), чтобы оценить и интерпретировать результаты для людей, не имеющих специальной подготовки, — включая большинство чиновников. Одна из главных задач журналистов, пишущих о здоровье, — показать контекст новых результатов, вписать новую информацию в уже существующие знания. Она подтверждает, противоречит, расширяет или вносит нюансы в текущую парадигму?
СМИ должны быть честными, дотошными и разбираться в том, о чем пишут. Но часто они не соответствуют ни одному пункту. Большинство СМИ поклоняются незримой силе корпораций, которые ими владеют (в случае основных сетевых и печатных изданий), рекламодателей и спонсоров, чиновников и даже государственных деятелей (в случае общественного вещания).
Как коммерческие, так и большинство некоммерческих СМИ просто передают точку зрения промышленности и правительства, укрепляя редукционистскую парадигму, и дополнительно сочиняют сенсации, чтобы щекотать нервы: «Научный прорыв в войне с раком!», «Новая таблетка от ожирения на основе суперпродукта из лесов Амазонии!», «Может ли шоколад лечить депрессию?» Уверен, вам попадается много таких заголовков и анонсов.
Если бы пишущие о здоровье СМИ были лучше — грамотнее, независимее, вдумчивее, — искажение правды путем низкопробного планирования работы и предвзятости медицинских журналов не сходило бы с рук. Журналисты и общество, которое они представляют и просвещают, требовали бы разнообразных дизайнов, более четких объяснений, лучшей проработки действительно важных вопросов. В конце концов, мы, люди, — настоящий источник финансирования, будь то распределяемые через НИЗ федеральные налоги, взносы на медицинское страхование, выплаты фармацевтическим компаниям или пожертвования на благотворительность. Если бы СМИ были свободными и честными, они представляли бы наши интересы. Но они чаще представляют собой рупор промышленности и рассказывают то, что нужно ей, выдавая это за полную правду. Они вертят данными, чтобы оправдать наше несовершенное здравоохранение и представить его единственно возможным вариантом.
Редукционистские исследования могут давать «истины» вне контекста, дурача нас. Когда СМИ сообщают об этих мелочах как чем-то значительном, люди в растерянности. Мы слышим подробности о клетчатке в овсянке, ликопине в помидорах и витамине A в моркови. То нам говорят, что стакан красного вина в день помогает прожить дольше, то мы обнаруживаем, что даже он губителен для печени. Сегодня лучший выбор — низкожировая диета, а завтра жиры нужны в полном объеме. Поэтому покупатели разводят руками и мечутся между ложной надеждой («Гляди-ка, сардины предотвращают сердечные приступы!») и фатализмом («Все и так нас убивает, поэтому можно не переживать по этому поводу»). Такое отношение на руку спекулянтам от промышленности и повышает продажи лекарств от болезней, вызванных неправильным выбором пищи. Кроме того, вся эта неразбериха дает дорогу плохим идеям, которые начинают казаться сравнительно приличными.
Журналистика, которую я здесь описал, неизбежно искажена в пользу интересов промышленности. Предвзятость не обязательно означает ложь. СМИ могут просто делать из мухи слона.
Еще одна форма предвзятости — обход неудобной информации. СМИ могут сообщить только о немногих получаемых ежегодно биомедицинских результатах. Они должны быть фильтром, который выбирает и показывает самое важное и существенное, отбрасывая остальное. Но некоторые СМИ пользуются этим для оправдания умалчивания важнейшей и качественной информации о здоровье, потому что она не вписывается в редукционистскую парадигму либо подрывает бизнес рекламодателя или спонсора.
Неспособность СМИ обеспечить нас информацией о правильном питании и здоровье нельзя объяснить одной предвзятостью. Другая проблема — ужасающая научная безграмотность, которую проявляют многие влиятельные журналисты, пишущие о здравоохранении и диетологии. Из-за некомпетентности они не могут критически оценить качество медицинской информации, которую дают промышленность, правительство и научные круги, и обычно озвучивают их мнение, не защищая право общества на правду. Многие статьи состоят из почти не подвергшихся редактированию пресс-релизов компаний и правительства вперемежку с интервью экспертов, которые на серебряном подносе преподносит пиар-отдел. В результате редукционистские полуправды, прикидывающиеся научным знанием, бездумно подаются нам как неоспоримые. Нет ничего плохого в том, что неспециалисты пишут о науке. Я не хочу ограничивать дискуссию или свободу слова. Но я желаю, чтобы журналисты признали ограниченность своей эрудиции и не создавали видимость компетентности там, где ее нет.
В общем и целом история, которую СМИ рассказывают о здоровье и питании, выходит из-под пера людей, которые наживаются на нашей боли и страданиях. Я видел в СМИ слишком много манипуляций, умышленного запутывания и утаивания мощных связей между питанием и здоровьем, чтобы поверить в обратное.
Раскрутка, умолчание и некомпетентность PBS
Когда в начале 2007 года я работал над рукописью этой книги, в программе PBS NewsHour ведущий Джим Лерер рассказал захватывающую новость. Согласно пресс-релизу Американского онкологического общества (American Cancer Society, ACS), начиная с 2004 года смертность от рака в США, особенно рака легких, молочной железы и простаты, снижалась два года подряд8, а главное — произошел «большой спад» по сравнению с 2003 годом. Это было преподнесено так, будто в войне с раком, длящейся уже тридцать шесть лет, скоро наконец-то произойдет перелом. В той же передаче корреспондент Маргарет Уорнер взяла интервью у главного медицинского специалиста ACS. Он гордо назвал несколько возможных причин такого серьезного снижения: лучшее лечение, больше скринингов и сокращение курения. В целом это был оптимистичный репортаж, который вышел, по чистой случайности, как раз во время ежегодной кампании по сбору средств для ACS.
На следующий день в местной газете в моем городе эта история заняла место на первой полосе9. Вскоре после этого президента Буша убедили посетить близлежащую лабораторию НИЗ и заявить, что «спад [заболеваемости раком] в этом году был самым резким за всю историю наблюдений»10. Более того, «большой» спад оказался особенно многообещающим, потому что он продолжал тенденцию, возникшую годом ранее.
Я провел большую часть своей карьеры в поисках способа победить рак, поэтому отличные новости меня очень обрадовали. Но вместо того чтобы поверить сообщениям газет и телевидения, я решил копнуть глубже и присмотреться к цифрам в отчете. Вот они. На каждые 200 смертей от рака, произошедших в 2003 году, в 2004 году приходилось на одну меньше: снижение примерно на 0,5%11. Это не тот «резкий спад», которого я ожидал исходя из сообщений СМИ. Любые сведения о том, что рака стало пусть и немного, но меньше, — хорошая новость, но сомневаюсь, что человек, смотревший в тот день NewsHour, видевший сообщения в СМИ или слышавший краем уха выступление президента, оценил этот масштаб как мизерную половину процента.
Более того, с 2002 по 2003 год общая смертность от рака упала всего на 0,07%: меньше, чем одна смерть на тысячу. Эти данные просто недостойны шумихи, поднятой ACS, усердно подхваченной бездумно списывающими друг у друга СМИ и публично легитимизированной президентом. Глядя на все это, я просто не мог не позавидовать контролю онкологической индустрии над прессой и президентской трибуной. Что бы я смог совершить с таким пиаром!
Хотя большая часть информации формально правдива, подача вводит в заблуждение. Говорить, что снижение смертности от рака «большое», когда оно меньше 1%, просто нелепо. Столько рассказывать о мерах, давших такое ничтожное снижение, — значит придавать факту и его вероятным причинам незаслуженно высокую значимость.
Я кое-что знаю о раке. В течение сорока лет я руководил программой экспериментов по его изучению, был членом нескольких консультативных экспертных комиссий в области политики в отношении причин рака и входил в состав комиссии по распределению научных грантов в ACS, Национальном институте рака, Американском институте исследований рака и Всемирном фонде исследований рака. Я отвечал за организацию нескольких из них. Поэтому когда я говорю, что СМИ извращают правду, то основываюсь на личном опыте. Как исследователь и человек, вовлеченный в процесс, я могу посмотреть на вопрос так, как не может среднестатистический потребитель СМИ.
Единственная информация в новом отчете ACS, которую, скорее всего, запомнит общество, такова: благодаря нашим пожертвованиям поиск лекарства от рака наконец-то начинает себя окупать. Возможно, вы скажете, что мои опасения преувеличены. Я не согласен. В наш перегруженный информацией век мы полагаемся на эффектные реплики вроде «Наконец-то победа в войне с раком близка», чтобы узнавать о мире и направлять свои действия. Если победа — получить ничтожные изменения в смертности через тридцать шесть лет, спустив миллиарды долларов на онкологические исследования (да, миллиарды, и чаще всего это правительственные НИЗ: в 2012 году бюджет на исследования рака составил 5,9 млрд долларов12), война кончится нескоро. Такая излишняя доверчивость — главное препятствие на пути к искоренению заболевания. Для настоящей победы нужна личная ответственность в выборе продуктов. Пока мы ждем очередных фармацевтических прорывов и чудес генной инженерии, которые нас спасут, мы не пользуемся силой, которой уже обладаем, чтобы покончить с этим бедствием. Тем временем фармацевтические и медицинские компании наживаются на нашей бесконечной погоне за исцелением, а конгломераты, производящие суррогатную пищу, и агропромышленные комплексы считают прибыли, скрывая информацию о причине рака.
Если бы я был репортером, которому дали задание поделиться пресс-релизом ACS с публикой, вот несколько вопросов, которые я бы задал. Как велико падение заболеваемости? Кто выбрал слово «большое»? Кто финансировал отчет? Какие показатели рака снизились, а какие (если такие есть) остались постоянными или даже выросли? (Не говоря о главном: почему смертность от рака в США так высока по сравнению с Китаем и многими другими странами?)
Почему в NewsHour не прозвучали эти вопросы? Предвзятость? Невежество? Я не могу заглянуть в головы журналистов, представивших эту историю, и остается только предполагать, что дело в обоих грехах вкупе с бесконечным новостным циклом и постоянно сокращающимися бюджетами, которые способствуют не спокойному вдумчивому размышлению, а беготне с услужливо подготовленными пресс-релизами.
Давление рекламы и недомолвки
Вскоре после выхода «Китайского исследования» у меня взяла телефонное интервью Энн Андервуд, компетентный и серьезный старший редактор журнала Newsweek. Она сказала, что «главный редактор» очень заинтересовался книгой. Мы проговорили почти два часа, и похоже, что она лично интересовалась нашей идеей и ее последствиями. Поэтому я надеялся, что интервью выйдет в печати, хотя Андервуд и сказала (предупредила?), что сначала его придется вынести на суд редколлегии. Благодаря ее исключительно четким вопросам и энтузиазму у меня сложилось впечатление, что статья получится отличная. В следующие пару месяцев было только молчание. Затем я получил по почте экземпляр Newsweek, озаглавленный «Специальный выпуск. Будущее медицины», целиком посвященный здоровью. «Оно!» — подумал я.
Я с интересом открыл журнал и насчитал более 20 статей на различные перспективные медицинские темы. Кроме довольно поверхностных материалов о связи между диетой и диабетом второго типа, питание было полностью проигнорировано. Везде писали о новых препаратах, хирургии и генетике. Если бы я еще работал в экспериментальной лаборатории, а не в зрительном зале, меня бы увлекли возможности, показанные там: фундаментальное исследование работы клетки очаровывало. Но специальный выпуск Newsweek утверждал и гораздо более важное. Обойдя питание, самый всеобъемлющий фактор здоровья и благополучия, журнал сослужил своим читателям медвежью услугу.
Разочарованный, я пролистал шаблонные материалы на первых страницах и нашел очень показательное письмо председателя и главного редактора Ричарда Смита:
Newsweek известен долгой традицией освещать вопросы науки, медицины и здравоохранения. Сегодня, когда началась новая эра новых открытий в биомедицине, мы с гордостью представляем вам этот специальный выпуск (бонус для подписчиков), посвященный прорывам, которые быстро меняют облик медицины в XXI веке.
Мы рады, что эксклюзивным рекламодателем этого номера стал Johnson & Johnson. Надеюсь, читатели понимают, что это не повлияло на содержание журнала.
Johnson & Johnson, один из крупнейших производителей медицинского оборудования в мире, — эксклюзивный рекламодатель номера Newsweek «Будущее медицины». И я должен поверить, что зависимость журнала от заработанных на рекламе денег не повлияла на эту красочную оду редукционистскому, коммерческому, игнорирующему питание медицинскому обеспечению? Я уверен, что топ-менеджер Johnson & Johnson не сидел на редакционном совете и не показывал пальцем, какую статью надо прихлопнуть, но борющийся за выживание новостной журнал не может позволить себе сердить могущественного благотворителя. (Да, выживающий: доходы Newsweek с 2007 по 2009 год упали на 38%, а в 2010 году журнал был продан за 1 доллар производителю аудиотехники Сидни Харману с условием, что он возьмет на себя долги в 47 млн долларов13).
Вскоре после интервью Newsweek мне позвонила Сьюзен Денцер, медицинский корреспондент PBS NewsHour. Плодотворная беседа продолжалась около часа. Она задавала очень хорошие вопросы, и я решил, что тема ее заинтересовала, особенно когда услышал, что она рассматривает возможность моего интервью с Джимом Лерером. Она ничего не обещала, но надежда была, потому что я уже принимал участие в его программе.
Потом надежды испарились: интервью так и не состоялось. Почему? Не могу сказать точно. Но я заметил, как выросло число корпоративных спонсоров PBS, которым неинтересно мое мнение о питании. Видимо, кто-то из персонала NewsHour сообразил, как непопулярны мои взгляды у этих крупных компаний. Зачем ставить себя под удар, когда вокруг так много других историй, о которых можно безопасно рассказать?
В последние годы корпорации становятся умнее и заметают следы, финансируя якобы неангажированные шоу вроде NewsHour. Один из крупнейших сегодняшних спонсоров — John S. and James L. Knight Foundation. Альберто Ибаргуэн, президент и СЕО этого фонда, входит в совет директоров PepsiCo14. Член правления Knight Foundation Анна Спанглер Нельсон с 1988 года — главный партнер Wakefield Group15, расположенной в Северной Каролине инвестиционной организации, которая владеет долей во многих медицинских и биотехнологических компаниях штата16. Роу Стэмпс IV, член правления фонда с 2006 года, — сооснователь и управляющий партнер Summit Group: инвестиционной компании, в портфолио которой есть ApoCell, лаборатория молекулярной диагностики, анализирующая эффективность онкологических лекарств для крупных фармацевтических и биотехнологических компаний, лаборатория патологической анатомии Aurora Diagnostics, на сайте которой предлагают «немедленный доступ к новейшим лабораторным методам»17, включая перестройку генов, а также несколько других компаний, занимающихся медицинскими технологиями и здравоохранением. Член правления Эрл Пауэлл получает доход от Центра генной терапии Пауэлла при Университете Майами18.
Я не хочу критиковать Knight Foundation и членов ее правления. Любой из спонсоров NewsHour при ближайшем рассмотрении дал бы похожие результаты. Насколько мне известно, этот фонд делает много хорошего и в целом действительно защищает «маленького человека» от корпораций. Более того, благотворительной организации имеет смысл ввести в правление успешных и богатых людей, которые направят ее политику и помогут в сборе средств. Но я хочу показать неустранимый конфликт интересов, который невидим, не обсуждается и не принимается во внимание. Якобы бесстрастная новостная организация зависит от источника финансирования, правление и руководство которого живет в системе, подлежащей выявлению и обсуждению.
Я могу ошибаться, подозревая в предвзятости NewsHour, которая поддерживается и на общественные средства, но контакт с PBS около двадцати лет назад превратил меня в циника в отношении «журналистской независимости» этого канала. В 1992 году, через пару лет после того, как New York Times, USA Today и Saturday Evening Post написали передовицы о нашем проекте в Китае, PBS предложила интересную идею: сравнить диету и связанные со здоровьем привычки в трех сельских сообществах — Италии, США и одной из китайских деревень. По крайней мере так мне объяснила съемочная группа из Колорадо, которая была нанята PBS (в Чикаго), чтобы собрать материал. Они побывали в Корнелле, Китае и Оксфордском университете, а также провели в Пекине интервью со мной и доктором Чэнем Цзюньши, моим другом и партнером.
Разговор перед камерой, как мне показалось, прошел хорошо, особенно когда речь шла о пользе для здоровья нежирной пищи — в основном растительной в сельском Китае — по сравнению с типичной жирной и преимущественно животной американской, которую в целом одобряет Консультативный комитет по диетическим нормативам Министерства сельского хозяйства США (группа, которая создает известные пищевые пирамиды). Я сказал тогда — и сейчас повторил бы это даже тверже, — что не фанат ни типичной американской диеты, ни политкорректных рекомендаций госкомитета.
Все шло хорошо. Кинопроизводители любезно предупредили нас за две недели до предстоящего шоу и сказали, что оно нам понравится, тем более что комментировать будет известный диктор Джуди Вудрафф. В назначенный вечер мы с друзьями и коллегами собрались у телевизора и увидели… что ничего из обещанного нет. Не было никакого сравнения диет сельских сообществ, а мало-мальски серьезная дискуссия о политике вырезана. Меня и доктора Чэня включили в титры в конце, и все. На следующее утро я позвонил в Колорадо, чтобы спросить, что произошло. Мне сказали, что окончательный вариант был показан сотрудникам PBS и им не понравилась критика пищевых рекомендаций и процесса их выработки Министерством сельского хозяйства. Поэтому ее просто выбросили вместе с доказательствами, которые приводили я и доктор Чэнь. То, что осталось, было запутанным односторонним повествованием, которое убеждало американцев, что наша диета прекрасна, а правительство заботится о нашем здоровье.
Может быть, PBS, знаменитая медиакомпания, известная своей беспристрастностью, совсем не так непредвзята? В том же 1992 году главным спонсором PBS NewsHour стала Archer Daniels Midlands (ADM) — транснациональная корпорация, которая в 2011 году заработала 70 млрд долларов, в том числе на ингредиентах кормов для скота. Могу только догадываться, принималась ли во внимание ее поддержка, когда высшее руководство PBS вырезало мои комментарии из фильма. Может, я ошибаюсь. Решать вам19. Но в любом случае первый опыт общения с PBS оставил осадок, который я не мог не вспомнить, когда Сьюзен Денцер проводила со мной интервью о «Китайском исследовании».
Я отправил оба контакта с PBS в папку, озаглавленную «Искажение замалчиванием». Вычеркнув мои комментарии о рекомендациях по правильному питанию, PBS показала свой непрофессионализм. Забавно, но мои реплики в том интервью были мягкими по сравнению с сегодняшними!
Недавно высокопоставленный друг из Гарварда, который прошел онлайн-курс в Фонде Колина Кэмпбелла, рассказал мне, что недавно беседовал со Сьюзен Денцер. В разговоре всплыло мое имя. Денцер сказала, что отправила интервью со мной на рассмотрение PBS, но не может понять, почему меня так и не пригласили на шоу Лерера.
Незримая сила и СМИ
Я не написал здесь о СМИ ничего особенного. Вы не сможете снять душещипательный фильм о том, как Newsweek или PBS замалчивает роль питания для здоровья. Сомневаюсь, что Мэтт Деймон[20] заинтересуется и расскажет мою историю с большого экрана. Никто не врет, не хитрит и не строит заговоры. Насколько я знаю, нет никаких темных закулисных делишек с чемоданами денег за молчание. Никто из журналистов, тенденциозно освещающих свои темы, даже не отдает себе отчет в том, что делает или на какое давление реагирует. Это не злые или бесчестные люди. Они стараются заполнить эфирное время, развлечь и информировать публику, избегать клеветы и сохранить рабочее место, не обижая тех, кто подписывает им зарплатные чеки. Это незримая сила в самой эффективной и коварной ипостаси: нет отпечатков пальцев, синяков, крови, игры против правил. Просто невинные с виду репортажи о науке, выглядящие как полная, очевидная правда. Но цена недостающей части истории, как вы видели, — неописуемые человеческие страдания. Не больше и не меньше.
Глава 17