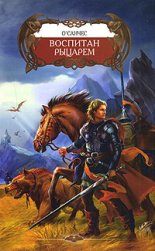Живые тени ваянг Странник Стеллa

— Мы должны почувствовать себя Альбертом и Катариной, и только так называть друг друга, пока… нас слышат боги… И еще… В каждой печальной истории есть виновный… Значит, кто-то кого-то должен простить…
Катя кивнула, соглашаясь с необычной для нее ролью, и громко прокричала над бездной, в которой плавали розовые облака:
— Альберт! Я прощаю тебя за все твои проступки!
Из-за груды камней послышался глухой голос:
— Ты — Катарина Блэнк?
— Да, я — Катарина Блэнк, честно ответила Катя, ничуть не смутившись присутствия еще одного живого существа.
— Подтверди, что ты любишь Альберта и будешь ему верной женой!
— Клянусь, что я люблю Альберта и буду ему верной женой и в горе, и в радости…
— А что скажет Альберт? — голос незнакомца раздавался уже с другой стороны.
— Я, Альберт Блэнк, прощаю Катарину, если она причинила мне когда-то боль, и клянусь в том, что никогда не предам ее… Я люблю тебя, Катарина!
С западного склона опять посыпались камни, словно великан сделал шаг вниз, туда, где устремились в небо сотни ступ величественного храма — Пура Бесаких. Неужели он действительно пошел по ступам, как по лестнице? Об этом Катя давно уже догадывалась, и вот — подтверждение…
А в это время в Кейптауне не было и полуночи, так что в самом разгаре шел фестиваль менестрелей [242]. Мужчины, разодетые в ярко-лиловые блестящие костюмы с гладкими лацканами, в высоких шляпах-котелках, важно шествовали с разноцветными зонтиками в руках. Они крутили ими, подбрасывали вверх, потом ловили и раскрывали. Время от времени, видимо, по команде режиссера, они что-то скандировали, и тогда в воздух взлетали уже и шляпы. По загримированным лицам невозможно было определить их расовую принадлежность — все участники процессии со стороны выглядели африканцами.
За ними шли ровными рядами стройные, словно точеные из бронзы, девушки. Они светились молодостью — им не было и двадцати, как и Южно-Африканскому флагу[243], цвету которого соответствовала их одежда — ярко-красные юбки-пачки и полосатые, синие с зеленым, майки без бретелек. Так же, как и флаги, костюмы девушек были дополнены черным, белым или желтым ободком, как символом мультирасового будущего. Девушки разбрасывали цветы, они несли их целыми охапками, и били в маленькие барабанчики, висевшие у них на ремнях через плечо.
Ритмичная, жизнерадостная африканская музыка сжимала Кейптаун крепким обручем, так что от нее невозможно было ни укрыться, ни — убежать. Барабаны-литавры перебивали «говорящие барабаны», им вторили спаренные барабаны донга, и от этого перестука сильнее билась в жилах кровь, а сердце наполнялось особой витальной силой. Ксилофоны-балафоны с резонаторами из высушенных тыкв разбрасывали вокруг себя фантастические, ни с чем не сравнимые звуки, и вместе с погремушками из игл дикоообраза создавали фон поющих джунглей. Погремушек было так много, что они начали узнавать друг друга и разговаривать между собой, будто перекликаясь на вечерней поверке: трубчатые колокольчики нгаринья из Гамбии вторили бубенцам авага из Того, а колокольчики лонгу из Анголы отвечали на голос металлических колокольчиков мангененгене из Лесото. Любой, кто послушал эту музыку хотя бы раз, легко мог отличить и звуки трещоток кифафа с Мадагаскара от звуков традиционных домбо из Нигерии.
— Фридам! Фридам! Фридам! [244] — выкрикивали танцоры в такт музыке и, словно заведенные марионетки, ритмично и резко двигались, как будто бы пытаясь сбросить с себя не просто невидимые пылинки, но и внутренний негатив.
Игравшие отдельно, небольшие музыкальные группы начали подстраиваться друг под друга, создавая единый оркестр, подчинявшийся воле дирижера. Видимо, тот взмахнул своей волшебной палочкой, потому что одновременно вступили в игру струнные — гуаши, напоминающие арфу, из Намибии, мадагаскарские кабусы — почти что гавайские гитары, и гингиру из Мали. А вот и африканские скрипки! Любое сердце разрежут пополам каляля из Анголы и монохорды из Ганы! Любую душу вывернут наизнанку струнные бенн и зез с Сейшельских островов!
Оркестр звучал все сильнее и сильнее! За струнными начали свою партию и флейты, а потом — гобой, кларнет и саксофон, не говоря уже о тысячах свистулек, дудок, рожков и свирелей…
— Фридам! Фридам! Фридам! — голос танцоров не терялся на фоне оркестра, он гармонично дополнял его и даже — перекрикивал.
А в это время мимо мыса Доброй Надежды проходил корабль под нидерландским флагом. Он уже обогнул береговую линию Африканского континента и повернул на восток, перерезая границу между Атлантическим и Индийским океанами, когда небо окрасилось вспыхнувшими над кейптаунтским фестивалем фейерверками.
— Смотри, Ричард, какая красота! Праздник у африканцев! — молодой худенький матрос вглядывался в красочный небесный купол.
— Это очень большой праздник, — заметил пожилой мужчина крепкого телосложения с открытым, загоревшим, лицом. — И называется он «День, свободный от рабства».
— Откуда ты знаешь?
— Тридцать лет хожу по океанам… И отец мой ходил, и дед, и прадед… Как не знать?
— И что, тоже на Джакарту?
— Нет, на Батавию…
— Так ты… Из колонизаторов?
— Получается, что так… А в праздник этот всех рабов отпускали на один день…
— И не боялись, что убегут?
Ричард не успел ответить. Он увидел странный парусник, который шел с юго-востока им навстречу. И что же было в нем необычного? Да то, что таких кораблей не строят уже лет триста, не меньше! Первой мелькнула мысль: Летучий Голландец! Он иногда появляется возле мыса Доброй Надежды, как и три века назад. Видимо, Алвин тоже его заметил, если громко закричал:
— Смотри, смотри — Летучий Голландец!
Судно, раздувая паруса, шло прямиком на Кейптаун, а точнее — в гавань Виктории[245]. Может быть, это участники фестиваля? Нет! Какие участники со стороны Малайского архипелага, там далеко не Африка…
Очертания необычного корабля стали более четкими, уже хорошо просматривались и пассажиры. Их старинная европейская одежда была под стать паруснику: мужчина в свободной светлой рубашке, затянутой поясом, с широкими, развевающимися на ветру, рукавами, женщина — в длинном бордовом платье на корсаже с декольте. Пара стояла, держась за руки, и смотрела в небо. А там на синем ночном покрывале мелькали молнии и зигзаги, круги и ромбы, и просто всполохи — огней. И вдруг среди них появились огромные человеческие ладони, протянутые к океану…
— Нет, Алвин, это — не Голландец, на него никогда не ступала нога в женской юбке… А руки… Кажется, я знаю, что это такое…
За человеческими руками все четче и четче стали вырисовываться такие же великанские птичьи крылья. Они сверкали, переливаясь под огнями фейерверка, яркой бронзой, и походили на два раскрытых веера.
— Какие спецэффекты научились делать люди! — откровенно удивился молодой. — Руки как настоящие! Слушай, Ричард, а может, и правда, руки великана? Или — Бога?
Словно в ответ на такое предположение, с неба послышался мелодичный звон колокольчиков, будто заструилась, потекла на землю хрустальная вода, потом к ним добавились щемящие звуки флейты, и вот уже в полную силу заиграл оркестр.
— Надо же, какая громкая музыка, даже здесь слышно, — произнес молодой.
— Алвин! Ты думаешь, это — африканская мелодия? Играет индонезийский гамелан!
— Ты что! Ричард, откуда ему быть?
И тут произошло чудо: руки великана подхватили корабль и подняли его высоко в воздух. Парусник возвышался на раскрытых ладонях, словно игрушечный, а на его палубе, держась за руки, все так же стояли двое… Музыка продолжала играть. К звукам журчания воды добавился легкий свист ветра, выводящего ноты на разные голоса… Несколько секунд картинка висела на фоне ночного неба, а потом начала тихонько таять, растворяясь в мелодичном, насыщенном звуками удивительных инструментов, воздухе. Но сначала взмахнули переливающиеся под искрами огней крылья…
— Алвин, это Гаруда, их главная птица, унесла корабль… Видно, боги простили грешников.
— И куда она их понесла?
— В свою резиденцию… Куда еще?
Музыка воды и ветра потихоньку смолкла, и ее сменили звуки барабанов, трещоток, погремушек и — саксофона.
— Фридам! Фридам! Фридам! — скандировали танцоры, музыканты, лицедеи и затейники, собравшиеся в Кейптауне со всего Африканского континента.
— Фридам! Фридам! Фридам! — подхватили это известное слово многочисленные туристы со всего мира, приехавшие специально на фестиваль менестрелей — праздник победы над рабством, и просто зеваки, оказавшиеся рядом совсем случайно.
И вот уже тысячи участников фестиваля произносят это волшебное слово:
— Фридам! Фридам! Фридам!
В небо взметнулись новые фейерверки. Короткими вспышками они высветили его темно-синий бархат и так же быстро погасли — недолог их век. Но вот огни, взметнувшиеся вверх, зависли высоко под куполом и прочертили, как фломастером, всего одно слово: Kebebasan[246]. Ярко-красные огненные буквы задержались на небосклоне гораздо дольше, чем обычные огни, а потом медленно скатились — на мыс Доброй Надежды, самый добрый во всем мире, оставляя за собой тонкие ломаные линии, как дорожки от кровавых слез…