Моя жизнь и время Джером Джером
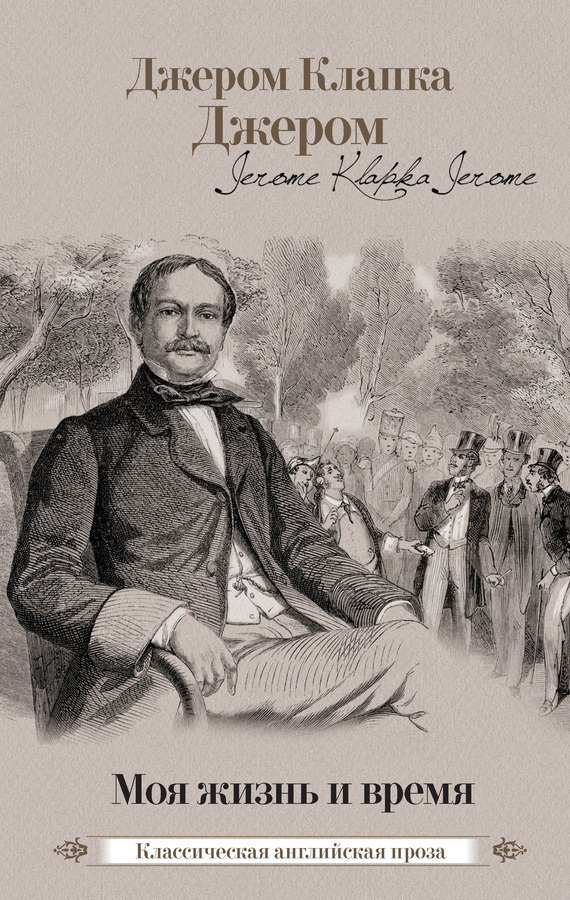
Портье отложил газету и посмотрел на меня.
— Слушайте, вы откуда приехали?
— Из Нью-Йорка.
— Видать, и там недолго пробыли. Англичанин, небось?
Я сознался, что англичанин.
Портье встал и снисходительно потрепал меня по плечу.
— Вы бы лучше пошли город посмотрели. Интересный городок. Все равно до половины седьмого делать нечего.
Я последовал его совету. Город оказался не таким уж интересным. Возможно, я просто был не в настроении. В шесть я вернулся в гостиницу и еще раз переоделся. Очень хотелось есть. Увидев «меню», я еще острее ощутил голод. Сам Лукулл на моем месте не сдержал бы радостной улыбки. На двух страницах мелким шрифтом были перечислены, кажется, все мыслимые деликатесы без различия времени года.
Я заказал для начала икру и суп с моллюсками. Насчет супа я немного сомневался, поскольку никогда такого не пробовал. Ну ничего, решил я, если суп окажется слишком густым, я съем всего чуть-чуть. Юный официант, видимо где-то потерявший пиджак, стоял возле столика и как будто чего-то ждал.
— Я потом подумаю, что еще взять, — сказал я. — Принесите пока это.
— Лучше думайте сейчас, — возразил он. — Нам тут долго рассусоливать некогда, не то что у вас в Старом Свете.
Я не хотел с ним ссориться и потому снова взялся за меню. Попросил принести после супа анчоусов — предупредил, чтобы с хрустящей корочкой. Ломтик поджаренной ветчины с трюфелями, горошек в масле, ягнячью отбивную с помидорами, спаржу и курицу (я упомянул, что предпочитаю крылышки). На десерт — карамельное мороженое, ассорти из фруктов и, конечно, кофе.
Было обидно, что не получится попробовать все, что есть в меню, но мне еще предстояло вечером выступать. Я и так опасался, что слишком увлекся.
— И все? — спросил беспиджачный джентльмен.
Я усмотрел в его вопросе сарказм и ответил сухо:
— Это мой заказ.
Он отсутствовал довольно долго, а когда появился вновь, поставил передо мной поднос наподобие тех, какие используют дворецкие, слегка подровнял его и ушел, оставив меня в одиночестве.
На подносе было все, что я заказал, начиная с икры и заканчивая кофе. Все продукты (кроме супа и кофе) помещались на крохотных беленьких блюдечках, словно из игрушечного сервиза. Суп был в миниатюрном белом горшочке с ручкой, тоже наводящем на мысль о принадлежностях кукольного домика. Пить его полагалось прямо из горшочка, емкостью примерно в одну столовую ложку. За супом последовали шесть анчоусов и одна креветка. Тринадцать горошин. Три побега спаржи. Пять виноградин и четыре ореха (разные). Два квадратных дюйма ветчины — правда, без трюфелей; то, что я принял за трюфель, оказалось дохлой мухой. В ягнячьей отбивной ничего, кроме косточки, я так и не обнаружил — похоже, ее вырезали из какого-то не того места. Помидор я уронил, пытаясь разрезать. Он укатился под стол, а я постеснялся за ним лезть. Курицу зажарили так основательно, что я, выбившись из сил, положил кусок обратно на тарелку. Мои старания не оставили на нем никаких следов. Я потом долго гадал, что с ним сталось.
Не знаю, почему я так раскис, — должно быть, потому что не завтракал. Будь я один, уронил бы голову на стол и расплакался, но рядом кормились еще три-четыре человека, и я взял себя в руки. Начал с кофе. Он еще хранил крохи тепла — жаль было бы, если б совсем остыл. Икру пробовать не хотелось; должно быть, из-за запаха. После кофе я приступил к полурастаявшему мороженому, украдкой поглядывая на других посетителей. Никто не возился с ножом, все бодро орудовали вилками, подцепляя еду то из одного, то из другого блюдечка. Чем-то они напоминали механических клюющих цыплят. Но такой способ казался самым простым, и я последовал их примеру.
К такой системе я так и не привык. Местные жители, если случалось заговорить на эту тему, соглашались, что с точки зрения эстетики обед «на европейский манер», пожалуй, предпочтительнее; но тут же спешили объяснить, что американцы слишком заняты — нет у них времени на эти светские штучки-дрючки. Потом они усаживались в кресла-качалки в фойе гостиницы, раскуривали сигары и доставали жевательный табак. Я уходил по делам, а когда возвращался, часа через два-три, они так и сидели на месте, курили, жевали и плевались.
Америка может гордиться своими железными дорогами. Американский поезд с мощным локомотивом и длиннейшей вереницей стальных вагонов — потрясающее зрелище. Приятно оказаться в нем после неуютных гостиниц, где постояльца запугивает коридорный, третирует официант и помыкает им портье. Темнокожий носильщик на вокзале встречает вас улыбкой и не считает вежливость ниже своего достоинства. Только в вагоне-ресторане вы можете рассчитывать на приличный обед, а в спальном вагоне вас не разбудит среди ночи звонок телефона или неисправные батареи отопления. Долгие мили можно смотреть в окно, не натыкаясь взглядом на назойливую рекламу. Впрочем, при приближении к городам по сторонам путей начинают попадаться рекламные щиты. Великолепные пейзажи вокруг Сан-Франциско на двадцать миль изуродованы громадными раскрашенными досками, рекламирующими чьи-то магазины. В Англии тем же занимаются «Печеночные пилюли Картера», хоть и не с таким размахом. Я и сам их принимал, потом бросил. На одном публичном обеде мистер Картер (не в обиду ему будь сказано) произнес превосходную речь о том, как человек может наилучшим образом послужить Господу. Энтони Хоуп заметил, что для этого можно бы не засорять созданные Богом пейзажи рекламными щитами. В Нью-Йорке мне бросилось в глаза объявление в витрине магазина. Оно гласило: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». То была реклама пружинного матраса. Расписание на железных дорогах соблюдается не слишком пунктуально, если не считать самых крупных линий. Впрочем, тому есть извинение: расстояния огромные. Железные дороги еще строятся. Никто не рассчитывает на расписание, просто по городу передают из уст в уста, что поезд прибыл. Однажды, к моему огромному изумлению, поезд пришел вовремя. Я только что приехал по боковой ветке и раздумывал, чем бы занять свободное время до пересадки. Заметив проходившего мимо начальника станции, я спросил:
— Не знаете, когда придет одиннадцать тридцать три до Су-Фолс?
Была тридцать одна минута двенадцатого.
— Поторопитесь! — ответил начальник станции. — Вон он подходит.
Не успел он договорить, как подкатил поезд, медленно и плавно, и остановился с удовлетворенным вздохом.
Начальник станции, крупный добродушный человек, засмеялся, увидев мое лицо.
— Все нормально, — успокоил он меня. — Если честно, это вчерашний поезд.
Су-Фолс, кстати, — всеамериканский центр разводов (по крайней мере в то время так обстояло дело). Гостиницы были населены ослепительными дамами, дожидающимися своей очереди. Многих сопровождали «братья». Дамы держались очень жизнерадостно. За соседним с нами столиком сидели мать с двумя дочерьми, младшей — всего семнадцать. Мы разговорились. Мать уже разводилась раньше, а дочкам это предстояло впервые. Они рассчитывали к выходным покончить со всеми формальностями.
Во время моей первой поездки президентом был Рузвельт. Он любезно выразил желание повидаться со мной. По странному совпадению как раз в то утро президент получил письмо от сына, учившегося в школе, с упоминанием о моих книгах. С этим письмом в руке он меня и встретил. Нечто похожее произошло при моей первой встрече с Ллойд Джорджем. Накануне или за два дня до этого ему написал какой-то родственник и посоветовал прочесть мою последнюю книгу. Он успел дочитать до середины и ни о чем другом не мог говорить. В Рузвельте было что-то очаровательно мальчишеское. Он умел нравиться людям, когда хотел. Моя жена до сих пор хранит перчатки, в которых пожимала ему руку. Они лежат у нее в шкатулке с украшениями, перевязанные ленточкой и с аккуратно надписанным ярлычком.
В памяти надолго остался Джоэль Чандлер Харрис («Дядюшка Римус»), Очень приятный джентльмен и истинный христианин, хоть и плюется. Мы провели с ним целый вечер в Атланте. Зашел Фрэнк Стентон, принес с собой сборник своих песен с посвящением мне. Джеймс Уитком Райли был гостеприимен и любезен, но вызвал у меня приступ зависти разговорами о миллионах, полученных за его книги.
В то время, когда я был в Америке, туда приехал Максим Горький с лекциями о России. Его сопровождала помощница, с которой они не были официально женаты. В Америке на такие вещи смотрят косо. Генрих VIII тоже был крайне строг в вопросах морали. На ленче в Чикаго моим соседом по столу оказался человек, опубликовавший тем самым утром возмущенную статью с требованием немедленно выдворить из страны Максима Горького и его «сожительницу». Нельзя терпеть в Америке подобную заразу, и так далее, и тому подобное. А еще несколькими днями раньше он представил меня и Лумиса своей любовнице, миловидной шведке с льняными волосами. Жена его пребывала за границей, поскольку воздух Чикаго оказался вреден для ее здоровья. Я знаю, что со столбом нет смысла спорить, — сам часто ссылался на эту мудрую поговорку. Но иногда складывается впечатление, что в Америке столбов больше, чем людей. По ходу турне мне приходилось много времени проводить в поездах и гостиницах, а любопытство заставляло как можно больше узнавать о своих случайных попутчиках. И я могу с уверенностью заявить, что в среднем американцы, учитывая классовые и индивидуальные различия, не хуже всех нас. Надеюсь, они мне позволят этим и ограничиться.
В последний раз я посетил Америку в начале войны. Американцы тогда считали, что им не стоит вмешиваться. У меня были знакомые в среде большого бизнеса, появились и новые. По их общему мнению, Америка лучше всего послужит человечеству, взяв на себя роль миротворца. В конце концов американцы — единственный народ, способный непредвзято и бесстрашно смотреть в будущее. Общественные симпатии были скорее на стороне немцев, и только в восточных штатах их слегка уравновешивала традиционная симпатия к Франции. Сочувствия к англичанам я не заметил вовсе, хотя мне было специально поручено его отыскать. Иногда я начинаю сомневаться, правда ли Англия с Америкой так любят друг друга, как утверждают наши политики и журналисты. У нас был очень интересный разговор с президентом Вудро Вильсоном — главным образом о литературе и драматургии. Однако под конец я все-таки добился от него нескольких слов о войне, и тогда президент оживился, отбросив личину школьного учителя.
— У нас в Америке проживают двадцать миллионов человек немецкого происхождения, — сказал он. — Почти столько же ирландцев. В одном штате Нью-Йорк итальянцев больше, чем в Риме. Скандинавов у нас больше, чем в Скандинавии. Чехи, румыны, поляки и голландцы живут бок о бок. Есть и евреи. Мы нашли способ уживаться вместе, не порываясь перерезать друг другу глотки. Надо и вам в Европе научиться этому. Придется нам вас научить.
Несомненно, тогда Вильсон планировал сохранить нейтралитет. К добру или к худу, он позже переменил намерения — вопрос спорный. Без вмешательства Америки война закончилась бы патовой ситуацией. Европа убедилась бы, что война — безнадежное занятие. «Мир без победы» — единственный по-настоящему прочный мир.
Для демократов Америка — великое разочарование. Я не говорю о материальном благополучии — начиная с какого-то момента оно порабощает. А духовное развитие в Америке, похоже, никому не нужно. Мистер Форд сказал, что каждый покупатель автомобиля «Форд» может получить машину с доставкой на дом, причем ее покрасят в любой выбранный цвет при условии, что этот цвет — черный. В двух словах он выразил умонастроение современной Америки. Каждый американец волен делать, что ему вздумается, при условии, что двадцать четыре часа в сутки он будет делать в точности то же, что и все. Каждый волен высказывать свое мнение, если он кричит вместе с толпой. У него в отличие от мистера Пиквика нет даже выбора, с которой толпой кричать. В Америке только одна толпа. Каждый американец имеет право на самостоятельное мышление — пока он думает исключительно то, что ему укажут. А иначе пусть, подобно средневековым еретикам, держит дверь на запоре и следит, как бы собственный язык его не выдал. Ку-Клукс-Клан со своей передвижной камерой пыток — всего лишь зримое воплощение современного американского духа. Мысль в Америке подвергается стандартизации. Не приветствуется молодое вино — как бы не побились старые бутылки.
Прошу прощения у моих американских друзей — а их у меня много. Кто я такой, чтобы поучать весь американский народ? Я сам понимаю, насколько это нелепо и нахально. Быть может, меня оправдывает то, что я уже немолод. Скоро меня призовут к великому Судне и спросят ответа — что я сделал в своей жизни и, еще важнее, чего не сделал. Мысль, которую я сейчас выскажу, преследует меня неотступно. Я просто уже боюсь дольше хранить молчание. Много есть людей, облеченных властью, которые могли бы выразить ее лучше меня. Я не рад, что эта задача выпала мне на долю. Если кого-нибудь рассержу, прошу меня простить.
То, как в Америке обращаются с неграми, вопиет к небесам. Случалось, мои собеседники с шуточками и прибауточками рассказывали, как «поганых ниггеров» сжигали заживо на медленном огне, как те кричали, корчились и молили о пощаде, как закатывались их глаза, оставляя на виду одни белки. Сжигают даже мальчишек, а иногда и женщин. Руководят сожжением «видные граждане». Нарядные дамы приходят посмотреть, отцы сажают детей к себе на плечи, чтобы было лучше видно. А Закон в образе здоровенных полицейских стоит рядом и ухмыляется. Проповедники с амвона одобряют подобные вещи от имени Господа. Пресса Южных штатов шумно аплодирует. Вешать, стрелять без суда — и то было бы достаточно страшно. Но когда сжигают, поджаривают живых людей, привязав к железной кровати, рвут живую трепещущую плоть раскаленными щипцами — это какое-то мерзкое сладострастие жестокости. Доводы, которые обычно приводят в оправдание этой гнусности, оскорбляют человеческий разум. Они ничего не оправдывают, даже если бы соответствовали действительности, а в большинстве случаев и того нет. Это позорнее испанской инквизиции. По крайней мере аутодафе задумывалось не как развлечение для толпы. Пред лицом этого ужаса другие страдания негритянской расы в Америке могут показаться мелкими и незначительными, но подумайте: десятки тысяч образованных, культурных людей вынуждены нести на себе несмываемое пятно, превращающее их жизнь в непрерывную трагедию. Их сторонятся, презирают, у них прав меньше, чем у собаки. Они не смеют защитить от белого человека честь своих женщин. Я видел, как они дожидаются у билетной кассы, не смея даже подойти поближе, пока не обслужат всю очередь, состоящую из белых. Я знаю случай, когда женщину в родах заставили ехать в вагоне для скота. Любое издевательство со стороны белого остается безнаказанным. Американское правосудие не страдает дальтонизмом. Когда же злу положат предел?
Глава XII
Война
Одно из моих самых ранних воспоминаний: я сижу на блестящем лакированном стуле, с которого очень трудно не соскользнуть, и слушаю, как папа, мама и какой-то большой улыбчивый дядя разговаривают о мире. Войны больше не будет. Так решили в городе под названием Париф. То есть большой дядя сказал «Париж», но мама потом объяснила, что это одно и то же. Насколько я понял, мама и папа встретились с джентльменом по имени Наполеон и обо всем договорились. Большой дядя сказал с улыбкой, что в настоящее время на это не слишком похоже, но папа только махнул рукой. Сразу ничего не делается. Мы, так сказать, подготовили почву.
— Молодежь, что придет после нас, доведет дело до конца, — сказала мама.
Помню, мне стало немножко грустно от мысли, что на мою долю войны не достанется, — я опоздал родиться. Мама в утешение завела речь о воинстве небесном и духовных битвах, в которых никогда не будет недостатка, но в глубине души мне казалось, что это неравноценная замена.
Спустя какое-то время Алабамская распря вновь накалила обстановку, и стало казаться, что шанс повоевать еще есть. Отец, в то время президент местного отделения Международного общества борьбы за мир, только головой качал по поводу смехотворных требований Америки. Английское миролюбие все же не безгранично!
Потом у нас и впрямь случилась в некотором роде война. Так себе, но что уж поделаешь, будем обходиться тем, что есть. Против какого-то негуса Феодора. Вроде черномазого. Из него получился отличный Гай Фокс. И еще, помнится, он творил какие-то зверства.
В тот период «главным врагом» была Франция. Мы, мальчишки, при виде всякого человека, хоть отдаленно смахивающего на иностранца, вопили: «Лягушатник!» Нашими любимыми сражениями были битвы при Креси и Пуатье. У дверей многих трактиров раскачивался, поскрипывая, «прусский король» в парике и треуголке.
В 1870 году, когда я еще учился в школе, Франция объявила войну Пруссии. Бедный наш учитель французского, нелегко ему пришлось. В Англии все, кроме нескольких сумасбродов, были на стороне Германии. Зато, когда все закончилось и проигравшая Франция уже не внушала страха, пробудился исконный английский инстинкт — сочувствовать побежденному. Не такая уж плохая черта, кстати.
Понадобился новый враг. На эту роль выбрали Россию.
Россия лелеет замыслы против Индии. Это она развязала афганскую войну[37]. Я в то время был актером. В пьесе под названием «Хиберский проход» я играл мула. Дело было еще до братьев Гриффит с их знаменитым ослом. Дай мне волю, животное наверняка получилось бы смешным, но режиссер заявил, что ему не нужно моей треклятой клоунады. Мул должен быть вполне реалистичным, любимцем полка. В конце спектакля я встал на задние ноги, размахивая британским флагом. Лорд Робертс погладил меня по голове, а публика от восторга чуть не разнесла театр.
С Русско-турецкой войной мне не повезло. Вначале еще была надежда, что мы в нее ввяжемся. Я чуть было не поступил на королевскую службу. Накануне я спал в ночлежке и с утра еще не завтракал. На Трафальгарской площади меня остановил уланский сержант — потрепал по плечу и ткнул кулаком в грудь.
— Ты наверняка не первый в роду солдат! — сказал он. — Тебе понравится.
Мундир был хорош — синий с серебром, и к нему высокие сапоги. В то время еще не оценили, как практично одевать солдат в форму цвета болотной жижи.
— Мне нужно встретиться с одним человеком в «Бодеге», — ответил я. — Если он не придет, я сразу вернусь.
Человек пришел, вопреки моим чаяниям. Он взял меня с собой на заседание суда и пристроил за репортерский стол. Так вместо армии я поступил в журналисты.
В те времена мюзик-холл служил барометром общественного мнения. На спектакли приходили политики, и даже министры заглядывали на часок. Наш ведущий комик Макдермотт исполнил новую песенку: «Мы драки не хотим, но если надо — в бой». И дальше что-то о том, что мы русским не отдадим Кон-стан-ти-но-о-поль! С бесконечно протяжным «о». Песня произвела фурор. К концу недели ее пела половина Лондона. Именно из текста этой песни в английский язык вошло слово «Jingo»[38].
Митинги за мир в Гайд-парке разгоняли идейные противники. Наиболее везучие из ораторов отделывались купанием в Серпентайне. Сторонники мира всегда при нас. В промежутках между войнами их осыпают цветами, а в военное время отдают на растерзание толпе. Помню, мне встретился Чарлз Брэдло, весь в крови; за ним гналась орущая толпа. Он успел добежать до Оксфорд-стрит, и друзья увезли его в экипаже. Гладстону побили стекла в окнах.
В конце концов нам так и не удалось толком повоевать. Дизраэли объявил «почетный мир» и немедля дал сигнал опускать занавес. Мы от него ожидали большего.
Утешением явились неприятности в Египте. Лорд Чарлз Бересфорд стал народным героем. Его называли Чарли. В Африку отправили лейб-гвардейцев. Я помню, как они возвращались. Впервые Лондон увидел их без шлемов и нагрудников. Худые, усталые люди на отощавших лошадях. Толпа была разочарована, зато вечером наверстала свое.
Вслед за тем настало время бедного генерала Гордона и битвы при Маюбе. А ведь все могло быть совсем иначе! Некоторые возлагали вину на Гладстона и «нонконформистскую совесть». Другие считали, что Господь на нас гневается за то, что мы слишком много внимания уделяем футболу и крикету. Греция объявила войну Турции. Мои друзья-поэты отправились воевать за Грецию, долго искали греческую армию, а когда нашли, не смогли разглядеть и вернулись домой. Вновь началась массовая резня армян. Я в своем журнале «Сегодня» выразил удивление, что не нашлось крепкого молодого армянина, который попытался бы физически устранить «Абдула проклятого», как назвал его позднее Уильям Уотсон. Моя статья каким-то образом попала в руки султану и напугала старого упыря до полусмерти. Я и не рассчитывал на такое везение. О турецкой конституции говорили: «Деспотизм, умеряемый политическими убийствами». При старом режиме в Турции наемный убийца играл ту же роль, что у нас — лидер оппозиции. Все турецкие султаны жили в постоянном страхе перед ним. Меня вызвали в министерство иностранных дел для беседы.
— Известно ли вам, — спросил милый пожилой джентльмен, — что вас можно привлечь к ответственности?
— Привлекайте, — ответил я.
Происходящее возмущало не только меня, но и многих моих знакомых.
Старичок рассердился.
— Вам хорошо говорить! Журнал читают во всех уголках Европы. Им это вряд ли понравится.
«Им», как я понял, сотрудникам турецкого посольства.
— Сожалею, — сказал я. — Ничем не могу вам помочь.
Он ознакомил меня с законом о неразглашении государственной тайны, и мы расстались. Больше меня по этому поводу никто не беспокоил.
Примерно в это же время Америка затеяла войну с Испанией. Мы и сами только что поцапались с Америкой из-за какого-то богом забытого места под названием Венесуэла, так что общественное мнение скорее склонялось в пользу Испании. Американские газеты пестрели красочными описаниями испанских зверств времен Филиппа II. Оказывается, у испанцев был когда-то обычай сжигать людей живьем на кострах. Можно ли позволить подобной нации и дальше владеть Кубой?
Фашодский кризис едва ли можно назвать неожиданностью. Франция уже какое-то время прилагала все усилия, чтобы вновь обрести статус «главного врага». По случаю дела Дрейфуса нам заблагорассудилось высказать ей все, что мы о ней думаем в целом. Она в ответ помянула кое о чем, что ей в нас не нравится. Пошли разговоры о союзе с Германией. Джозеф Чемберлен подал идею, а пресса в порыве внезапной любви к истории обнаружила у нас тевтонские корни. Также раскопали высказывание Нельсона в том духе, что каждый англичанин должен ненавидеть французов как самого сатану. Создали специальное общество для укрепления отношений между Англией и немецкоговорящими странами — кажется, оно называлось «Друзья Германии». Конан Дойл предлагал мне вступить. Пожилой майор в Каире после слишком плотного обеда разорвал на кусочки французский флаг и исполнил на обрывках танец собственного изобретения. Если не ошибаюсь, от него и пошел фокстрот. Какая-то из газет виконта Нортклиффа опубликовала фельетон о будущей войне: английские военные корабли разгромлены французскими субмаринами, и лишь подоспевший вовремя немецкий флот в последний миг спасает Англию.
Англо-бурская война вначале не пользовалась особой популярностью. Слишком уж очевидно, что все дело в золотых рудниках. И все же это была какая-никакая, а война, как выразился покойный лорд Холсбери. Джентльмен по фамилии Перке ушел с поста президента Общества борьбы за мир, чтобы посвятить себя военной деятельности. Его примеру последовали и другие члены Общества. Буры творили зверства, но творили халтурно и довольно долгое время не производили должного впечатления.
Переломным моментом стало известие о телеграмме кайзера. Я тогда был в Германии. Общество было резко настроено против англичан. Однажды у нас были гости, в том числе голландские дамы (родственницы Девета, как выяснилось впоследствии). Посреди обеда наша немецкая горничная вдруг ворвалась в комнату, во все горло прокричала: «Hoch die Buren!»[39] и залилась слезами. Позже девушка объяснила моей жене, что просто не могла поступить по-другому — ей Бог так велел. Я всегда замечал: если Бог начинает интересоваться международной политикой, дело кончается плохо.
Во Франции было не лучше. Даже хуже. В Париже англичан освистывали на улицах и выгоняли из кафе. Я спасался тем, что разговаривал с сильным американским акцентом, которому научился в поездке по Соединенным Штатам. Французская пресса всячески оскорбляла королеву Викторию. В «Дейли мейл» вышла передовая статья с заголовком «Ne touchez pas la Reine»[40], где намекалось, что если Франция не будет следить за манерами, мы ее «вываляем в грязи», отнимем у нее колонии и отдадим Германии. Кайзер объяснил свою знаменитую телеграмму. Оказалось, он совсем не то хотел сказать. Я в клубе «Бродяги» высказал предположение, что буров тоже создал Господь Бог для каких-то своих неисповедимых целей, и на следующее утро все газеты дружно осудили меж за кощунство.
В то время по всей Европе много спорили о том, когда же начался двадцатый век. Ожидалось, что он будет для нас удачным. Франция решительно встала на путь исправления. С другой стороны, Германия занималась демпингом, причем не только в Англии, но и в других странах, где мы доселе привыкли сами заниматься демпингом без помех. В конце концов мы рассердились. Пошли разговоры о союзе с Францией — она-то никаким демпингом не занималась, товаров не было. Тему подхватили карикатуристы. Францию изображали в виде молодой и безусловно привлекательной дамы. Германию — в виде жирного старика с прыщами и стрижкой ежиком. Разве может такой джентльмен, как Джон Буль, сомневаться в своем выборе?
Россию, как выяснилось, тоже неверно поняли. Она совсем не такая плохая, как мы думали; во всяком случае, демпингом не занимается.
И тут Германия, явно из чистой вредности, принялась ускоренными темпами строить корабли.
Даже самые умеренные из нас соглашались, что Британия не должна терпеть соперников на море. Просочились сведения, что Германия строит четыре новых крейсера. Мы немедленно потребовали восемь и даже сочинили об этом песенку:
«Восемь, восемь! Мы требуем, не просим!»
Ее пели на всех дополнительных выборах. Разнообразные партии мира праздновали моральную победу.
Сэра Эдварда Грея обвиняли в том, что он «хитростью» вовлек нас в войну: набрав столько обязательств по отношению к Франции и России, мы просто не могли уклониться от нее без позора. Будь министром иностранных дел сам добрый самаритянин, войны все равно не избежать. Считается, что в войну нас втянула Германия, — тем, что пошла через Бельгию. Да если бы немцы пошли через мыс Доброй Надежды, результат был бы тот же. Всей Европой овладел стадный инстинкт, и Англия не стала исключением. В день, когда мы объявили войну Германии, я участвовал в теннисном турнире местного масштаба. Юноши и девы, седоусые ветераны, бледнолицые священники и очаровательные старые дамы — все как один радовались и ликовали. «Я так боялся, что Грей в последний момент пойдет на попятный». — «А я сомневался в Асквите. Не думал, что у старика духу хватит». — «Слава богу, хоть какое-то время не увидим надпись «Сделано в Германии»». В таком духе велись беседы за чаем.
Куда ни посмотри, везде одно и то же. Носильщики на вокзале, кебмены, рабочие, возвращающиеся после смены домой на велосипеде, фермеры, подкрепляющиеся хлебом и сыром на обочине дороги, — у всех были счастливые лица людей, которые внезапно получили радостное известие.
Несколько лет уже нарастало это подспудное: Германия — враг. Вначале мы грустили. Впервые в истории на роль врага назначили именно немцев. Но они сами виноваты! Не могли разве оставить нас в покое, не мешать торговле, не грозить нашему владычеству на море? Вполне симпатичные люди говорили: «Придется нам с ними схлестнуться. Надеюсь, я еще застану это время!» Или: «Надо поставить их на место. Потом зато лучше поладим». Все считали, что война разрядит атмосферу, а после нее все станет лучше и приятнее. Некая партия под предводительством лорда Робертса требовала всеобщей мобилизации; другая, под предводительством лорда Фишера, предлагала захватить и потопить немецкий флот. Одна за другой выходили книги и пьесы, посвященные немецкой угрозе. Киплинг открыто объявил Германию первоочередным врагом.
В Германии, насколько я понял из рассказов немецких друзей, происходило примерно то же самое. Вдруг оказалось, что именно Англия то явно, то скрыто повсюду ставила препоны немецкой экспансии, отказывала Германии в месте под солнцем и загоняла ее в угол, лишая выхода к морю.
Пастбища потихоньку истощались, и стада забеспокоились.
В эпохи национальных потрясений единственное, что отдельный гражданин может сделать для истории, — правдиво рассказать о своих собственных личных ощущениях.
Я тоже обрадовался, узнав, что мы объявили войну Германии. Зверь во мне встрепенулся. Это будет величайшая война в мире! Я благодарил всех богов за то, что она пришлась на мое время. Я бы и сам записался добровольцем, если бы давно не вышел из призывного возраста. Говорю это с уверенностью, потому что позже, когда мой энтузиазм давно уже остыл, я и в самом деле попал на передовую, в довольно опасный район. Знакомые вокруг бросали работу, жертвовали карьерой, и мне стало стыдно сидеть в тылу, пописывая о них одобрительные статеечки по стольку-то за тысячу слов. Конечно, знай мы, что война продлится дольше нескольких месяцев, — тогда другое дело, но понимающие люди уверяли нас, что все закончится быстро. Мистер Уэллс, например, не допускал никаких сомнений. Это он назвал происходящее Священной войной. Я как раз недавно перечитывал его письма того времени. Некая мисс Купер Уиллис их переиздала — возможно, оказав тем самым мистеру Уэллсу плохую услугу. Я рад, что мои тогдашние статьи никто не вытащил на свет. От нас, литературных трудяг, требовали писать в газеты статьи о войне. Какую дикую чушь мы выдавали в те первые недели всеобщей истерии — должно быть, ангелы плакали, читая их, а чертенята покатывались со смеху. Чтобы хоть чуть-чуть оправдаться в собственных глазах, я вспоминаю, что все-таки осторожно высмеивал бредовый лозунг «Война, чтобы покончить с войной». Подобные разговоры я слышал еще в детстве, и полвека, что прошло с тех пор, были одним из самых кровавых периодов в истории. С войной покончит всеобщее торжество разума, но мы пока еще не сделали даже самых первых шагов в этом направлении.
Впрочем, я действительно ненавидел немецкий милитаризм. Я видел, как немецкие «официрен» шагают по улице по трое-четверо в ряд, сметая встречных с дороги без разбора пола и возраста. (Точно такую же картину я наблюдал в Петербурге, но Россия нас в то время не беспокоила.) Наглые, самодовольные вояки располагались по-хозяйски в кафе, театрах, железнодорожных вагонах, а штатские молча жались по углам, про себя мечтая надавать им по физиономии. Во Фрайбурге я видел измученные лица новобранцев после долгого марш-броска под палящим солнцем — из прохудившихся сапог виднелись стертые в кровь ноги. Сидя на залитой кровью скамье, я смотрел на студенческие дуэли — несомненно, способствующие подготовке младшего поколения к «величайшей из игр», как выразился Киплинг. Я ненавидел всю эту бессмысленную жестокость и был уверен, что мы освободим немцев от ими же созданной адской машины. А потом настанут мир и дружба.
К немецкому народу поначалу ненависти не было. Король Георг V подавал пример: ходил по госпиталям, пожимал руки раненым Гансам и Фрицам. Мы восхищались капитаном крейсера «Эмден» за доблестные действия против наших собственных кораблей. Китченер в своих донесениях признавал мужество противника. Солдаты в окопах обменивались шутками и любезностями с вражеской стороной. С нашими гражданскими лицами, застигнутыми войной в Германии, хорошо обращались. Все шло в русле взаимной доброжелательности.
Кто знает — если бы война закончилась к осени, как предсказывали кайзер и наш Ботгомли, возможно, в самом деле осуществилась бы мечта о лучшем и более человечном мире. Но боги, как видно, с какими-то своими целями решили иначе. Потребовалось заставить обычных людей и дальше воевать и трудиться, не щадя себя. Самое безотказное средство — ненависть.
Тогда пошли в ход рассказы о вражеских зверствах.
Некий член парламента предложил мне поехать в Америку, чтобы способствовать английской пропаганде. На корабле я свел знакомство с американской делегацией, возвращавшейся из Бельгии, куда их отправило правительство Соединенных Штатов с заданием выяснить, правдивы ли сообщения об ужасах, которые творят немцы. По мнению делегатов, если исключить обычные мерзости, свойственные всем войнам, девятнадцать из двадцати этих жутких историй не соответствуют истине.
Именно эти живописания немецких зверств, ежедневно поставляемые прессой, впервые заставили меня усомниться, в самом ли деле мы ведем «священную войну». Я старался по мере сил выступать против таких историй. Насколько хорошо я знал и ненавидел немецкую военную машину, настолько же я знал и никак не мог возненавидеть немецкий народ. Я много лет жил среди немцев — это добрые, приветливые люди. В Германии практически не встречается жестокость к животным. К женщинам и детям — еще реже. Статистика преступлений в Германии выгодно отличается от нашей. Попытки представить их как нацию каких-то демонов мне кажутся настолько же глупыми, насколько и бесчестными. Разумеется, пресса на меня ополчилась, а в частном порядке многие господа и дамы оказывали мне честь, присылая письма с угрозами.
Доклад той делегации опубликовали в Америке, но до Англии он так и не дошел.
В Америке, насколько я могу судить, преобладали скорее профранцузские и, соответственно, антианглийские настроения. Всех возмущала блокада Германии. Когда мне приходилось выступать перед публикой, только один тезис неизменно вызывал положительный отклик — о том, что вслед за войной наступит «справедливый и прочный» мир. Мне заранее посоветовали напирать на это. Популярная карикатура, выставленная на Бродвее, изображала европейские державы в виде вопящих чумазых мальчишек, затеявших бессмысленную потасовку, в то время как Америка, словно заботливая мать, готовит для них горячую ванну и пластыри. Ту же мысль высказывал во время нашей встречи президент Вильсон: Америка пока что держится в стороне, чтобы вмешаться в самом конце и выполнить роль миротворца. На одном публичном обеде я познакомился с группой крупных немецких дельцов и банкиров. По их словам, Германия уже сообразила, что откусила слишком большой кусок, и будет рада принять участие в мирных переговорах — например, в Вашингтоне. Вернувшись на родину, я сообщил об этом, но, кажется, само слово «переговоры» приводило британцев в ужас.
Осенью 1916 года я наконец, как говорят, «пробился на фронт». Я уже какое-то время прилагал к этому усилия. Конечно, мешал возраст — пятьдесят пять лет. Я мог бы вступить в отряд «ветеранов» и охранять Хрустальный дворец или патрулировать набережную Темзы, но мне хотелось побывать в местах настоящих военных действий. Я предложил Христианской ассоциации юношей свои услуги в области разговорного жанра. Я был неплохим рассказчиком и частью сочинил, частью присвоил несколько хороших историй. Мне позволили на пробу провести несколько выступлений в госпиталях и военных лагерях здесь, в Англии, результат был одобрен, однако Военное министерство не дало разрешения. Военный чин, с которым я встречался, был скуп на слова. По его сведениям, половина военнослужащих британской армии пишут заметки для будущих книг. Если я хочу приносить пользу, он охотно найдет мне работу на фабрике по пошиву военного обмундирования, близ Пимлико. Честное слово, я и не думал о книге. Я действительно считал, что смогу выполнять нужную работу, помогая солдатам ненадолго забыть о тяготах службы. Но признаюсь, любопытство тоже было в числе моих побудительных причин. Человеческая природа заставляет нас выскочить из кровати и гонит среди ночи поглазеть на пожар. А тут — события, равных которым по масштабу не знала история, причем совсем рядом, буквально рукой подать. В Гринвиче, если ветер дул с континента, можно было услышать грохот орудий. Конечно, не обошлось и без чисто мужской тяги к приключениям. Мало ли, в какую передрягу попадешь; того и гляди, вернешься героем. И уж во всяком случае, приятно хоть ненадолго оказаться подальше от наших тыловых героев с их визгом и воплями. Солдаты, по крайней мере, настоящие джентльмены.
Я уже почти потерял надежду, как вдруг возле фотоателье на Бонд-стрит повстречал старого приятеля в мундире, как мне сперва показалось, генерал-майора.
Я глазам своим не поверил, точно зная, что ему никак не меньше пятидесяти. В прошлый раз мы виделись недели три назад, у него в адвокатской конторе. Я ходил к нему проконсультироваться по поводу чайных листьев, которые моя жена не выбрасывала, а сохраняла и боялась, как бы не попасть под закон о накоплении запасов.
Сейчас он с некоторой надменностью пожал мне руку.
— Извини, времени совсем нет. Вечером отплываем из Саутгемптона, а еще надо зайти во французское посольство.
— Постой минутку! — взмолился я. — Не возьмешь ли меня адъютантом? Я любую работу могу выполнять. Например, пуговицы чистить…
Он отмахнулся:
— Невозможно! Жоффр ни в коем случае…
И тут при виде моего расстроенного лица сердце сурового вояки растаяло, и он вновь обрел облик добродушного толстяка-поверенного. Вырвав из записной книжки страничку, он что-то написал и отдал мне.
— Скажешь, что я тебя прислал. Пока!
И нырнул в поджидавшее такси. Прохожие почтительно расступались, давая ему дорогу.
На листке оказался адрес, где-то в Найтсбридже. Меня принял весьма любезный господин по фамилии Иллинворт и все объяснил. Идея принадлежала француженке, графине де ла Панусс, жене военного атташе в Лондоне. Во французской армии не было таких строгих правил, как в нашей. Если здоровье позволяло, возраст не был помехой для того, чтобы водить автомобиль медицинской службы. Я сдал все необходимые экзамены на вождение и знание механики и стал французским солдатом. Жалованья мне полагалось два с половиной су в день, выплачивалось сразу за месяц — жена до сих пор хранит эти деньги. Во французском посольстве мне оформили паспорт, а британскому Военному министерству я мог показать нос, что и сделал, проходя мимо, в свой последний день в Лондоне, и меня строго отчитал дежурный констебль.
Нашу форму, если я правильно помню, придумала сама графиня де ла Панусс: мундир цвета хаки с темно-синим кантом, портупеей и декоративными пуговицами. Получилось очень красиво, хотя и недешево. Разумеется, форму шили за наш счет, но я уверен — никто не пожалел о потраченных деньгах. Во французской армии никто не мог определить наш чин и род войск. Новобранцы в сумерках принимали нас за фельдмаршалов. Однажды у ворот цитадели в Вердене часовые почтительно отсалютовали нам с бедным Хатчинсоном — драматургом, он вернулся в Англию и умер через несколько месяцев.
Я отплыл из Саутгемптона вместе со Спринг-Райсом, братом нашего посла по особым поручениям в Вашингтоне, и нашим командиром Д. Л. Оливером — он приезжал в Англию в отпуск. Мы везли три новых автомобиля — подарок Ассоциации британских фермеров. Корабль был полон солдат. Едва мы поднялись на палубу, нам выдали спасательные воротники с инструкцией немедленно их надуть и повязать на шею. Это придавало нам вид елизаветинских джентльменов. Одного офицера инженерных войск с остроконечной бородкой мы прозвали Шекспиром. Лежать в таком воротнике было невозможно. Под покровом тьмы мы их снимали, в нарушение всех правил, и прятали за пазуху. В Ла-Манше все сверкало огнями, как на Риджент-стрит вечером большого праздника. Наш транспорт сопровождали два эсминца, резвясь по обе стороны корабля, точно пара дельфинов, и то и дело зарываясь носом в волны. Около полуночи поднялась тревога: немецкая подлодка прорвалась. Мы полным ходом вернулись в Саутгемптон и оставались там еще сутки. На следующую ночь мы вновь получили приказ выдвигаться и к утру достигли Гавра.
Французские дороги в сельской местности строят по принципу лабиринта в Хэмптон-Корте. Путешествуя по ним, то и дело возвращаешься к одной и той же деревушке. Лучше всего просто молиться, не обращая внимания на указатели. Оливер бывал здесь прежде, и то мы раз десять сбились с дороги. В первый вечер мы добрались до Кодебека. В этом очаровательном средневековом городке едва ли хоть один камень сдвинулся с места со времен Жанны д’ Арк, когда граф Уорик захватил его для англичан. Если бы не война, я бы непременно там задержался на день-другой. А сейчас мы со Спринг-Райсом рвались на передовую. Оливер, воевавший уже год, не так торопился. В Витри, милях в ста по ту сторону Парижа, мы вступили в «зону великих армий». Начали попадаться первые признаки войны. Мы проезжали деревни, от которых осталась всего лишь груда развалин. Там уже работали квакеры. Если бы не они, сомневаюсь, что христианство пережило бы эту войну. Все прочие конфессии отступились без борьбы. Вместо разрушенных церквей «Друзья» находили более или менее сохранившийся амбар, клали кровлю, притаскивали несколько скамеек, устраивали алтарь (чаще всего — просто пара досок, положенных на козлы), с белой скатертью и букетиками цветов. На обломках домов возводили импровизированные жилища, заново сложив очаг. Старики и старухи, греясь на солнышке, улыбались проезжим. Дети бежали за нами с приветственными воплями. Лаяли собаки. Под вечер я заблудился. Моя машина шла последней из трех. На извилистых проселочных дорогах легко было потерять из виду предыдущее авто. Я помнил пункт назначения — Бар-ле-Дюк. Уже в сумерках я добрался до городка под названием Ревиньи и решил там заночевать. Полгорода лежало в руинах. Всюду толпились солдаты, а поезда постоянно подвозили еще. «Волосатики»[41] спали прямо на улицах, завернувшись в одеяла и подложив под голову рюкзак вместо подушки. В единственной убогой гостинице обслуживали только офицеров. Меня пустили благодаря мундиру. Общий зал был набит до отказа, и хозяйка поставила для меня стул на кухне. Тараканам приходилось плохо. Они падали в суп и в рагу, и никто не спешил их спасать. Я раздобыл ветчины и бутылку вина, а спал у себя в машине на носилках. На рассвете отправился дальше, и на окраине Бар-ле-Дюка встретил Оливера — он обзванивал все населенные пункты, расспрашивая, не видел ли кто потерявшегося англичанина. Добрая душа, он ограничился устным выговором, а мог бы отдать меня под трибунал. Позже я научился постоянно держать в поле зрения идущий впереди автомобиль; это не так просто, как может показаться. В Бар-ле-Дюке мы узнали конечную цель нашего путешествия. Наше подразделение, Конвой-10, перевели в Рарекур — деревню близ Клермон-ан-Аргона, в двадцати милях от Вердена. К вечеру мы были на месте.
Наш отряд насчитывал десятка два британских подданных — в том числе из колоний. Были у нас юнцы, не прошедшие медкомиссию, один-два офицера, демобилизованные по ранению, однако большинство составляли такие, как я, кого не взяли в армию по возрасту. Отряды, подобные нашему, были разбросаны по всей линии фронта. У американцев была собственная медицинская транспортная служба; некоторые работали у немцев. Официально нами командовал французский офицер, но во главе каждого отряда стоял англичанин, выбранный за знание французского языка. Должность у него была нелегкая. Он отвечал за выполнение приказов и в то же время старался по мере сил облегчить службу пожилым джентльменам, непривычным к дисциплине и зачастую плохо представляющим себе разницу между современной войной и клубом на Пиккадилли. Оливер являл чудеса терпения и такта. Что касается еды, мы получали обычный армейский рацион. Много мяса и овощей, притом хорошего качества. Вдобавок у нас в столовой был общий фонд, и мы добывали, что могли, по окрестностям. Это было очень весело — можно было съездить в Сент-Менеу или в Бар-ле-Дюк, там принять нормальную ванну и пообедать за столом с чистой скатертью. Столовая наша располагалась в длинной палатке посреди поля. В хорошую погоду там было свежо и прохладно, зато в ненастье палатку насквозь продувало ветром и заливало дождем, так что пол превращался в хлюпающую грязь. Мы садились за la soupe — так здесь называли обед — в шинелях, подняв воротники. Ночевали в деревне, кого куда разместили. Я с тремя товарищами спал в амбаре. Мы расстелили спальные мешки на носилках, поставленных на козлы, и соорудили столики для бритья и туалетных принадлежностей, купив у хозяйки местной бакалейной лавки упаковочные ящики по франку за штуку. Позже я нашел себе более роскошное жилье в доме старого крестьянина и его жены. Они никогда не раздевались. Старик, сбросив башмаки, вешал куртку на гвоздик и с кряхтеньем заползал в какую-то дыру в стене. Жена его распутывала невидимые завязки, расстегивала пуговицы, встряхивалась, оставляла туфли у печки и, задув лампу, исчезала в такой же дыре напротив. Около церкви был домик с плющом и скамейкой — по вечерам я любил там посидеть с трубочкой, любуясь чудесным видом. Общительная старушка-хозяйка похвасталась как-то, что на этой самой скамейке в прошлом году сиживали трое офицеров — полковник и два майора, приветливые такие. В то время деревню оккупировали немцы. Как я понял, местные жители неплохо на них наживались.
— У них было много денег, — пояснила мадам.
Большие трудности были с топливом. Плох тот ветер, который никому не приносит добра, — новость о разбомбленной деревне, покинутой своими обитателями, разносилась как лесной пожар. Кто успеет первым, тот и уволочет из развалин бревна и доски. Сырое дерево плохо горит, а в землянках другого и не видали. Говорят, нет дыма без огня. Неправда! Иной раз в землянке набиралось столько дыма, что приходилось зажигать спичку, чтобы найти очаг. А если спички французские, уходит весь коробок. Нас только примусы и спасали. Мы жгли их день и ночь, как весталки свой священный огонь. На них мы готовили, сушили одежду и отогревали замерзшие ноги перед сном. Грязь была нашим проклятием. Дожди не прекращались, и мы жили по уши в грязи. Наш отряд работал в Аргонском лесу. Дежурили мы в point de secours[42]; в какой-нибудь сотне ярдов от передовой. Раненых, наскоро перевязав, приносили к нам из полевого лазарета на носилках, или они приходили сами, морщась от боли. Нам разрешалось бродить где вздумается, лишь бы в пределах слышимости. Можно подойти туда, где кончается колючая проволока, и посмотреть на залитые грязью просторы вокруг. Черная, неподвижная грязь, словно застывшая река; кое-где из нее торчат белые кости, человеческая нога (подошвой вверх), безглазая голова лошади. На той стороне виднелись среди деревьев каменные блиндажи и немецкие часовые.
Во время своего второго ночного дежурства я услышал над головой странный свист. Решив, что это какая-нибудь ночная птица, я стал смотреть вверх. Свист повторился. Я сделал несколько шагов, стараясь рассмотреть получше, и тут сильный удар в живот сбил меня с ног. В следующий миг раздался грохот. Привязанную в нескольких шагах от меня лошадку подбросило в воздух, и она упала замертво. Оказалось, наш врач, аптекарь из Перонны, толкнул меня на землю и потащил по ступенькам вниз, в свою землянку. В другой раз, услышав свист среди ветвей, я старался не мешкать.
Можно подумать, солдаты по ту и другую линию фронта каким-то образом общались между собой: те два часа в день, когда по узкоколейке подвозили провизию, французские и английские батареи молчали. Как только последний бочонок муки и последний мешок картошки благополучно скатятся по ступенькам в полевую кухню, артобстрел начинается вновь. Взрывается немецкий фугас — а француз, которому взрывом должно бы снести голову, неизменно в сторонке пилит дрова. Видно, крестьянину интуиция подсказывает, когда для здоровья полезно немного прогуляться.
Жаль, не доверили простым солдатам договариваться о мире. Пожалуй, тогда и Лига Наций не понадобилась бы. Как-то я увидел двух солдат, сидевших рядышком на бревне — француза-poilu и пленного немца. Француз поделился с ним завтраком. На земле между ними лежала винтовка победителя.
Больше всего мы страшились ночных вызовов. Едешь по лесу с выключенными фарами, то в горку, то вниз с кручи, по узким петляющим дорогам, ориентируясь по памяти, а в низинах попадаешь в туман, где приходится так напрягать зрение, что глаза чуть не вываливаются из орбит. Мы выжимали всю возможную скорость — ведь от этого зависела жизнь людей, которых мы везли. К тому же нас могли еще отправить в новый рейс. Часто так и случалось. Если верить календарю, в иные ночи должна бы светить луна, но в те края бесконечных дождей она заглядывала редко. При такой работе нервы натянуты до предела. Выход один: до последней минуты думать о чем-нибудь другом. Говорят, такой совет дают приговоренным к повешению. Снимаешь сапоги и гимнастерку, задуваешь свечу, ложишься… Откуда-то сверху на стол шлепается крыса и замирает. Мы переглядываемся при свете тлеющих в печке поленьев — все ли съестное убрали в жестяные коробки? Хотя эти хитрые твари наловчились и крышки открывать. Ну что ж, откроет так откроет. Возможно, она удовлетворится свечным огарком. Водитель номер девять отворачивается к стене… и вдруг опять вскакивает. На деревянной лесенке слышны шаги. Шаги приближаются. Девятый номер задерживает дыхание. Слава всем богам, прошли мимо. Со вздохом облегчения он укладывается снова.
Кажется, не успел закрыть глаза, а уже в лицо бьет яркий свет. Кто-то бородатый в голубом мундире и синей железной каске стоит рядом с кроватью. «Ambulance faut partir»[43]. Бородач, прежде чем уйти, милосердно зажигает свечу (крыса, как видно, нашла себе что-то повкуснее). Водитель номер девять в полубессознательном состоянии одевается и выходит наружу. Помощник Пьер уже крутит ручку мотора и почти выбился из сил. Девятый отпихивает его в сторону, берется за рукоятку, и примерно с двадцатого оборота мотор заводится, взревев, словно внезапно разбуженный огромный зверь. Пьер, только что осыпавший машину всеми известными в Гаскони проклятиями, гладит ее по капоту почти влюбленно. Словно из-под земли возникают неясные в темноте силуэты. Двое раненых на носилках, трое сидячих. Носилки поднимают и быстро задвигают в машину. Трое сидячих медленно и с трудом занимают свои места, рядом сваливают в кучу их рюкзаки и винтовки и захлопывают дверцы. По дороге нужно заехать в лагерь Камбон, взять еще людей. Как проедете развалины фермы де Форе, свернете налево, сразу за переездом и будет лагерь, не ошибетесь. И Девятый садится за руль.
По дороге через лес он не отрывает глаз от узкой полоски неба над головой. Нужно все время держаться точно в центре этой полоски. А машина то и дело виляет из стороны в сторону. Пьер, сидя на подножке, приклеился взглядом к дороге. Вдруг он кричит:
— Gauche, gauche![44]
Девятый номер резко выворачивает влево.
— droite![45] — вопит Пьер.
Он что, сам не знает, чего хочет? И куда, черт возьми, девалось небо? Угадывающаяся по сторонам дороги глубокая канава манит, словно грязевая Лорелея. И вдруг небо вновь выскакивает откуда-то сзади. Девятый переводит дух.
— Arretez[46]! — кричит Пьер чуть погодя.
Он разглядел во тьме бесформенную массу — возможно, остатки разрушенной фермы. Он выходит, хлюпает по грязи и с торжеством возвращается. Действительно, это ферма. Значит, мы на верном пути. Остается не пропустить поворот налево. Они находят поворот — по крайней мере надеются, что нашли. Спуск довольно крутой. Из машины доносятся жалобные крики:
— Doucement, camarade… doucement[47]?
Пьер, открыв окошко в перегородке, объясняет, что ничего поделать нельзя: дорога плохая. Жалобы прекращаются.
Дорога все хуже и хуже. Дорога ли это вообще, или они заблудились? Кажется, машина в любую минуту готова перевернуться вверх тормашками. Девятый номер вспоминает жуткие истории, слышанные в столовой: о том, как водителям приходилось целую ночь провести возле застрявшей в грязи машины, слушая доносящиеся изнутри стоны и молитвы; как машины опрокидывались, вывалив умирающих людей прямо в слякоть, кучей перепутавшихся рук, ног и размотавшихся бинтов. Его прошибает пот, хотя ночь сырая и промозглая. Не обращая внимания на протесты Пьера, Девятый включает фонарик и светит вперед и вни. Все-таки это дорога, хотя изрытая воронками от снарядов. Машину подбрасывает на каждой. Если оси выдержат, может, получится спуститься. Оси каким-то чудом выдерживают. Машина выезжает на ровный участок, Пьер издает радостный вопль, и тут же впереди возникает переезд и раздается долгожданный голос часового.
Выносят раненого. Он уже два часа без сознания. Пусть Девятый прибавит скорость. Наполняющий долину туман все гуще и белее — словно голову обмотали мокрой простыней. Тени выплывают навстречу и тут же растворяются. Что это — люди, дома, деревья? Невозможно сказать. Вдруг Девятый бьет по тормозам, останавливая машину. На этот раз видно отчетливо: огромный фургон, лошади-тяжеловозы встают на дыбы и роют землю копытами.
И ни звука! Пьер спрыгнул с подножки и что-то кричит. Где же возница?
Все исчезло. Тишина. Пьер снова залезает в машину, и оба начинают хохотать во все горло.
Но почему Пьер тоже это увидел?!
Машина ползет на первой передаче. Раздается глухой треск. От фонарика никакого толка, на ярд вперед ничего не видно. Ощупью выясняют, что машина уперлась в дверь. К счастью, задние колеса все еще на дороге, можно выправиться. Но дальше ехать бессмысленно. Вдруг Пьер ныряет под машину и появляется вновь, попыхивая сигаретой. В восторге от собственной изобретательности, он идет, пританцовывая, держа зажженную сигарету за спиной и нащупывая дорогу собственными ногами. Девятый номер медленно едет вслед за крохотной искоркой. Время от времени невидимый Пьер делает затяжку, прикрывая сигарету рукой, и огонек разгорается ярче. Спустя какое-то время туман рассеивается. Пьер, громко распевая, вновь забирается на подножку. Еще через милю они пересекают условную границу, за которой разрешено включать фары, но на всякий случай решают не включать. Глаза только-только приспособились к темноте; а после яркого света трудно будет снова привыкать на обратной дороге. Подъезжая к тыловому госпиталю в двадцати километрах от линии фронта, оба поют во весь голос, каждый на свой мотив.
— Как доехали? — спрашивает коллега-водитель из другого отряда.
Он только что выгрузил раненых и натягивает шоферские перчатки.
— Туман мешал немного, — отвечает Девятый. — Пришлось завернуть в лагерь Камбон.
— А, там спуск пакостный, — кивает коллега. — Ну, пока!
Из Рарекура нас перевели в Верден. Город был почти полностью разрушен. В некоторых домах рухнула передняя стена, оставив комнаты нетронутыми, точно в кукольном домике: два кресла у камина, распятие на стене, детская игрушка на полу. В одной лавке мы увидели двух канареек в клетке, погибших от голода. Кучка перьев рассыпалась в пыль, когда я до нее дотронулся. В ресторане суп еще стоял на столе, в бокалах оставалось недопитое вино. В Цитадели до сих пор жили люди: целый подземный город галерей и туннелей, улицы из спален, столовые, концертный зал, госпитали и кухни. Кое-где можно было увидеть группы пленных немцев — они расчищали завалы и вообще занимались уборкой. Видно, в Германии в то время была острая нехватка шерсти; несмотря на морозы, из белья у военнопленных были только тонкие хлопчатобумажные рубашки. Сквозь дыры просвечивало голое тело. В соборе расквартировали взвод французских саперов. Алтарь служил им кухонным столом. Город казался удивительно мирным, хотя вокруг продолжались бои. Наш Десятый отряд стоял здесь прошлой зимой, им тогда пришлось туго. Во время сражений о Гаагских и Женевских конвенциях как-то подзабыли. К орудиям не успевали подвозить снаряды, и машины медицинской службы не всегда шли обратно порожняком. Наверняка водители немецкого Красного Креста тоже закрывали глаза на нарушения. Солдат не станет поднимать шум по такому поводу. Я был на борту «Лузитании» в ее предпоследний рейс из Нью-Йорка в Ливерпуль, перед тем как ее торпедировали. Мы были по самую ватерлинию нагружены боеприпасами. Немцев обвиняли в том, что они сбросили бомбы на госпиталь. Ну да, а что им было делать? Госпиталь находился по одну сторону дороги, склад боеприпасов — по другую. Самое удобное расположение. Те, кто называет войну игрой, пусть сами отправятся на фронт и поиграют. Они быстро убедятся, что в этой игре не придают большого значения правилам. Однажды нам приказали везти штабных офицеров в инспекционную поездку. Это было уже несколько чересчур. Спринг-Райс отказался наотрез, но не все наши были такими же смелыми.
Проливные дожди сменились морозами. Часто термометр показывал сорок градусов ниже нуля[48]. Французы говорили: «Pas chaud»[49]. Они всегда такие воспитанные… Нельзя ведь прямо сказать, что холодина лютая, вдруг госпожа Погода обидится. Француз только намекнет: не жарко, мол, — а остальное уж на ее совести. Завести машину в таких условиях — адский труд. На ночь мы обматывали моторы одеялами, а под капотом оставляли зажженный фонарь. Один завел привычку прогревать цилиндры паяльной лампой; мы старались обходить его как можно дальше. Птицы не могли летать и сидели, нахохлившись, в защищенных от ветра уголках. Кое-кто из солдат их подкармливал объедками, а другие, наоборот, ловили и жарили. Там и жарить-то было нечего, одни косточки.
Как-то раз в лесу я наткнулся на ветеринарную лечебницу. Странное было зрелище. Выздоравливающие звери лежали на солнышке, многие еще в бинтах. На шее у совсем маленького ослика красовался военный крест. Возницу убили, а ослик со сломанной ногой сам пошел дальше и доставил в окопы груз писем и посылок. Возницы военных фургонов обычно бывали добры к своим животным, да и многие солдаты брали с собой на фронт домашних собачек и делились с ними провизией. Но крыс, если удастся поймать, обливали бензином и поджигали.
— Она съела мою колбасу, — объяснил мне ясноглазый молоденький «волосатик».
Он считал, что всего лишь совершил акт справедливого возмездия.
Некоторые офицеры разбивали садики перед землянками, а маленькие кладбища, попадавшиеся в лесах, пестрели цветами. Один майор обставил свою землянку подлинной мебелью в стиле Людовика XIV: она просто валялась в поле. Когда я был у него в гостях, мы пили чай из чашечек тончайшего фарфора. Чуть дальше от линии фронта жизнь в деревнях шла обычным порядком: если не было бомбежки, крестьяне работали в полях, женщины судачили, а дети играли возле родника. Независимо от бомбежек ежедневно в церкви — или на ее развалинах — служили мессу. Паству составляли солдаты, иногда можно было увидеть женщину в черном. А по воскресеньям приходили фермеры с женами и дочерьми в нарядной одежде, и солдаты, по будням не всегда особо заботившиеся о своей внешности, чистили щеткой мундиры и до блеска надраивали пуговицы.
В пределах десятикилометровой прифронтовой полосы нельзя было встретить ни женщины, ни ребенка. Женщины-сиделки служили только в тыловых госпиталях. Жизнь была скучная. Первый азарт быстро прошел. Мы разговаривали в основном о еде. Главное событие недели — посылка из дома. Часто она приходила уже открытой. Оставалось поблагодарить Господа за то, что уцелело. Из каждых трех коробок сигарет, которые мне присылала жена, я получал хорошо если одну. Французские сигареты, продававшиеся в столовой, состояли на десять процентов из отравы, а на девяносто — из грязи. Измученное лицо раненого озарялось радостью, если покажешь ему английскую сигарету. Из алкогольных напитков нам разрешали только ром, и тот можно было купить в строго ограниченном количестве. Он веселил душу и согревал замерзшие ноги. Парижские газеты доставляли вечером — если доставляли вообще. В газетах рассказывалось, как мы бодры и веселы. Мы предпочитали узнавать новости из ежедневного бюллетеня, который вывешивали с утра возле штаба. Там рассказывалась правда, будь она приятной или нет. К грохоту орудий привыкаешь. На расстоянии нескольких миль он звучит даже мелодично. Землянки размещались неподалеку от наших батарей, очень хитро спрятанных. Помню, однажды присел я на бревно почитать. Место было живописное, возле крутого откоса, который хорошо защищал от ветра. И вдруг… Я сперва решил, что мне оторвало голову. Лежа на земле, я постепенно разглядел два глаза, уставившиеся на меня из норы, вырытой в откосе. Оказалось, я устроился рядом с батареей семидесятипятимиллиметровых пушек. Молодой офицер, почти мальчишка, пригласил меня зайти — решил, что внутри мне будет удобнее. В окрестностях Вердена орудия рявкали постоянно и сильно действовали на нервы. Иногда с обеих сторон отдавали приказ «выложиться на полную»: эффект получался по-настоящему устрашающий. Но если отважишься выглянуть из укрытия, зрелище того стоило: весь горизонт пылал прожекторами и сигнальными ракетами. К рассвету грохот затихал и можно было ложиться спать. Читать ничего не хотелось, кроме самой легкой развлекательной литературы. Особенной популярностью пользовались дешевые книжки, напечатанные на рыхлой бумаге, — из них легко было вырывать странички. Мы играли в карточную игру вроде бриджа и считали дни до увольнительной. По общему мнению французов, Англия начала войну, чтобы перебить немецкую торговлю, а потом втянула и Францию. Переубедить их не было никакой возможности.
Зима выдалась тяжелая, да и возраст сказывался. К весне я уже был не в состоянии продолжать работу и совершенно исцелился от последних остатков преклонения перед войной. Газетные иллюстрации, изображающие восторги окопной жизни, потеряли для меня всякий интерес. По сравнению с современной войной профессия мусорщика покажется прекрасным занятием, а работа крысолова куда более приличествует истинному джентльмену. Я присоединился к небольшой группе людей, призывающей к разумному миру, вопреки общему настроению прессы и толпы. Мы произносили речи в Эссекс-Холле и в провинциях. В числе прочих единомышленников я вспоминаю лорда Пармура, Бакмастера, графа Бошана, Джеймса Рамсея Макдональда, декана Инга, Зангвилла, Сноуденов, Дринкуотера и Эдмунда Дина Морела, человека с великим сердцем. Нас поддерживало всего одно периодическое издание — «Здравый смысл» под редакцией Франсиса Ригли Херста, — он с самого начала войны не сдавал своих позиций, сохраняя при этом такт и чувство юмора. Позже нам на помощь пришел лорд Лансдаун. Лорд Нортклифф, вскоре скончавшийся от продолжительной болезни мозга, предположил, что поддержать нас его заставил старческий маразм. Не знаю, принесли ли мы какую-нибудь пользу, помимо успокоения собственной совести.
Война закончилась в 1918 году. Между 1919 и 1924 годами все шло к тому, чтобы Франция вновь заняла место Главного врага. Ничего другого она и не желала, если судить по французским газетам. В настоящее время ширится движение за то, чтобы назначить на эту роль Россию. Быть может, у богов другие планы. В стаде есть и пестрые овцы, не только белые. Ясно одно: человечество, как встарь, отличается дурными наклонностями и не блещет разумом.
Глава XIII
Что там, впереди?
Родители мои были строгих взглядов. Мама родом из семьи валлийских нонконформистов, а отец до сорока пяти лет проповедовал с собственной кафедры как независимый священник — сейчас их зовут конгрегационалистами. Помню, как обсуждали написанные им брошюры. Одна представляла собой ответ некоему Томасу Пейну, писателю — по словам моей двоюродной бабушки, он, хоть и знал наизусть Евангелие, на самом деле был антихристом, чье пришествие предсказывали пророки. В детстве меня приучали верить в персонифицированного Бога. Если ты ведешь себя хорошо, Бог тебя любит, а если плохо — после смерти Он отправит тебя в ужасное место под названием «ад», и ты будешь вечно гореть в огне. Мама считала, что все-таки не совсем вечно, ведь Бог такой добрый, Он не захочет никого слишком сильно мучить. После того как понесешь наказание и раскаешься, тебя простят. Но это были всего лишь мамины фантазии — возможно, греховные. Мой младший брат умер в младенчестве. Мама не уставала рассказывать о нем — какой он был хороший, разумный, какие удивительные вещи говорил, а в конце всегда объясняла, что он сейчас на небесах у Иисуса и гораздо счастливее, чем был бы на земле. Потом, вытирая слезы, добавляла, что очень нехорошо и эгоистично плакать о нем, но она никак не может удержаться. Помню ее счастливые глаза много лет спустя, незадолго до смерти. Она лежала очень тихо, глядя в никуда, и вдруг сложила вместе ладони.
— Скоро я увижу его! — сказала она. — Он теперь такой красивый…
Странное место — рай, каким его представляли в моей семье. Я его побаивался. Очень уж много там золота. Все носят золотые короны, играют на золотых арфах, а посередине — я представлял себе пустую бесконечную равнину — сидит Бог на золотом троне, и все его хвалят; никаких других занятий. Мама объясняла, что это все символы, означающие, что мы навсегда будем с Господом и не будем больше страдать. Меня пугала эта вечность — до того, что я не мог спать по ночам. Все старался сосчитать: тысяча лет, десять тысяч, миллион… и конца им нет. А Бог все время сидит и смотрит на тебя. Невозможно побыть одному и подумать.
До четырнадцати лет я молился каждый вечер и каждое утро. Мне говорили: все, о чем помолишься как следует, исполнится. А если не исполнится — значит, у меня недостаточно веры. Странная мешанина, мои детские молитвы. Если их все же услышали на небесах, должно быть, очень потешались. Я молился, чтобы Господь помог мне проснуться рано утром, чтобы простил меня за то, что я пожелал смерти мальчишке торговца углем — он гонялся за мной и пинал меня; чтобы Господь надоумил кого-нибудь подарить мне белого кролика; чтобы Он научил меня любить жирную еду, потому что она полезная. Были и другие просьбы, иногда вполне осмысленные. Однажды я молился о том, чтобы найти потерянные полсоверена. Отец дал мне монету и велел забрать заказ с почты. Монету я положил в карман брюк — перед выходом из дома и я, и мама проверили, она была там. А когда я пришел на почту и собрался оплатить заказ, монета исчезла. Я несколько часов бегал по улицам, хоть и знал, что это безнадежно. Отец ничего не сказал, а мама вся побелела. Я плакал, пока не уснул. С утра первым делом побежал на почту, дождался открытия. Монета лежала в пыли под прилавком, точно там, где я накануне стоял. А ведь я не верил, когда молился, — слишком невозможным это казалось. Зато в других случаях, когда я искренне верил, Господь не откликался.
Мама считала, что Господь дает нам только то, что для нас благо, и ему видней.
— Мы с папой так часто молимся о том, чтобы у папы дела пошли лучше, — тогда нам жилось бы полегче. Но лучше не становится.
Господь испытывает нас в печи огненной, но мы должны верить в Него неизменно. «Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться»[50].
Но зачем тогда разглагольствовать о вере, если от нее ничего не зависит? И почему Бог считает для нас не благом то, что благо для других людей? Лишь через много лет, прочтя мамин старый дневник, я узнал, какую тяжелую борьбу за существование вел отец в последние годы своей жизни. И все же я понимал, что мы бедны. Мама никогда не ездила в омнибусе, хотя страшно уставала от долгой ходьбы. Она обещала, что не будет жалеть денег на омнибус, когда придет наш корабль. Я иногда невольно сердился на Бога за то, что он осыпает других дарами, а с нами жадничает. Иногда нас приглашал к чаю некий мистер Вуд, старик с седыми бакенбардами, жирными пальцами и тяжелой золотой цепочкой, — его, должно быть, Бог особенно любил. Мистер Вуд ездил в карете парой и у него было много слуг. Как-то он мне сказал, что все это дал ему Господь. Недавно он построил Господу часовню и с тех пор еще больше разбогател. Мой отец в молодости тоже построил часовню, почти целиком на свои деньги. Видимо, Бог о ней забыл, потому что она была совсем маленькая, — не то что кирпичная громадина мистера Вуда на Боу-роуд.
В те дни благочестивые люди нисколько не сомневались, что все хорошее в буквальном смысле дается нам Господом, — и на этом свете, и на том. Помню, в воскресной школе мы учили гимн:
«Везде, куда ни посмотри, так много бедняков. Как Бога мне благодарить за щедрость всех даров?»
Мне предписывалось благодарить Бога за то, что я сыт и тепло одет, меж тем как другие ходят в лохмотьях и просят милостыню. Видимо, Бога устраивает такой порядок вещей.
Как-то, возвращаясь домой пасмурным зябким вечером, я облился холодным потом, услышав свой голос, будто со стороны:
— Несправедливо это! Он неправильно делает!
После маминой смерти я молился редко. Так потерпевший кораблекрушение, затерянный во мраке среди волн, лишь изредка зовет на помощь, уже не надеясь, что его услышат. Я не просил продлить ей жизнь. Сколько я молился о здоровье отца — ночи напролет простаивал на коленях. Что толку? Если бы это зависело от детских молитв, ни у кого не умирали бы любимые отцы и матери. Нелепость какая-то. Чем больше я об этом думал, тем сильнее меня одолевали сомнения.
Меня, как и нынешних детей, учили примерно так: всемогущий, всеведущий Бог, создатель всего сущего, создал и человека по Своему образу и подобию и поместил его в сад, где росло древо познания добра и зла. Человеку разрешено было есть любые фрукты, кроме плодов этого древа. Даже ребенком я никак не мог понять, к чему там было это дерево? Бог сам устроил свой сад, предназначив его для жизни человека. Выходит, древо росло там с единственной целью: служить вечным искушением для Адама, не говоря уже о Еве? Мало того, еще и змей — которого тоже создал и поместил в сад Господь — без помех приходил к Еве и уговаривал попробовать плодов. Наверняка Господь знал о змее. Это очень тонкий момент. Мне казалось, что Господь мог по крайней мере предупредить Адама с Евой. Адам, простая доверчивая душа, наслушался хитрых речей змея и отведал запретный плод. Как-то мне не верилось в изумление Господа, когда этот проступок раскрылся.
За одно-единственное нарушение Господь обрек Адама — и не только Адама, но и всех его потомков, включая меня, — на вечную погибель. Когда я вырос, епископ Батлер и другие достойные авторы старались мне разъяснить всю мудрость и справедливость, проявленные Господом в этом вопросе, но так меня и не убедили. На мой взгляд, с Адамом и со всем родом человеческим обошлись излишне сурово — и это еще очень мягко сказано. Должно быть, и сам Бог почувствовал, что был слишком строг, и чтобы поправить дело, послал в мир Своего единородного Сына, умереть за наши грехи. При этом первородный грех с Адама и Евы был снят. Человечество получило еще один шанс на спасение. Никто мне так и не объяснил, почему Бог, который всемогущ и может сделать все, что захочет, не выбрал какой-нибудь более простой и гуманный способ. Вслух я этого вопроса никогда не задавал, чувствуя, что он слишком ужасен. И даже при всем том, спасется не все человечество, а только те, кто «верит». Не веришь — значит, проклят.
В детстве я ужасно мучился, потому что никак не мог определить, верю я или нет. Само собой, я старался верить — старался изо всех сил, зная, что мое неверие разобьет маме сердце. К тому же за это меня отправят в ад. Не раз во время проповеди я слышал пламенные и подробные описания адских мук. Ужас перед ними не покидал меня ни на минуту. Уткнувшись лицом в подушку, я снова и снова повторял: «Я верю!» — и под конец просто кричал в голос, на случай, если Господь не расслышал мой невнятный шепот. Временами на меня находила уверенность, что я победил, что я действительно верю. А потом вновь возвращался страх: вдруг я только притворяюсь, а на самом деле не верю, и Бог видит меня насквозь. Я не решался даже заикнуться об этом: спрашивать означало признаться в неверии. Старался не думать, но мысли являлись сами собой. Это дьявол меня искушает, говорил я себе, но не мог его прогнать ни постами, ни молитвой. С годами его голос стал еще настойчивее.
Я не мог понять, почему Господь прячется от людей? Ведь все люди — Его дети, отчего же Он явил Себя только евреям, мелкому племени пастухов-кочевников, почему именно им предоставил распространять слово Его — или не распространять, как заблагорассудится? Они, кстати, и не распространяли. Приложили все старания, чтобы оставить Его себе как некую собственность. Даже среди первых христиан шли ожесточенные споры — следует ли поделиться Христом с другими народами? Значительная часть человечества до сих пор не знает Евангелия, а ведь от него зависит их спасение. Почему Бог окружил себя такой таинственностью? Почему не произнес заветы Свои трубным гласом?
Почему Он не говорит со мной? Если сомнения в самом деле нашептывает дьявол, почему Бог не скажет хоть слово, чтобы их рассеять? Зачем дан мне разум, если от меня требуется всего лишь слепая вера, подобная животному инстинкту? Почему Бог не хочет говорить? Или не может?
Да есть ли Бог? И кто он, этот Бог Авраама, Исаака и Иакова, на каждом шагу совершающий ошибки и потом сокрушающийся о них? Способный уничтожить то, что сам же создал? Бог карающий и проклинающий, «ревнивый» Бог, требующий беспрестанной хвалы и преклонения, жертвенной крови агнцев и козлищ. Бог, уделяющий много внимания отделке интерьера, — занавесям и подсвечникам, утвари из золота и дерева ситтим. Бог битвы. Бог мести и смертоубийства. Бог, который создал ад для детей своих. Бог крови и жестокости! Это не Бог. Это существо человек сотворил по образу и подобию своему.
Во времена моей молодости приличным людям не полагалось затрагивать в разговоре три темы: политику, секс и религию. Я помню, как старались внушить мне эту мысль мои первые редакторы. Наверняка многие рядом со мной мучились теми же сомнениями. Мы могли бы помочь друг другу, но религия была запретной темой даже в богемных кругах. Для молодого человека интересоваться религией означало клеймо не только ханжи, но и не-англичанина. Я знал, что есть книги, в которых вопросы религии рассматриваются с точки зрения свободного мыслителя, но они меня не интересовали. Книги, поддерживающие общепринятую точку зрения, я читал, и, думаю, не моя вина, если они вместо того, чтобы прояснить, окончательно меня запутали.
Я пережил мучительный период душевного разлада. Трудно и больно расставаться с детской верой, вырывать ее из себя. Постепенно я достиг, по выражению Карлейля, «точки безразличия»[51]. Что мы, в сущности, знаем? Что мы можем знать? Что такое всевозможные конфессии, как не своеобразный юридический жаргон Высшего суда? За полтора шиллинга можно заверить свои показания у ближайшего крючкотвора: «Я ознакомлен с материалами дела, и я верую».
Да и какая, в конце концов, разница? Вера не может изменить факты. Бог есть, это ясно. Если есть часы, то есть и часовщик, который их создал. Звездное небо над головой — вот самое верное доказательство. Еде-нибудь, когда-нибудь нам откроется истина. А до тех пор что человеку нужно, кроме нравственного закона внутри нас? Это единственная надежная религия. Голос самого Бога обращается к нам напрямую, без посредников. Ему я могу поверить.
Помню наш разговор с Зангвиллом. Мы сидели в лесу на упавшем стволе. С нами был мой песик — забавный малыш. Сидя между нами, он внимательно смотрел по очереди на того, кто говорил. Зангвилл считал, что человек способен охватить сознанием лишь малую часть Бога, так же как собака воспринимает какую-то часть человека. Мой пес умеет по глазам угадывать мои желания, понимает мои приказы — в остальном же я для него загадка. Он не сводит с меня серьезного, вдумчивого взгляда, стараясь понять, — пока за кустом не мелькнет кролик. Тогда он отвлекается и мчится в погоню.
Отчасти божественная природа заложена в человеке. В силу этого он может частично постичь Бога, быть ему другом, помощником. Однако всего Бога человеческий разум вместить не в состоянии. Можно только терпеливо ждать, пока нам откроется полное знание, а тем временем постоянно искать Его, иначе совсем потеряем. Конфессии преходящи, но вечен алтарь Господа Неисповедимого.
Потому что душа человеческая всегда будет стремиться к Богу. Мы не можем иначе. Та частичка Господа, что есть внутри нас, рвется к своему источнику. Если есть в жизни какой-то смысл, отличный от простого животного существования, — он состоит в том, чтобы приготовиться к встрече с Богом.
То, что мы бессмертны, для меня очевидно. Даже капустный лист не пропадает бесследно. Он разлагается на составные части и в них продолжается и приносит пользу. Нет никакой возможности душе покинуть нашу вселенную. Единственный вопрос: вольется ли вновь душа в общий источник жизни или сохранит индивидуальность? Если первое, то зачем бы нам дана отдельная, индивидуальная жизнь только на этой земле, где мы пребываем так недолго и возможности для развития так ограничены? Главный довод против бессмертия — близкое родство человека с низшими животными. Но ведь и они разумны. Грань между инстинктом и разумом не очерчена четко. Инстинкт сыграл важнейшую роль в развитии человеческого мозга. Можно доказать, что многие животные проявляют способности к мышлению. Разум сделал человека царем творения, но это ничего не говорит о будущей жизни за пределами этого мира.
И в нравственном отношении мы не так уж далеко ушли от животных. Мириады ползучих тварей трудятся и жертвуют собой ради своего потомства, ради блага своего сообщества. Закон племени, закон нации — всего лишь закон стаи, только усиленный и более масштабный. У человека те же добродетели, что и у обитателей джунглей: мужество, преданность, верность до смерти. Бог говорит и с ними. Их тоже ведет сквозь тьму нравственный закон.
Будь человеку дано бессмертие за разум или за нравственные качества, то же самое заслуживали бы и животные. Не зря Юдхиштхира взмолился к Брахме, чтобы его собаке позволено было войти в рай вместе с ним. Быть может, все живое стремится вверх, только разными путями. Быть может, царь Юдхиштхира и его пес еще встретятся и вспомнят друг друга.
Но человек на своем пути уже совершил огромный прыжок от слепого существования к самосознанию. Еще дрожащий, изумленный, стоит он на краю безмерной пропасти, что отделяет его от прочих живых существ.
Когда произошло новое рождение, через которое человек обрел сродство с Господом? В какой переломный момент пришла к нему мысль: «Кто я? Откуда я? Куда я иду?» Долго ли человек бродил по земле, прежде чем открыл незримую страну и дорожным знаком поставил могилу?
Должны быть основания для интуитивной веры в будущую жизнь, иначе она не укоренилась бы в нас так прочно. Если душе, как и телу, суждено распасться на части, откуда бы взяться этому инстинкту? Он не нужен, он бесполезен. Стоики были готовы принять такую возможность, но лишь для того, чтобы стать свободными от всякого страха. Они признавали, что Бог движет ими. Их идеал близок к буддистскому — вновь слиться с божественным началом, с нирваной. Быть может, и так. Вечность — долгий путь. Возможно, он ведет к покою.
Но прежде надо потрудиться. Кант представлял звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас как части единого целого. Душа дана человеку, чтобы он мог стать помощником Бога в трудах его. Мироздание еще не построено до конца. Творение продолжается.
Человек должен так прожить жизнь, чтобы, покидая этот мир, быть более пригодным к служению Господу. Несомненно, в этом смысл рождения нашего и смерти.
Главная битва жизни — с собой, а не за себя. Даже и не принимая буквально Книгу Бытия, человек способен усвоить понятие первородного греха. Как грех пришел в наш мир, мы узнаем, когда изведаем все тайны вечности. А пока наша задача — бороться с грехом. В этой борьбе мы укрепим душу. Среди всех, кто помогал человеку, придавая ему силы для борьбы за духовное существование, первым мы должны поставить Иисуса Христа. В детстве меня учили, что Христос и есть Бог. Тайну Троицы я толком не понимал — ее никто до конца не понимает, и ранняя Церковь мудро поступила, запретив своим приверженцам и пытаться постичь сию загадку. Христа я мог полюбить. По-моему, ни один человек не может узнать его историю и не полюбить его — по крайней мере ни один ребенок. Отпугнула меня необходимость смотреть на него как на Бога. Если он с самого начала был Богом, значит, все притворство, и чем мне может помочь его пример?
Но Христос-человек, такой же, как я, — хоть и бесконечно выше меня, — все-таки мой брат, ведающий те же узы и то же бремя. В его страданиях я могу почерпнуть мужество. Его победа дает мне надежду. То, чего он требует от меня, я в силах выполнить. Куда он ведет, я могу последовать.
Дух Христа живет в каждом из нас. Это и есть та часть человека, что роднит его с Богом. Прислушиваясь к ней, мы и сами становимся подобием Божьим, достойным стать Его товарищами в труде. Если же мы ею пренебрегаем, позволяем задавить ее злу, которое тоже всегда есть внутри нас, — мы ее уничтожаем. Возмездие за грех — смерть[52] и это не метафора. Грех изгоняет стремление к Богу. Если мы не будем искать Бога, то и не найдем его. Христос — великий пример для нас. Своим учением, своей жизнью и смертью он показал, как человек может стать истинным Сыном Божьим. Все прочее только сбивает с толку. Идея, что Христос был послан в мир, чтобы стать козлом отпущения для наших грехов, неконструктивна. Она может служить утешением, если у Бога нет для нас больше никакого дела и впереди лишь вечность бесконечной праздности, — не важно, в блаженстве или в мучениях. Но если Господь готовит нас к будущему труду, такая идея может стать камнем преткновения.
Не грехи тянут нас вниз, а наше нежелание с ними бороться. Силы дает борьба, а не победа. «Не кто я есть, а кем стремился быть». Душа дана нам не для того, чтобы избежать наказания и завоевать счастье. Какой в том смысл? Работа — единственный смысл существования. Счастье не может служить целью ни в нашем, ни в загробном мире. Радость труда, радость жизни — вот истинно божественная награда. Рай, где, согласно общепринятой теологии, мы будем вечно блаженствовать, ничего не делая, — это миф. Надеюсь, он развеется с развитием человечества. Полный покой, полное довольство могут быть достигнуты лишь в конце времен, когда все уже свершено и даже мысль угасла. А пока еще не настали те отдаленные сумерки творения, будем верить, что среди своих многих владений Господь найдет нам работу по силам.
Вот зачем мы пришли в этот мир: чтобы приготовиться к служению Богу. Удалось ли это нам? Кто из нас посмеет предстать перед Создателем с высоко поднятой головой и сказать: «Господи, я сделал все, что мог»?
Но если мы и в самом деле искали Его, не будем отчаиваться. Возможно, мы сами не заметили, как выдержали некие неведомые испытания. Забытые нами успехи Он вспомнит, а неудачи наши, будем верить, поймет и простит.






