Не хочу быть полководцем Елманов Валерий
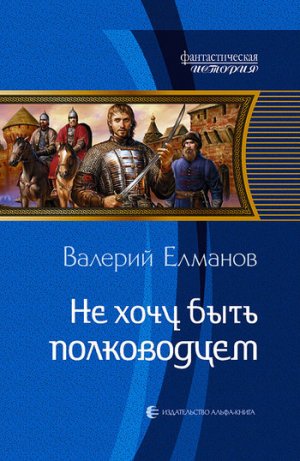
ПРОЛОГ
Я просыпаюсь от тишины. Каждое утро она звучит по-разному — то пронзительно и звонко, то степенно и басовито. Изредка не выдерживает невидимый глазу сверчок, который от избытка чувств начинает петь ей свои незатейливые гимны, трогательно выводя тоненьким голоском незатейливые рулады. Сверчок не мешает мне, хозяину этого крошечного терема-теремочка. В нем не разгуляешься — что-то вроде каморки папы Карло, как я про себя именую комнату, в которой пишу, но зато тут очень уютно.
Я иду по затейливо вьющейся меж яблонь тропинке, неспешно уходящей от крыльца и выводящей на более широкую колею за домом. Дорожка тянется строго вдоль оврага. Кругом все заросло крапивой, огромными лопухами, чертополохом и другими дикими травами. Им тут привольно — никто не мешает, никто не трогает. Сами они тоже не наглеют — как ни удивительно, но на дорожку никто из них не посягает.
«Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю…» Да, именно так почти все время и вился тогда мой путь, расположенный в опасной близости с крутым краем глубокой — если упасть, костей точно собрать не удастся, — пропасти. Почти, но не всегда — иногда тропинка слегка отступала, давая возможность перевести дыхание. Но как же часто мне приходилось балансировать на самом краю — кто бы знал!
Прямо как в цирке, даже похлеще, поскольку в отличие от акробатов и эквилибристов у меня отсутствовала страховочная веревка. А балансировочный шест заменял сверкающий на пальце перстень с крупным красным камнем в тонкой, старинной работы, золотой сетчатой оправе. Перстень, с которого начались все мои приключения. Именно он служил для меня путеводной звездой, когда я плутал в сумерках загадок, не зная, что придумать и что предпринять, именно он утешал меня в минуты отчаяния, когда казалось, что все, то ли пошло прахом, то ли полетело к черту, то ли погрузилось в тартарары. Он был памятью о тех незабываемых минутах моей первой встречи с любимой, постоянно прокручивая кинопленку моих воспоминаний. Может быть, именно благодаря ему я каждый раз после оглушительных ударов судьбы находил в себе силы вновь и вновь подниматься на ноги. Благодаря ему и… собственной настырности, которой у меня хватает.
Оглядываясь назад, я и сам поражаюсь тому упрямству, с которым я, невзирая ни на что, продолжал состязаться с судьбой. Вообще-то играть с ней в любую из азартных игр, пожалуй, более безнадежно, чем даже с нашим государством. Разве что положиться на присказку, утверждающую, что новичкам везет, да понадеяться на счастливый случай — вдруг сидящий напротив тебя опытный игрок забудется и в самый важный момент не вытащит из рукава очередного — пятого или шестого по счету — припрятанного туза. Или и того невероятнее — вдруг решит забавы ради не пользоваться козырями в рукавах и крапленой колодой, а в кои-то веки сыграть по-честному… Такое тоже случается, хотя и крайне редко, в виде исключения.
Впрочем, упрямство пришло потом, а сперва была… наивность. Поначалу, из-за обычного человеческого любопытства оказавшись на Руси шестнадцатого века, я еще не понимал, что мне просто повезло. Судьба вывалила на меня самый благоприятный геройский расклад — я победил в сражении разбойников, я спас самую красивую в мире девушку да вдобавок ухитрился получить из ее рук золотой перстень с драгоценным камнем, и тут же вернулся обратно. Ах, как все замечательно!
Удачный кавалерийский наскок в прошлое сыграл со мной дурную шутку. Влюбившись в прекрасную незнакомку, я посчитал, что все и дальше будет в порядке и во второй раз мое путешествие в поисках милой княжны пройдет так же гладко, как и в первый.
Лишь потом до меня дошло, что судьба поступила в точности как опытный, прожженный шулер, смухлевав в мою пользу в первой сыгранной партии. «Главное завлечь», — рассуждала она. И это ей удалось. Но дошло это до меня гораздо позже, когда старая хрычовка, начиная чуть ли не с первых же минут моего пребывания в этом мире, принялась подкидывать испытание за испытанием — ограбление, застенки Разбойной избы и прочее. Только тогда я стал сознавать — для достижения своей цели придется изрядно попотеть и даже в этом случае не факт, что мне удастся добиться своего. Впрочем, было уже поздно — я втянулся в игру.
«Не за то отец сына бил, что он играл, а за то, что отыгрывался», — гласит пословица. Ох, как мудро сказано! Быть мне битым — я как раз почти все время и занимался тем, что пытался отыграться.
Но в случае со мной судьба чуточку просчиталась. Когда азарт от игры с ней несколько спал, одновременно с ним пропала и наивность, на смену которой пришло понимание. Я послушно принимал бросовые карты, которые она мне всякий раз сдавала, и даже с ними ухитрялся пускай и не выиграть, но и не проиграть окончательно, постоянно оставляя себе шанс. Хотя возможен и еще один вариант — это как раз судьба, коварно усмехаясь, манила меня возможной будущей удачей, чтобы я продолжал надеяться на отыгрыш, вновь и вновь слепо устремляясь вдогон за своим призрачным счастьем.
Пожалуй, только поездка в Кострому была одним-единственным исключением, когда я ни зачем не гнался, а, заподозрив нечестную игру, решил взять тайм-аут для передышки и размышления. Но и тут она меня перехитрила, не дав мне времени для раздумий и вовремя подкинув очередной расклад, показавшийся мне удачным, хотя поначалу, в наказание за колебания, устроила такое небо в алмазах, что о-го-го.
Однако у меня такое ощущение, что я несколько забежал вперед. Итак, начну с того, на чем остановился. Кажется, я просил у судьбы приключений, чтобы не взвыть от тоски, ибо моя ненаглядная Машенька оказалась замужем, и я растерялся, не зная, что предпринять.
«Вы хотите приключениев — их есть у меня! — невозмутимо заявила в ответ коварная бестия, уподобившись старому одесскому еврею. — Таки для хорошего человека мне ничего не жаль, а посему заполучите весь ассортимент. Только унесете ли?..»
И я его заполучил…
Глава 1
СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ
Приключения, правда, сперва небольшие, начались уже на утро следующего дня — у возка сломалось колесо. Само по себе это не столь большая помеха, но обнаружили мы поломку слишком поздно, когда торговый обоз, к которому нам удалось пристроиться, уже тронулся в путь-дорогу. Ждать нас никто не собирался. Ладно, хоть, что купец был хорошо знаком с Ицхаком. Сочувственно покосившись на наши растерянные лица, он оставил своего человека с уговором непременно догнать их к вечеру, иначе я не знаю, как бы мы выкручивались из этой ситуации.
На второй день у Андрюхи разболелся зуб. Парень держался, но чувствовалось — готов лезть на стену, хотя какие в полях да лесах стены. Скорее уж на дерево. Зуб этот болел у него уже не первый раз и был никуда не годен — огромное черное дупло, зловеще зияющее по центру, наглядно свидетельствовало, что с ним пора расставаться, но Апостол панически боялся удаления, и я его понимал, а потому помалкивал. Теперь получалось, что откладывать нельзя. К тому же на сей раз Андрюхе не помог ни один из народных способов вроде осиновой щепки на десну и прочее. Я вспомнил, что, кажется, в таких случаях применяют полоскание с солью, но и это не принесло облегчения.
Мучился он два дня, аккурат до большого села, где все тот же купец привел к нам за руку местного кузнеца.
— И где болезный-то? — густо пробасил тот, задумчиво вертя в мускулистых руках… здоровенные клещи.
Андрюха ойкнул и спрятался за мою спину.
— А они в рот войдут? — поинтересовался я, разглядывая это нехитрое стоматологическое оборудование.
— И войдут, и выйдут, — уверенно заявил кузнец. — Да ишшо вместе с зубом.
Андрюха, поняв, что от меня сочувствия не дождаться, разве что словесного, попытался незаметно улизнуть, но был безжалостно мною изловлен и прижат к возку.
— Все одно не дамся, — заявил белый как снег парень, но тут из возка вынырнула мальчишечья ручонка и бережно погладила Апостола по голове.
— Бу-бу-бу, — ласково произнес юный Висковатый.
Мы одновременно уставились на Ванятку, который впервые за все время путешествия вроде бы вышел из своего странного туманного мирка, в коем пребывал, и теперь выражал искреннее сочувствие своей няньке.
— Стыдись, на тебя дети смотрят, — попрекнул я. — Сейчас выпьешь обезболивающее и… ничего не почувствуешь. Почти.
Кузнец крякнул, всем своим видом выказывая сомнение, но возражать, не стал. Спирта на Андрюху я не пожалел, порадовавшись, что не поленился и дважды перед отъездом съездил в Наливки, или Налейки, — в разных местах эту слободу называли по-разному. Слобода была отведена для проживания стрельцов, получивших от царя милостивое дозволение варить спиртное и торговать им. Дважды, потому что крепость их самогона меня не устраивала, а потому его по моей просьбе перегнали еще два раза. Зато теперь я имел целых три баклажки спирта, не считая заветной солдатской фляжки. Вот треть одной из них я и влил в Андрюху. Разбавленную, разумеется.
Операция по удалению прошла на редкость мирно. Окосевший Апостол вел себя в точном соответствии с кличкой — не сопротивлялся, деревянную распорку, которую ему вставили в рот, выкинуть не пытался и руками за клеши не хватался. Кузнец тоже оказался мастером своего дела — пристраивался неторопливо, чтоб все прошло без сбоя. Видно было, что товарищ стоматолог-любитель помнит о премии, которую я ему посулил, если он выдернет зуб с одного раза. И не подвел. Я тоже рассчитался честь по чести и вместо деньги щедро одарил его целым алтыном, то есть тремя копейками, в шесть раз больше.
Кузнец недоверчиво попробовал каждую на зуб, после чего выразил надежду, что, когда мы будем проезжать обратно, у Андрюхи или у меня прихватит еще пяток зубов, а лучше у обоих вместе, и чтоб мы не сомневались — сделает все как надо, ибо завсегда рад подсобить добрым людям. Я в ответ заверил, что ежели и впрямь, то мы непременно только к нему, но мысленно, бросив взгляд на постанывавшего Андрюху, пожелал, что лучше пусть он нам окажет услугу по прямому назначению — перекует кобылу или починит ось.
Едва закончилась эпопея с зубом, как через день нас обокрали. Дочиста. Предшествовало этому наше веселое гулянье на празднике урожая, в который мы оказались, вовлечены всем обозом. Народ, что и говорить, веселился от души. Было с чего. Оказывается, и в позапрошлый, и в прошлый год погодка сельский люд не баловала, и хлеба уродились худо. У них в селе с превеликим трудом взяли сам-два[1], и это еще здорово, поскольку некоторые соседи, особенно те, у кого поля в низинках, не сумели собрать и того, что посеяли. Зато в этом году уродилось на славу.
На таких праздниках мне раньше бывать не доводилось. Поверьте, что, когда мужики пляшут, аккомпанируя сами себе, а бабы напевают «ай-люли», потому что двух дудочек и пастушьего рожка явно не хватает, когда взрослые люди со счастливыми лицами на полном серьезе водят хоровод, как детсадовские малыши на своих утренниках, — это не смешно. Это — впечатляет.
Может, кто-то скривится и пренебрежительно заявит: «Примитив», а мне понравилось. Было главное — искренность. Когда веселятся от души — это всегда здорово. Я и сам не удержался — и с мужиками ногами потопал, и в хороводе походил, и во всех остальных ритуалах тоже постарался поучаствовать.
А наутро, когда пришла пора рассчитаться с добрыми селянами за припасы, я обмер — сундук с одеждой закрыт на замок, но лежавший в нем на самом дне заветный ларец с серебром исчез.
Почему-то о деревенском люде я даже не подумал. Наверное, интуиция подсказала, вычислив, что и взлом сундука в этом случае был бы погрубее — топором подломили бы, и вся недолга, и одежда тоже навряд ли уцелела. А раз ее не тронули, стало быть, посчитали, что негде спрятать. Вот и получалось, что сработал кто-то из своих, из обоза. Купец был иного мнения и божился, что за половину своих робят готов хоть голову об заклад поставить.
— А за другую половину? — спросил я.
— Голову не положу, но тоже самолично подбирал, — твердо ответил он. — Допрежь николи в выборе ошибки не делал. В нашем деле верных человечков подобрать дорогого стоит, а у меня глаз как у орла. Любого вопроси, и всякий поведает — Пров Титов промашки не дает, — гордо подбоченился он.
Однако я настоял, и мы приступили к опросу, который, разумеется, ничего не дал.
— Может, видал кто нито, как к возку фрязина подходили местные? — полюбопытствовал купец.
— Я зрил, — хмуро откликнулся кто-то из задних рядов. Лица говорившего увидеть не получилось — торчала одна шапка, надвинутая на самые брови.
То есть сразу из-под нее начинался острый нос, отчего-то смутно показавшийся мне знакомым, словно я и впрямь видел его где-то раньше.
— Токмо темень была, не разглядишь, — продолжила шапка. — Двое их было. Плечи широченные, росточку среднего, а боле не припомню.
— И я видал, подходили, — тут же поддержал его кто-то по соседству.
— И я, — подключился третий.
— А я что тебе сказывал? — повернулся ко мне довольный таким оборотом дела купец.
Но мне все равно не верилось. Ну не способен радующийся человек на такую пакость. Это же не месть, которую давно вынашивают, а обычное воровство. К тому же обчистили только меня одного. О чем это говорит? Знал кто-то, куда именно залезть. А селянам-то откуда знать?
Плюс нетронутый замок. Чтобы открыть его, а потом вновь закрыть, нужен профессионал либо… Тут мне вспомнились Андрюхины мучения с зубом, во время которых, мыкаясь как неприкаянный и бродя возле вечерних костров, Апостол умудрился обронить свою связку ключей. Впрочем, связку — круто сказано. Было их всего два — от сундука и от ларца. Тогда я не обратил на это внимания и даже не расстроился — ключи были и у меня, да еще одни запасные лежали в сундуке, так что невелика потеря.
Получается, что кто-то либо подобрал их, либо вообще позаимствовал и с тех пор выжидал лишь удобный для себя момент. То есть опять-таки этот кто-то находился в нашем обозе среди людей Прова Титыча, и местные вовсе ни причем. Словом, логика была на моей стороне, но купец торопился в дорогу, в Костроме его ждали выгодные дела — что-то с покупкой мехов, а наличности приказчик, оставленный там, не имел. Опоздает — и меха уйдут к другим покупателям.
Я отвел Андрюху в сторону, сунул деньгу, завалявшуюся в кармане, проинструктировал парня и, когда тот побежал в село, пошел говорить с купцом. Пров Титыч уже усаживался поудобнее в своей телеге, когда я снова сорвал его с места, шепнув три волшебных для любого купца слова: «Есть выгодное дельце».
Тот, ни слова не говоря, откинул полость, которую к этому времени уже успел тщательно подоткнуть под солому, опасаясь порывов прохладного ветерка, и поплелся следом за мной. Я, молча открыл крышку сундука и извлек нарядную ферязь и кафтан — последние из пошитых для меня в Москве по заказу Ицхака.
— Есть у меня надежное средство проверить твоих людишек, но для этого мне нужен час, от силы два, — сказал я. — Если задержишь обоз и поможешь — отдам его тебе за полцены. Но это только если твои люди и впрямь ни при чем.
— Так они ж все побожились и кресты целовали, — удивился Пров Титыч. — Чего ж тебе еще надобно? Уж куда надежнее.
О господи! Вот наивный-то. Да иной раз… Нет, не буду ничего говорить. И без того понятно, а если нет — тут уж ничего не докажешь.
— Так что, согласен? — спросил я вместо объяснений, что думаю относительно надежности его способа, и рекомендаций, в какое место его засунуть вместе с божбой и крестами.
— Ежели ишшо час тут простоим, то до вечера никуда не поспеем, — вздохнул купец.
— В лесу заночуем, — отрезал я. — Так ты согласен?
— А платье ты мне и так за полцены уступишь, — продолжал он размышлять вслух. — Дорога-то дальняя, а тебе и твоим людишкам все одно есть чтой-то надо.
— Ты ж хорошую цену не дашь, — усмехнулся я. — Потому мне прямая выгода в Костроме его продать. А что до еды с питьем, так хороший купец все яйца в одну корзину не складывает — найду я, на что купить и голодным не останусь.
Тут я не блефовал. В дороге действительно могло случиться всякое, так что в полах ферязи и кафтана, лежащих в сундуке, было зашито по двадцать имперских талеров. Они котировались вполовину дешевле рубля, даже ниже, но не беда. Зато, случись что, НЗ имеется. Туда же, в полы, я, не поленившись, вогнал еще и по пятку золотых дукатов. Маленькие, всего несколько граммов, они котировались гораздо дороже, чем талеры, но по Руси особо не ходили, и народ относился к ним с подозрением — а вдруг медяшка, поэтому я решил обойтись всего десятком.
Серебра я зашил бы и больше, но тогда одежда стала бы слишком тяжелой, а это подозрительно. Да и ни к чему. Добраться до Москвы я смогу и с таким запасом. Тем более расплачиваться на Руси иноземным серебром запрещалось, так что, если кто-то из приказных людей проведает, мне придется ой как худо, и конфискация всех денег вместе с самой одеждой — далеко не самый худший вариант. Правда, на этот случай я тоже подстраховался. Помимо золотых дукатов у меня там имелось по десятку копеек — как раз, если ефимки и венгерские червонные показывать нежелательно.
— А за полцены — это сколько? — последовал практичный вопрос купца.
Я прикинул на глазок. Сколько конкретно платил Ицхак за каждую вещицу, в моей памяти, конечно же, не отложилось. Ну не бизнесмен я, что тут поделать. Если бы он выкладывал деньги из моего кармана, то я бы хоть запомнил, сколько осталось… может быть. Однако, поднапрягшись, мне удалось припомнить толстую книжицу вроде гроссбуха, в которую педантичный Ицхак вписывал мои расходы, и итоговую цифру под перечнем, купленных для пошива тканей и других причиндалов. Поделив надвое и округлив в сторону уменьшения, я буркнул:
— Семьдесят рублей.
— Ношеное, — сердито проворчал Пров Титыч. — Богатый ношеное не купит, а у простого больше рубля за пазухой не сыщется. Десяток рублевиков дам, а боле…
— Ошибаешься. Мне так ни разу и не довелось ничего из этого надеть, — поправил я.
— Все одно, — махнул рукой Пров Титыч. — Ну, разве что пару рублевиков накинуть… — И выжидающе посмотрел на меня.
Несмотря на некоторые уроки, полученные у Ицхака, истинного профессионализма в умении торговаться я не достиг, а потому мы сговорились на двадцати, и повеселевший купец пошел собирать своих людей. Андрюха меж тем уже прибежал, выполнив мой заказ, так что через минуту я все приготовил к предстоящей проверке. Когда толпа опять собралась возле моего возка, из которого мы бережно вывели мальчика, народ смотрел на меня уже не сочувственно, как раньше, а скорее раздраженно.
«Понимаю, ребята, достал, — вздохнул я. — А что делать? Кому сейчас легко?» И объявил, что есть у меня некие сомнения, а потому, чтобы их окончательно разрешить, я с дозволения Прова Титыча проверю каждого из них с помощью ученого ворона, который сидит в возке, накрытый чугунком. Честному человеку бояться нечего. Надо только приложить руки к чугунку, и все. Но как только это сделает тать, похитивший мой ларец, ворон тут же начнет каркать, указывая на злодея.
— А мы его услышим из-под чугунка? — усомнился купец.
— Чего ж не услышать, — усмехнулся я. — Мы ж с тобой рядом с возком встанем. Ты с одной стороны, а я с другой. Он у меня страсть, какой голосистый, так что обязательно услышим.
И народ по очереди полез в возок прикладывать руки к чугунку. Моя ученая птица продолжала помалкивать, так и не издав ни звука. Наконец вылез последний.
— Ну что, — с некоторым разочарованием — не повидал диво дивное, но в то же время и с удовлетворением — и люди его честными оказались, и платье дорогущее почти задарма хапнет, полюбопытствовал Пров Титыч. — Али повелишь и мне в твой возок лезть? — Он сердито уставился на меня.
— Не повелю, — мотнул я головой. — Лучше громко прикажи своим людям поднять руки вверх.
— Зачем? — вытаращил глаза купец.
— Сам увидишь, — загадочно сказал я, надеясь, что не обманулся в своих расчетах и вор поступил именно так, как я предполагал.
И я не ошибся. Когда лес рук взметнулся вверх, то среди чумазых от сажи на чугунке — Андрюха специально подобрал самый закоптелый — замаячили две абсолютно чистые ладони.
— Ты видишь? — указал я купцу на их владельца. — То-то он самый первый на местных стал сваливать. А чугунок трогать не стал, испугался. Почему, как мыслишь?
Народ начал с любопытством поворачиваться в сторону единственного, кто побоялся, что ворон каркнет, Пров Титыч, побагровев, уже набрал в рот воздуха, дабы рявкнуть что-то грозное, но, к сожалению, ворюга сообразил быстрее. Поняв, что разоблачен, он не стал пытаться доказать свою невиновность. Вместо этого он припустил вприпрыжку в ближайший лес.
— Лови! Хватай! — раздались крики опомнившихся людей, и с десяток, не меньше, мужиков рванули следом.
— Три алтына тому, кто поймает! — крикнул вдогон купец.
Народ припустился порезвее.
— И от меня рубль! — добавил я.
Скорость преследователей тут же увеличилась вдвое, а я пояснил удивленному моей щедростью Прову Титычу, что в ларце лежит гораздо больше и, если не догнать татя, пользы от его разоблачения все равно никакой.
На самом деле причина была в ином. У меня не очень хорошая память на лица. Скорее уж средненькая. Чтобы я с первого взгляда хорошо запомнил человека, либо он должен обладать весьма запоминающейся внешностью, например, выглядеть таким же уродливым, как Малюта Скуратов (царя я тоже запомнил, но тот — исключение), либо сама встреча с ним должна сопровождаться очень драматичными обстоятельствами.
Случайное знакомство в лесу возле костерка было достаточно памятным, но особого драматизма в нем моя память не усмотрела. Кроме того, не стоит забывать про алкоголь, а он тоже негативно влияет на запоминание. Словом, рожа мужика в низко надвинутой на лоб шапке мне показалась странно знакомой, особенно нос, вот и все. Лишь когда я перевел взгляд с чистых ладоней на его лицо, тогда только в памяти проблеснуло, где именно я видел этот длинный острый нос. Не иначе как сумел он улизнуть от стрельцов, когда вязали шайку Посвиста, и вот теперь вынырнул, опять встав на моем пути, причем уже во второй раз.
Во второй, но не в последний — ожгло меня предчувствие. Оно вообще-то редко дает о себе знать, но уж коль зазвонил тревожный колокольчик, то стоит к нему прислушаться — просто так он сигнала не даст. Именно поэтому я не особо радовался, когда преследователи вернулись, гордо держа на вытянутых руках мой ларец — весь в комьях земли, но без остроносого.
— Ну, коль не пымали, стало быть, и награды нет, — поспешно заявил Пров Титыч.
Я, ни слова не говоря, принял ларец, достал из кармана ключик и вручил обещанное. Гораздо охотнее я отдал бы не рубль, а половину содержимого ларца, только чтобы остроносый сейчас стоял связанный передо мной, но ничего не поделаешь. Зато что касается дальнейших происшествий, то тут как бабка отшептала. Не иначе судьба решила дать мне передышку, чтобы я мог, как следует подготовиться к грядущим и куда более серьезным испытаниям, которые она собралась мне подкинуть в самом ближайшем будущем.
Глава 2
В ТИХОЙ ЗАВОДИ
В Костроме наши с Провом Титычем дорожки разбежались. Его путь лежал вверх по реке с одноименным, как у города, названием.
Купец, уважительно поглядывая на мой ларец, целых два дня назойливо предлагал мне пойти к нему в компаньоны, обещая оглушительную выгоду — на каждый рубль десять, не меньше.
— Серебрецо там не в чести, но нужный товар мы прикупим за день, — соблазнял он. — А река не земля, сама везет.
Я усмехнулся, ради интереса узнал, куда именно предстоит ехать, и, выяснив, что приказчик его ждал даже не в Соли Галицкой, а гораздо дальше, в граде Устюге, который лежал в устье Сухоны, там, где она впадает в Северную Двину, окончательно потерял интерес к заманчивой прогулке.
— Тогда продай хоть ворона, — взмолился он. — Тебе он ныне ни к чему, а мне бы ох как сгодился.
— Улетела птица, — коротко отрезал я, не желая вдаваться в подробности и рассказывать, что на самом деле ее не было вовсе.
— Как же это ты недоглядел? — расстроился купец.
— Сам выпустил, — беззаботно помахал я рукой. — Негоже такую умницу взаперти держать. Да и обещал я ему.
— Ворону? — вытаращился на меня Пров Титыч.
— Ну да, — беспечно кивнул я. — Иначе он бы отказался татя распознать.
— А ты что же, с птицами говорить могёшь? — боязливо осведомился он, с испугом поглядывая на меня.
— Не со всеми, — пояснил я. — Среди них глупых много. С теми не умею. А если умная, так чего же не поболтать — что видали, что слыхали. Они многое знают.
Больше он ко мне со своим предложением насчет компаньонства не приставал, и мы расстались.
Человечек, который не просто подробно растолковал, как добраться до нужной деревеньки, но и согласился сопроводить нас до места, нашелся через два дня. Правда, содрал он с меня за это изрядно, но я сам виноват — на радостях забыл поторговаться.
Новые испытания начались к вечеру следующего дня. Оказывается, деревенек под названием Сморода несколько, и проводник — маленький тщедушный мужичонка по имени Петряй — привел меня совсем к другой. То-то мне с самого начала показалась странной слишком большая разница в описании пути. Уж очень много несоответствий было между рассказом Анастасии Ивановны и этим путем. К сожалению, та рассказывала тоже не очень-то внятно, с пятое на десятое, многое, упустив из виду, поскольку давно не бывала в родных краях, вот я и подумал, что ничего удивительного в этих различиях нет. Разобраться-то в ошибке я разобрался, только теперь было непонятно, как лучше всего ее исправить, поскольку местные жители про другую Смороду даже не слыхали.
— Ничего, ничего, — успокаивал я меньшого Висковатого. — Выберемся. — Ничего, ничего, — послушно повторял он за мной, и в его глазах мелькала искорка понимания.
Маленькая, совсем крошечная, но я чувствовал — она там есть, и огонек ее постепенно разгорается. Это радовало настолько, что остальные мелочи вроде очередной вынужденной задержки меня беспокоили не очень сильно. Подумаешь, заплутали… Ничего страшного. Выберемся.
Вообще-то самое разумное в моей ситуации — повернуть обратно на Кострому, но мне было боязно за мальчишку, потому что означало еще одну ночевку в лесу, а там могло случиться всякое. Нет, я вовсе не имею в виду ночных разбойников. Как ни странно, но встречи с ними я не опасался, хотя пару раз, еще, будучи в городе, ловил на себе чей-то пристальный взгляд. Был он не очень-то добрый, скорее напротив. Но тут ведь обычно как — оглянешься по сторонам, ничего не заметишь и успокоишься, решив, что показалось. Я и успокаивался, встревожившись лишь раз, когда в десятке метров от себя заметил знакомую рожу с длинным острым носом.
Вот тут опасения проснулись во мне с прежней силой, и я пулей рванулся вперед. Однако рожа мгновенно исчезла за бревенчатым углом избы, а когда я буквально через пару секунд выскочил на соседнюю улицу, она оказалась пустым-пустехонька, только вдали, метрах в пятидесяти от меня, важно вышагивал в сторону городского базара какой-то мужик в похожей шапке. И вновь я решил, что мне показалось, особенно после того, как, догнав этого мужика, убедился в собственной ошибке. Нос, правда, и у него был достаточно длинным, уныло клонясь вниз, но своей формой скорее напоминал уточку, да и во всем остальном — кроме шапки — ничего схожего.
Помнится, я еще обругал себя шизиком и заявил, что если, кажется, то надо креститься, а не дергаться и не носиться как угорелый за каждым встречным-поперечным.
Так что мысль о бандитах в голову мне не приходила. Но ведь в лесу и без них довольно страхов. Возьмет да и выпорхнет из кустов какая-нибудь ночная птица. Или, к примеру, отойдет мальчишка по нужде в лесок, а тут филин глазищами морг-морг, а потом как заухает. И пускай Ваня будет в этот миг не один, а с Андрюхой, но толку. Подобные встряски и здоровому человеку могут изрядно пощекотать нервишки, ребенку тем паче, а что уж говорить о подростке, психика которого только-только начала восстанавливаться. Погаснет искорка, как пить дать погаснет, и дай-то бог, чтобы на время, а то ведь может и окончательно. Навсегда. Спрашивается, и зачем я тогда его спасал?
Именно поэтому, когда наш проводник предложил другой маршрут да еще упомянул про богатое село Богоявленское, я тут же согласился, причем с превеликой радостью, не обратив внимания на его хитрую ухмылку.
Не придал я значения и тому, зачем он попросил меня уплатить ему половину обещанных денег в качестве аванса. Только потом мне припомнился откровенно жадный взгляд, устремленный на мой открытый ларец, из которого я доставал три алтына — девять серебряных копеек. Воистину простота иной раз гораздо хуже воровства.
Я не удивился и тому, что мы в очередной раз заплутали, списал все на плохое знание дороги и начал прозревать лишь тогда, когда он среди ночи куда-то неожиданно исчез.
Но и тут многое было непонятно. Одно дело, если бы он попытался меня обокрасть, но у нас ровным счетом ничего не пропало. Ладно ларец, который лежал в сундуке, на котором в свою очередь безмятежно спал Андрюха, — попробуй сковырни. Да и тут мог бы попытаться — нож-то за голенищем сапога вместе с ложкой имелся почти у каждого, поскольку это для нас он нож, а в эти времена считался скорее вилкой, то есть человек носил при себе столовый набор. Про лошадей я и вовсе молчу. Их можно было увести совершенно спокойно, но ведь и этого Петряй не сделал. Тогда куда и зачем исчез? Словом, загадка, да и только.
Решил я ее для себя просто — парень испугался моего гнева. Выгляжу я солидно — что одежда, что рост (имеющий мои сто семьдесят пять сантиметров по нынешним временам считался весьма высоким человеком), ну и опять же сабля на боку. Возьму да махну ею со зла. Разок, не больше. Вполсилы. Хлипкому мужичонке вроде него и такого удара за глаза.
«Ладно. Сами доберемся, — решил я, — но поступлю по-своему. Учитывая, что этот шаромыжник заблудился, я не поеду по тому маршруту, о котором он говорил вечером. Поверну-ка лучше на развилке, что идет после мостка через речушку, не направо, а в другую сторону».
Сказано — сделано. Через три часа мы повернули налево, к полудню я уже проклял свою самонадеянность и лишь из упрямства не стал поворачивать обратно, зато еще засветло подъехал к какой-то небольшой, на десяток дворов, деревне, посреди которой высился здоровенный терем. Нет, в Москве он бы смотрелся совершенно иначе, напрочь потерявшись на фоне более солидных хором, но тут, среди неказистых избенок, он будто распахнул крылья, словно ястреб, сбежавший от орла и усевшийся рядом с курами.
Кстати, у самой деревни Петряй каким-то образом ухитрился нас догнать. Это пешком-то. Как объяснил сам горе-проводник, он, поняв, что мы свернули не туда, бросился напрямки через лесок, потому и сумел нас настичь. И тут же принялся сетовать на нашу досадную ошибку и уверять, что еще не поздно все исправить, потому как там-то — теперь он вспомнил точно — и есть Сморода. Более того, правая дорога гораздо короче, а солнышко еще высоко, и если мы прямо сейчас повернем лошадей, то непременно успеем.
Он убеждал нас с такой напористостью, буквально умолял с жалкой улыбкой на лице, что я чуть было его не послушался. Только из опасения, что проводник мог опять что-то перепутать и все закончится очередной ночевкой у костра, я отказался, заявив, что одна голова хорошо, а две лучше, и я уточню у тех, кто здесь проживает, — не могут же они не знать название соседней деревни. Петряй или, как я про себя называл его, Апостол-два еще пытался меня переубедить, даже хватал за узду лошадей, норовя повернуть нашу упряжку в обратную сторону, но я вовремя вспомнил укрощение Беляны, грозно на него цыкнул, и он угомонился.
Каково же было мое удивление, а главное — радость, когда у первой же словоохотливой бабы, которую я окликнул, мне удалось выяснить, что это и есть Сморода, а сами они — годуновские. Боярина же ихнего кличут Димитрием Ивановичем, только ныне он больно плох. Так плох, что на днях боярыня уже разослала во все стороны дворовых людей оповестить родню, которая должна вот-вот подъехать, чтобы проститься с умирающим, да вот что-то никого покамест не видать. А если они еще денек-другой промедлят, то по всем приметам нипочем не успеют к живому, а ему бы так хотелось проститься со всеми, потому как добрейшей души человек, ну прямо-таки яко андел, право слово, андел. Сравнение ей самой так понравилось, что она еще несколько раз повторила его, смакуя и сокрушенно покачивая головой.
Встретили нас в усадьбе, несмотря на тяжелую болезнь хозяина, весьма гостеприимно. Едва хозяйка дома, пожилая Аксинья Васильевна, которую мы застали прямо во дворе, узнала, что мы из Москвы, да еще привезли грамотку от горячо любимой сестрицы ее ненаглядного супруга, как тут же принялась хлопотать о праздничном ужине, отдавая команды налево и направо, отчего весь двор, казавшийся до этого погруженным в какое-то горестное оцепенение, немедленно ожил. Дворовые девки вприпрыжку понеслись кто в подклеть за припасами, кто в ледник за дичиной, кто в повалушу за медком. Мужиков было немного, так что им досталось больше работы.
— Разогнала я всех кого куда за родней мужниной, — виновато пояснила Аксинья Васильевна. — Так что с ужином-то чуток обождать придется. А ежели совсем голоден, Константин свет Юрьич, так я распоряжусь, чтоб покамест холодненьким попотчевали. Тока хлебушко третьего дня печеный, потому подсох маненько, а сегодняшнему, что в печи, надоть еще доспеть. — И встрепенулась, испуганно всплеснув руками: — Батюшки, да что ж это я?! Я чаю, тебе с дорожки и отдохнуть надоть, а я даже в терем доселе не зазвала. Это из-за болести соколика мово в голове все помутилось, вот я и… — пожаловалась она. — Ты уж прости, Константин свет Юрьич, бабу неразумную.
С этими словами Аксинья Васильевна попыталась мне поклониться, но я, успев угадать ее намерения, не дал ей этого сделать, справедливо рассудив, что это скорее дань вежливости с ее стороны, не больше. После этого она, моментально забыв о своем приглашении зайти в дом, принялась скорбно сетовать на то, что все в жизни устроено далеко не лучшим образом и негоже господу[2] прибирать праведников так рано, ибо их на Руси и без того нынче не бог весть сколько. Тут же она как-то непринужденно перескочила на то, как ей будет здесь одиноко, потому что выпорхнувший из их гнезда Бориска непременно заберет с собой сестрицу Ирину, и тогда уж она и вовсе останется здесь одна-одинешенька.
— У нас здесь и без того тихая заводь, а будет яко в болоте камышовом. Приедешь, а не признаешь — мхом напрочь зарастем, — пошутила она.
Затем сразу перепрыгнула на лихие нынешние времена, которые расплодили татей шатучих да беглых. И совсем недавно, три дни назад, Никита Данилович Годунов привез одного беглого холопа, коего пымали. А он бедовый — уже не первый раз бегает, да, того и гляди, из амбара удерет, а у нее, как на грех, ныне на подворье осталось мужиков и вовсе три человека, да и те в годах. Ежели беглец стрекача задаст, то и гнаться за ним некому. А уж, коль нагрянут душегубцы, отбиваться нечего и думать, и потому вдвойне славно, что я подъехал, да еще при шабле и с двумя холопами, кои не чета ее дворским…
Вторично вспомнила она о том, что гостя надо пригласить в дом, аж через полчаса, не раньше, начала вновь извиняться и опять попыталась поклониться, но я снова ее удержал.
Тут Аксинья Васильевна явно решила перейти на третий круг причитаний и вновь стала говорить о праведниках и несправедливом устройстве жизни, хотя ей самой грех жаловаться, потому как она с Димитрием Ивановичем почти тридцать годков душа в душу, за что господу, само собой, спасибо и низкий поклон, и ежели бы всевышний даровал им детишек, то была бы и вовсе не жизнь, а разлюли малина, но, чтоб все хорошо и нигде плохо, не бывает, а потому…
Словом, каюсь. Возможно, я перебил ее на самом интересном месте, будто не мог из вежливости постоять еще пару часиков. Такой уж ей достался нетерпеливый гость, который не просто прервал словоохотливую хозяйку, но и, набравшись наглости, непринужденным тоном сам пригласил ее в дом. А куда деваться — иначе так и стоял бы до самого вечера во дворе.
Но даже после моего приглашения сразу зайти все равно не получилось — еще минут десять она распоряжалась, кого где из моих холопов разместить, потому как народ у меня молодой, до озорства охочий, а блуда она у себя во дворе нипочем не потерпит, потому как это смертный грех, а Христос хоть и заступился за блудницу, но опосля…
К сожалению, Библию она знала хорошо. Даже слишком хорошо… Словом, прошло еще полчаса, пока мы зашли наконец в дом.
К тому времени я успел вспомнить все пословицы и поговорки, убедившись в их абсолютной достоверности и жизненности. А еще актуальности. Воистину «бабу не переговоришь», «волос у нее долог, а язык еще длиннее», «бабья вранья и на свинье не объедешь», «бабий роток не заткнешь ни пирогом, ни рукавом» и вообще «три бабы — базар, а семь — ярмарка». Хотя нет, в последнюю присказку я бы внес существенное изменение — такой, как Аксинья Васильевна, достаточно всего одного слушателя, и все — тут тебе и базар, и ярмарка. Купцы в торговых рядах на Пожаре, то бишь на будущей Красной площади, обзавидовались бы, услышав, как долго и складно может говорить человек.
В доме она тоже не молчала. Разве лишь перешла на шепот, поскольку Димитрий Иванович тока-тока заснул, а до того две ночи кричал криком от нутряных болей, и посылать с небес такие муки праведнику вовсе негоже, а если это последнее испытание, яко Иову многострадальному, то все одно ни к чему, ибо лишнее, потому как он и без того натерпелся в своей жизни всякого, в том числе и болезней, ан ни разу ни в чем господа не попрекнул и умалить его страдания не просил, как бы тяжко ему ни приходилось.
Дальше продолжать не буду, поскольку цитировать полностью ее бесконечный монолог слишком утомительно — растянется на добрый десяток страниц, и хорошо, если только на один. Вставить в него хоть слово было так же бесполезно, как пытаться остановить грудью несущийся на тебя локомотив. Дважды я пробовал это сделать, решив ради приличия слегка утешить хозяйку и ляпнув что-то оптимистичное про Димитрия Ивановича, типа не всяк умирает, кто хворает, и не всякая болезнь к смерти, но пришел к выводу, что это лишь во вред мне самому, поскольку, сбитая с мысли, она перескакивала с середины в начало, усугубляя испытание моего терпения.
Оставалось кивать и поддакивать, незаметно озираясь по сторонам. Обстановка была бедноватая. Оглядывая скудную мебель — две широкие лавки, приставленные к здоровенному столу, да огромный, на полтора десятка икон, красный угол, я лишний раз убедился в том, что царский печатник и думный дьяк Висковатый — исключение из общего правила, причем редкое, и как жаль, что Ивана Михайловича уже нет в живых.
От него мои мысли естественно перекинулись к юному Висковатому, о котором я до сих пор так и не успел ничего рассказать словоохотливой женщине. Единственное, о чем успел заикнуться еще раз, так это о грамотке, которую было бы желательно прочесть хозяину дома, а коль Дмитрий Иванович так тяжко болен, так, может, ей самой ознакомиться с посланием.
В ответ Аксинья Васильевна торопливо замахала на меня руками, заявив, что она грамоте вовсе не обучена и вообще по книжной части бестолкова не в пример супругу. Вот он — подлинный книгочей. Да ведь чего удумал — решил Иринку, вовсе дите летами, грамоте обучить, хотя к чему она девчонке-соплюхе, неведомо. Учит же не просто яко дьячок на деревне, а с шутками да прибаутками, и столь забавными, что даже она, неразумная, и то частично их запомнила: «Како он — кон, буки ерык — бык, глаголь аз — глаз. Ер да еры — упали с горы, ерь да ять — некому поднять». Вот как весело у него выходит, и потому Иришка, хошь и от горшка два вершка, а по толкам[3] у нее уже славно выходит.
Девочку лет десяти я приметил, еще, когда мы с Аксиньей Васильевной стояли во дворе. Она робко выглядывала из-за двери, к которой вело относительно низенькое — всего с десяток ступеней — крылечко. Потом малышка исчезла и показала свое милое личико еще раз гораздо позднее, вновь робко выглядывая из-за двери, отделяющей нашу горницу, где мы ужинали, от остальных помещений. Очевидно, это и была та самая Иринка.
А Аксинья Васильевна продолжала безостановочно тарахтеть, и с такой скоростью, что позавидовал бы автомат Калашникова. И так лихо получалось у нее переходить от темы к теме, что мне оставалось только восхищаться, в то же время внутренне подвывая от нетерпеливого ожидания окончания ее вечной повести. Но куда там. Добродетели своего супруга она, как я понял, могла обсуждать сутками.
Улучив момент — как ни удивительно, но Аксинья Васильевна сделала коротенькую паузу, — я вновь открыл рот, однако оказалось, что это была вовсе не пауза, а она просто прислушивалась к происходящему на улице, после чего поспешила покинуть меня на «самый малый часок». Я, разумеется, не возражал, выразив в душе надежду, что часок окажется не таким уж и малым, — мои уши явно нуждались в передышке.
Не иначе как господь услышал мои пожелания, поскольку разговаривала она с прискакавшим гонцом довольно-таки долго. Но затем перерыв закончился, и торжествующая Аксинья Васильевна поспешила к своему дорогому гостю, чтобы рассказать последние новости, в том числе и поделиться радостной вестью о том, что эта ночка будет последней из числа тревожных для нее, а уж завтра лихих шатучих татей можно не опасаться, ибо двоюродный братец Димитрия Ивановича Никита уже в пути, хотя правильнее было бы говорить Никита Данилович, но уж больно он молод, и помнит она его вот с таких вот годков, когда он еще был безусым мальчонкой.
Будучи оптимистом, я легковерно понадеялся, что Аксинья Васильевна должна вот-вот утомиться, но спустя еще полчаса понял, что фонтан извергаемых ею слов вечен, как Ниагарский водопад, и начал зевать, намекая на то, что пора бы и того, например, проводить гостя в опочивальню. Аксинья Васильевна некоторое время деликатно не обращала внимания на мой раздирающийся от зевоты рот, но затем, сжалившись, все-таки спохватилась и самолично повела меня в ложницу, куда расторопный Андрюха при помощи Петряя уже успел занести дорожный сундук.
«Кажется, спасен», — блаженно подумал я, закрывая глаза и питая надежду, что гости не опоздают и мне не придется весь завтрашний день пробыть наедине с Аксиньей Васильевной, которая выразила сожаление, что я не очень словоохотлив, но это, наверное, с дороги, а к завтрему, опосля баньки, размякну и сделаю ей одолжение, рассказав, что творится в мире, потому как у них тихая заводь и больше всего она любит слушать проезжих людей.
«Как можно слушать проезжих людей, не давая им сказать ни слова?» — успел удивиться я и тут же отключился.
Если бы не истошные крики Дмитрия Ивановича, который вновь, по всей видимости, пришел в себя от жутких болей, я бы навряд ли проснулся от багрового зарева за слюдяным окошком. Но он начал кричать за минуту до того, как заполыхала стоящая рядом с теремом конюшня.
Слюда не имеет такой прозрачности, как стекло, хотя сквозь нынешние, мутноватые и почему-то отливающие болотно-зеленым, разглядеть что-либо мне было бы еще тяжелее — проверено на практике во время проживания у Висковатого. Но все равно сама по себе слюда дает видимость не ахти, так что много я не увидел. Зато услышал, потому что одновременно с заревом мне по ушам рубанул женский крик. Поначалу подумалось, что причиной этому наступившая смерть хозяина дома, который как раз затих, но что-то меня в этом крике смутило. Спустя несколько секунд я понял: в таких случаях женщины обычно плачут, стонут, ревут белугой, но уж никак не визжат, ибо уход из жизни вызывает скорбь и печаль, а не панику и ужас.
Натянуть на себя штаны и сунуть босые ноги в сапоги — дело нескольких секунд, и с каждой последующей я все отчетливее сознавал, что приключилась беда, причем внезапная и страшная в своей неумолимости. На мгновение мелькнула шальная мысль, что невесть каким макаром царь-батюшка внезапно оказался в этом тихом месте и уже приступил к своим традиционным забавам, но я тут же отогнал от себя глупую догадку. Не вписывалась она.
Тогда оставалась последняя версия — тати. Едва выскочив из своей опочивальни, я тут же понял — точно. Накликала-таки почтенная Аксинья Васильевна, старательно смаковавшая вчера весь вечер эту тему, включая временную беззащитность своего подворья. Я еще успел подумать о том, что разбойники выбрали и впрямь самый что ни на есть подходящий момент, хотя если шайка небольшая, то, может быть, у нас есть еще шансы, а потом стало не до того.
Против настоящих ратников я навряд ли выстоял бы больше минуты, да и то лишь потому, что несколько раз просил ратных холопов Висковатого, которые время от времени устраивали на хозяйском дворе нечто вроде тренировки, поучить меня сабельному бою. Те соглашались охотно, и причина лежала на поверхности — всегда приятно покрасоваться эдаким бывалым рубакой перед многочисленной дворней. А когда тебе противостоит неумелый боец — хотя чего уж тут, правильнее сказать, никакой, — то твое мастерство от такого сравнения выигрывает еще больше.
Хорошо, что я все-таки числился во фряжских князьях, — откровенных насмешек они не допускали, опасаясь, что я могу пожаловаться Ивану Михайловичу. Зато всего остального хватало в избытке. И пускай они из предосторожности обматывали острие прочной рогожей, после чего их саблей нельзя было ни проткнуть человека, ни даже ранить, но все равно синяков я нахватал в избытке. Иной раз так доставалось по плечу, что я не мог поднять руки, да и многострадальная шея потом болела так, что я полночи не мог заснуть.
Помогало лишь осознание того, что я явлюсь перед любимой пусть и не лихим рубакой, но и не полным неумехой, что хоть и не зазорно, зато мгновенно переводит тебя в иную и гораздо более низкую категорию. А что делать, если сейчас на Руси только так: ты либо холоп, либо ратник. Нет, были такие, что носили одновременно оба эти звания, числясь в ратных холопах, вот как мои добровольные учителя. Но это была лишь специфика названия, которое на деле тоже означало воина, только бедного, а бедность — не порок.
Освоил я не так уж и много. Объясняли они неохотно, теряясь в словах и предпочитая говорить: «Смотри, вот так надо». Я смотрел, стараясь запомнить, как выворачивается рука, откуда идет замах, куда при этом ставятся ноги, чтобы тело оставалось устойчивым и в то же время могло в любое мгновение пружинно отскочить назад при ответном выпаде врага. Да-да, именно врага, а никак не соперника, потому что любой поединок, даже учебный, был всерьез и на спортивный не походил. Там можно было просто проиграть. Здесь права на реванш ты не получал — покойник отыграться не в силах. Либо убиваешь ты, либо — тебя.
Сейчас мне все это пригодилось, и счастье заключалось в том, что противостоящие мне, до того как пойти в разбойники, никогда не были ратными холопами, иначе… Нет лучше об этом и не думать, к тому же и так ясно.
И все-таки с первым я затянул непростительно долго. Виной тому были… потолки. Чрезмерно низкие, метра два, не больше, они трижды мешали мне нанести настоящий удар, всякий раз затормаживая ход моей сабли, и противник успевал либо подставить свою, либо увернуться. По этой же причине первое ранение получил я, а не дравшийся против меня тощий мужичонка с забавного цвета пегой клочковатой бородкой.
«Словно черти его драли», — успел подумать я и даже удивился — в такой момент и такие нелепые мысли.
Эта пустячная рана, больше похожая на царапину, сказалась мне на пользу. Она словно вдохновила меня. К тому же я теперь постоянно напоминал себе о потолке и бил наискось либо сбоку, так что вскоре врагу стало не до ответных выпадов — лишь бы успеть отбить мои. Но пришел момент, когда он не успел. Прочертив кровавую борозду по его шее, моя сабля, похоже, задела сонную артерию, потому что кровь брызнула фонтаном прямо мне в лицо. Ослепленный, я отскочил, приготовившись отбить его удар, однако мужичонка стоял неподвижно, открыв рот, но ничего не говоря, а потом глаза его закатились, и он, пошатнувшись, тяжело рухнул на пол.
Опешив, я несколько секунд тупо смотрел на упавшего, словно в столбняке, но тут где-то наверху вновь раздался пронзительный женский крик, и я опомнился, пришел в себя, причем настолько, что даже сообразил вынуть саблю из руки убитого, лежавшего в луже собственной крови, и опрометью рванул вверх по лестнице.
Видок у меня был тот еще — все лицо в крови, рот перекошен от ярости, клинки обеих сабель в темно-красных потеках. Вообще-то для такого вояки вроде меня даже выдумали поговорку: «Двое одному рать», но мне повезло. Сладкая парочка, которую удалось застать на месте преступления, скорее всего, решила, что явился ангел мщения. Растерялись господа бандюки всего на несколько секунд, но мне их хватило для уравнивания шансов — ближний увернуться не успел.
«Доброй охоты!» — сказал Маугли, смело всаживая длинный нож под лопатку, но так, чтобы издыхающий пес не огрызнулся.
Тот, что стоял подальше, тоже не был расположен к драке с вооруженным врагом. Беспорядочно отмахиваясь от меня дубиной и даже ухитрившись выбить саблю из моей левой руки, он попытался бежать. Достать его получилось уже на лестнице, ведущей вниз, в длинном прыжке, в точности как учили.
Я быстро посмотрел по сторонам — никого. В смысле живого. Из тел — мертвый бандит, почтенная Аксинья Васильевна, чьи ноги виднелись из-за двери, ведущей в одну из комнат, а чуть ближе седой как лунь старик в одном исподнем и с наполовину разрубленной шеей. В мертвых руках он продолжал держать какую-то толстенную книгу, прижимая ее к груди. Словом, типичная картина типичной «тихой заводи» с типичной патриархальной тишиной вокруг.
Мертвой тишиной.
Или?..
Я шагнул к хозяйке терема — может, жива? — и вдруг услышал странный звук. Что-то стучало, часто-часто, причем доносился он как раз из той комнаты, в которую так и не успела заскочить Аксинья Васильевна. Насторожившись, я шагнул туда, выставив вперед саблю и жалея, что второй в руках уже нет, но мои опасения оказались напрасными. В комнате находилась только маленькая девчушка — та самая, которая накануне с любопытством разглядывала меня украдкой от Аксиньи Васильевны. Стучали же… ее зубы.
Я сделал еще один шаг. Девчонка испуганно вжалась в угол. Глаза ее расширились от ужаса. Она не кричала, только неотрывно смотрела на мою саблю, которую я по-прежнему держал перед собой. С ее лезвия медленно, по каплям сочилась кровь, тяжело бухаясь на половицы.
— Не бойся, — хрипло выдавил я и опустил саблю, повторив: — Не бойся меня. Я твой защитник. — И протянул ей руку: — Пойдем.
Наверное, надо было оставить ее здесь, в этой комнате. Сейчас-то я понимаю — такой вариант был бы наилучшим, но тогда мне показалось, что со мной она окажется в большей безопасности. К тому же бросить девчонку среди покойников, да еще когда снизу ощутимо потянуло дымом и гарью… А если напавшие успели поджечь не только конюшни, но и сам терем?
Девочка покорно протянула мне руку, и я мысленно подосадовал, что моя левая ладонь тоже запачкана в крови.
«И когда я только успел в ней вымазаться?» — мелькнуло в голове удивленное, но время поджимало, а потому я отбросил несвоевременную мыслишку прочь как несущественное.
«Об этом я подумаю завтра», — сказала себе Скарлетт О'Хара.
Вот-вот. Именно так. Если оно для меня вообще наступит, это самое завтра. Хотя нет, должно наступить, потому что меня ждет Маша. Она сама этого пока не знает, но ждет. К тому же есть еще эта симпатичная девчушка со смышлеными темными глазами. Между прочим, будущая царица всея Руси, а Валерка специально меня предупреждал, чтобы я не очень-то резвился в этом времени, иначе в отечественной истории могут наступить необратимые изменения. Как сейчас слышу его голос:
«У Брэдбери есть фантастический рассказ „И грянул гром…“. В нем охотник на динозавров случайно наступает на бабочку и вызывает тем самым необратимые и очень существенные изменения в будущем. Такая взаимосвязь настоящего с прошлым в фантастике, да и не только в ней, даже стала нарицательной. „Эффект бабочки“. Так что гляди там. А то учудишь такое, что и возвращаться не к кому станет…»
Понимаю. Как в английском стишке:
- Не было гвоздя — подкова пропала,
- Не было подковы — лошадь захромала,
- Лошадь захромала — командир убит,
- Конница разбита, армия бежит,
- Враг вступает в город, пленных не щадя,
- Оттого что в кузнице не было гвоздя.[4]
И я ему это обещал, помню. Не лезть, не буянить и вообще вести себя как мышка. Не всегда получалось, но тут уж не моя вина — я старался. А тут, если эта девочка погибнет, будет впору вести речь не об изменениях, а о полной переделке отечественной истории, так что кровь из носу, а Ирину Федоровну, которая пока тянет только на Иришку, надо спасать во что бы то ни стало.
— Не бойся, — повторил я еще раз и старательно подмигнул.
Боюсь, что это у меня получилось, не столько весело, сколько зловеще, — девочка даже испуганно всхлипнула. Хорошо хоть, что не стала вырывать руку, шла как завороженная.
Мы стали медленно спускаться по лестнице. Где-то на середине, когда оставалось пройти с десяток ступеней, я понял, что нигде свою левую руку не вымазал и не чужая на ней кровь, а моя собственная, которая продолжала часто-часто капать с запястья на ступеньки, а голова у меня слегка закружилась. Может, первый из бандюков меня и впрямь лишь поцарапал — боль-то практически не ощущалась, но царапина эта прошлась по венам. И хорошо прошлась. От души. Рукав рубахи был уже насквозь мокрым, хоть выжимай, а кровь все сочилась, тяжелыми крупными каплями, мерно шлепаясь на дубовые половицы, не собираясь останавливаться. По всему выходило, что в самое ближайшее время надо принять экстренные меры, иначе дело закончится худо.
«Ладно. Вот оценим обстановку и тогда уж перевяжем», — решил я, продолжая спускаться.
Дойдя до распахнутой настежь входной двери, ведущей на крыльцо, я осторожно выглянул наружу и тут же отпрянул внутрь. Выходить сейчас было бы безумием — во дворе хозяйничало не меньше троих, и, судя по их уверенным, хозяйским действиям, я понял, что из дворни, если не принимать в расчет женскую половину, не уцелел никто.
Азарт в крови у меня еще бушевал, вдохновляемый аж тремя победами, но все равно хватило ума, чтобы понять, — управиться одновременно с таким количеством навряд ли получится. Даже если они такие же «умелые» рубаки, как я, все равно сразу троих мне не осилить. К тому же рука. «Вначале перевязка, а там… там будет видно», — сказал я себе.
Вообще-то самым оптимальным было бы забаррикадироваться в доме, но где-то во дворе оставались Апостол и Ваня Висковатый, который непременно должен дорасти до Ивана Ивановича, поэтому я знал — никаких баррикад строить не стану, а попру напролом, чего бы мне это ни стоило. Жаль только, что я не догадался поинтересоваться у почтеннейшей Аксиньи Васильевны, где она их разместила. Хотя один черт — все равно идти через двор, а там бандиты, и, где бы ни находились Апостол с Ваней, путь к своим все равно лежит через бой с чужими.
«Им же хуже», — зло подумал я.
Я потянул девочку за собой, в спальню, в которой я еще совсем недавно так сладко спал. Уже светало, и сумерки уступили место рассвету.
«Интересно, когда подъедут гости, о которых вчера говорила хозяйка?» — как-то отрешенно, с холодным любопытством, подумал я и тут же попрекнул себя за то, что думаю не о том, о чем нужно.
«А о чем нужно? — спросил я у своего плывущего невесть куда сознания, усилием воли притормаживая его и возвращая на место, и вновь вспомнил: — Апостол, Петряй, а главное, Ваня. Где они и что с ними?»
Получалось, что во двор выходить все равно придется. А как тогда поступить с девочкой? Где ее оставить? Одна из самых дальних комнат была как раз моя опочивальня. Есть шанс, что туда не сунутся. Значит, мы идем правильно — я оставлю девочку у себя в спальне. Укрыться там негде, но…
Стоп. Там же мой сундук. Если выкинуть из него все барахло и вынуть ларец, то она вполне в нем поместится. А сверху его можно забросать какими-нибудь тряпками. Закрывать не стоит — случись, что со мной, и она задохнется, но прикрыть крышку придется, а если Иринка почувствует нехватку воздуха, то всегда сможет слегка ее приподнять — щелки вполне хватит, чтобы спокойно дышать. Или сам оставлю зазор — это еще правильнее. Но вначале перевязка. Это первое.
Однако моим планам сбыться было не суждено — когда до опочивальни осталась пара метров, дверь ее распахнулась и оттуда вышли двое. Один из них держал под мышкой мой ларец. Это был Петряй.
«Значит, второй — Андрюха», — радостно подумал я, но, всмотревшись повнимательнее, понял, что ошибся. Вторым был… остроносый.
Я еще не успел сообразить, каким боком тут Петряй, да еще живой и невредимый, как он тут же кинулся ко мне, радостно завопив:
— Боярин! Спас я его! Вота, вота! Целый! Нетронутый!
Я на него даже не взглянул. Гораздо больший интерес и куда большую опасность для меня сейчас представлял остроносый, который, криво усмехаясь, неторопливо, с ленцой, но уже потащил из ножен свою саблю.
Шагнув в сторону, чтобы закрыть девочку, я тоже изготовился к бою и похолодел. Стойка. Остроносый принял стойку, которая явно свидетельствовала о том, что передо мной не просто тать и несусветный ворюга. Парень-то, оказывается, из бывших. И не суть важно, боевым холопом он был или кем-то еще. Главное — ратник из бывалых, умеющий махать саблей не абы как, но владеть ею по-настоящему, без дураков.
Я не глядя с силой оттолкнул девочку назад, как можно дальше от себя, чтобы та случайно не угодила под его выпад, а он немедленно ринулся вперед, и в первые секунды боя мне стало окончательно ясно, что я не ошибся. До сих пор не пойму, как я ухитрился отбить первые три удара. Он, наверное, тоже был удивлен, во всяком случае, отпрыгнул назад и переложил саблю в другую руку.
«Ну вот и все», — подумалось мне, а в памяти всплыли слова одного из «наставников» — лихого вояки Одноуха, которого прозвали так потому, что у него и впрямь не было мочки на левом ухе: «А ежели ты, Константин-фрязин, когда-нибудь узришь, яко вой перекладывает сабельку из длани в длань, то тут для тебя самое лучшее — бежать без оглядки, потому как совладать с ним у тебя не выйдет. Даже я хошь и изрядно поратился, но и то тягаться с таким бы не стал», — поучал он.
В иной ситуации я, быть может, и воспользовался бы советом Одноуха, но сейчас попытка удариться в бегство сулила еще более скорую смерть — от таких, как остроносый, непременно жди удара в спину. Для них оно вполне нормально, ибо входит в их правила, если они вообще для них существуют.
И снова я сумел отразить первые выпады остроносого. Каким чудом — не знаю, но сумел, а потом кто-то резко ударил меня по затылку чем-то тяжелым. Я не сразу потерял сознание. Пару мгновений я продержался и выжал из них максимум. В первое из них я успел обернуться к новому врагу, а во второе махнуть саблей, хотя даже не до конца понял, что этот враг — Петряй.
Третий миг я еще помню, но сумрачно — это было падение, из-за чего точно направленный удар остроносого, вместо того чтобы с хрустом разрубить мне ключицу и вспороть артерии, пришелся вбок, по многострадальной левой руке, но боли уже не было.






