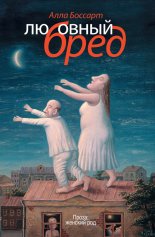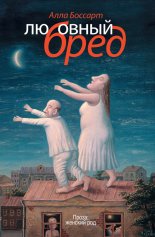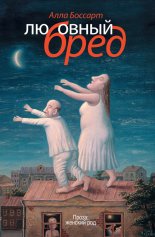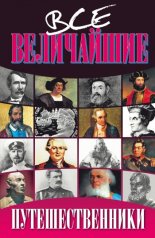Рассказы вагонной подушки Зеленогорский Валерий

Вступление
Кто не ездил на поезде – нет таких людей, кроме тех, кто считает, что движение бессмысленно, но даосов среди нас ничтожно мало.
Вагонная подушка!
Сколько слышала она, сколько слез впитала, сколько раз ее кусали от отчаяния, она утешила в дальней дороге не одну буйную голову, она слышала много признаний и немало горьких слез приняла в себя длинными ночами.
Когда за вагонным окном проносятся бури и ливни – она согревает душу, как печка в темном доме, когда все уже спят и никто тебя не слышит – только она остужает жар в голове одинокого человека, которому, кроме нее, больше некому сказать, но когда ты кричишь, а тебя никто не слышит, она спасает тебя, утешая, как мама.
Она молчит, сохраняя тайны людей, она не судит, она не приводит приговоры в исполнение, она слышит и слушает, и ее каменная твердость – от слишком тяжелых дум, которые ей поверяют.
Я перескажу ее рассказы своими словами, пусть она поведает обо всем, что слышала в дальних путешествиях и в снах тех, которые ее обнимали, плакали и смеялись, она знает много, и ее надо послушать тем, кому интересна другая жизнь – тех, кто рядом с нами. И чем больше мы будем знать друг о друге, тем легче поймем себя.
Трубач и Скрипачка
Он играет на трубе в переходе со станции метро «Театральная» на стацию «Охотный Ряд», играет на трубе популярные мелодии, стоит неловко, скособочившись, с опущенными глазами, и даже не смотрит на футляр, куда падают изредка мелкие монеты и мятые десятки.
Ему тяжело стоять, у него болит нога, вот уже три месяца у него болит нога, врачи говорят, что надо лечь на обследование, но нет регистрации и полиса.
Коммерческая медицина кусается, как цепной пес, который порвал ему ногу на станции электрички, где они с женой снимают сараишко у алкашей на окраине поселка Правда в сорока километрах от Москвы.
Его жена играет на скрипке в продувном переходе на Тверской-Ямской, ближе к Белорусскому вокзалу.
Она седоволоса, но еще совсем нестарая женщина – ей всего сорок пять лет. На вид ей гораздо больше, очки и бедная одежда старят ее, но жалкий вид способствует подаянию. Народ тут побогаче, чем в метро, но подают мало, за двенадцать часов она едва набирает тысячу, но надо стоять и играть: они должны вылечить ему ногу. Если не лечить, то ногу отнимут, и тогда он не сможет играть в метро, и наступит полный трындец…
Она старше его на десять лет. Последние пять они стали жить плохо, а до этого жили душа в душу, вместе работали в шахтерском поселке около столицы Кузбасса, он только закончил консерваторию, она была директором школы искусств, он преподавал духовые и жил на съемной квартире. У нее никогда не было мужа, не имела она товарного вида ни в двадцать, ни в сорок, но он увидел в ней что-то материнское, и прилип к ней, и стал жить в ее маленькой квартирке, и она зажила с ним со страшной силой никогда не любившей женщины.
Они не расписывались, но жили хорошо, он даже отнес ее как-то на третий этаж на руках, просто так, не больную, не раненую, просто так отнес на третий этаж. Поздней ночью.
Тогда они приехали счастливые с концерта с детьми из своей школы. Он нес ее, слегка выпивший на банкете, где она первый раз выпила рому и съела невиданное чудо под названием фейхоа.
От того безмятежного времени не осталось ничего: школу закрыли – у родителей учеников не было денег, шахту закрыли, и в городе все мужчины стали таксистами, женщины торговали на рынке тапочками и сосисками, девочки стали проститутками, а мальчики – бандитами.
Потребность в музыке свелась к двум поводам: стали больше хоронить, и Трубач дул на ветру Шопена, а Скрипачка с подругой-арфисткой в загсе наяривали Мендельсона, но только по субботам. Денег катастрофически не хватало, трубач на кладбище пристрастился к поминальной водке, и его выгнали из оркестра. Трубач стал дома дуть дурь, травой пахло даже в подъезде. Скрипачка терпела все его ломки и передозы, прихватила еще пару подъездов для уборки, но денег на еду и наркоту не хватало.
Тогда Трубач подписал договор на продажу ее квартиры, и они оказались на улице. Трубач плакал, и Скрипачка его простила, и они, взяв свои инструменты, поехали в Москву – разгонять сытым москвичам тоску.
В поезде Трубач напился от волнения и тревоги за непонятное будущее, подрался в тамбуре с двумя пассажирами, на вид – боксерами или борцами. Они навешали Трубачу по соплям и губам, испортив основной орган работы.
Скрипачка во всем винила себя – она стелила ему постель и услышала о драке, когда его уже как грушу метелили два борца. Скрипачка влетела в тамбур, как помесь тигрицы и коршуна. Трубач лежал на полу с разбитой мордой. Он отчаянно махнул больной ногой и попал Скрипачке прямо в челюсть. То, что должно было достаться врагам, досталось его спасительнице. Она помыла его в туалете, отвела в купе, положила на нижнюю полку, а сама залезла наверх и уткнулась в подушку.
Скрипачка рухнула на постель и завыла, закусив вагонную подушку. В плацкарте особо не поплачешь, но подушка-подружка услышала все, весь горячечный бред, путаные слова со всхлипами – все приняла в себя вагонная подушка, единственный психоаналитик для бедного человека – к кому пойдешь со своим горем, стыдно и дорого, теперь можно сходить в церковь, но много лет подушка была единственной отдушиной и окном, в которое можно было крикнуть о помощи.
Всю ночь Скрипачка ревела. Утром Трубач и Скрипачка приехали в столицу и сразу отправились в поселок Правда, где сняли сарайчик с печкой. Там супруги и стали жить за весьма умеренное вознаграждение – у алкашей, считающих себя художниками. Они ничего не творили, кроме пьяных безобразий, но жильцов не трогали, понимая, что это источник их хмельного благополучия.
Утром Трубач и Скрипачка поехали в Москву искать место для выступлений. В переходе на «Охотный Ряд» стоял целый камерный ансамбль студентов консерватории, они играли бодро и грамотно, там по дороге на Красную площадь бродили много иностранцев, подавали они хорошо, тут нашим героям с одной скрипкой и трубой ничего не светило.
Проехали по «серой» ветке – там доминировали «слепые» с баянами и мандолинами, они пели хорошо, но зорко следили, чтобы чужие не ходили.
На «Полежаевской» Трубач попробовал играть в конце перехода, через минуту подошел сержант, аккуратно послал музыканта на три буквы и пообещал сломать руку.
Потом Трубач и Скрипачка поехали на Арбат, где стояли музыканты через каждые двадцать метров, там все было схвачено, и они разделились до вечера, каждый пошел своим путем.
Скрипачка вышла на «Белорусской» и пошла пешком, ныряя во все переходы; на углу Тверской и Чаянова ей повезло: переход был пуст.
Она встала и стала играть, через пять минут ей бросил в футляр 50 рублей какой-то парень с рюкзаком, потом маленькая девочка с мамой дали десятку, а девочка протянула конфету «Вдохновение».
Трубач поехал на «Театральную», остановился в середине длинного перехода и начал играть. Репертуар его был прост: популярные мелодии западных хитов, песни Цоя, Шевчука и Розенбаума. В этом переходе люди не останавливались, Скрипачу первой бросила деньги женщина, слегка хромавшая. Он смотрел в пол и увидел, что ее правая нога одета в ортопедический ботинок, но качественный, сделанный на заказ на Западе.
Женщина слегка задержалась возле музыканта и вскоре ушла, прохромала на свое место работы на улицу Белинского, в департамент по строительству Москвы, и стала пить чай.
Она парковалась на площади у Большого театра, на стройплощадке, где ей любезно разрешал оставлять машину прораб, которому она закрывала договора, а потом шла по переходу – и там нашла своего Трубача. Каждый день, утром и вечером, она останавливалась, бросала сто рублей, он видел ее, но не благодарил: у него болела нога не переставая.
Однажды его не оказалось на месте, она испугалась, вечером его тоже не было, она не спала всю ночь, еле дождалась утра и уже за двести шагов до середины перехода услышала песню Цоя «Группа крови».
Ее отпустило от ночного озноба, она подошла и даже спросила Трубача в первый раз, как его дела, он удивился, но ответил, что в порядке.
Вечером она твердо решила пригласить его поужинать. Подошла и пригласила его, он удивился, сложил трубу в футляр и пошел, не понимая, куда он идет. По дороге до машины они молчали, но, сев в автомобиль, она заговорила первая.
Они познакомились. Трубач сказал, что его электричка в десять и у него мало времени, женщина повезла его к Трем вокзалам и уже знала, что они пойдут в кафе у Арбитражного суда, маленькое кафе с приличной едой и скромными ценами.
Трубач немного стеснялся, прятал ноги в пыльных ботинках. Он успел внимательно разглядеть странную женщину, которая явно чего-то от него хочет. На вид она была совсем ничего, лет тридцати, ухоженное лицо, и одежда на ней очень недешевая. На лице женщины читалось волнение, видимо, у нее не часто бывают мужчины.
Он подумал: «Выпью и поем, а потом уеду, и все».
В кафе они сели в уголок, под портретом Шерлока Холмса в исполнении Ливанова, она заказала много еды, он стеснительно попросил водки – спокойно заказала триста, он суетливо поблагодарил.
Первые три рюмки он выпил без перерыва, чередуя рюмки подхваченными ловко грибочками, потом он ел сразу все, салат оливье чередовался с селедкой и холодцом, ел он жадно, аппетитно, но неаккуратно, роняя куски и чмокая.
Потом он закурил, поднял лицо от еды и, слегка развалясь, стал спрашивать свою поклонницу, кто она и что ей надо от него.
Она, немного заикаясь от волнения, стала говорить о себе, она рассказала ему, что всю жизнь бьется за себя, детдом, где она с хромой ногой не бегала со всеми по крышам и кустам, прилежно училась, знала, что ей ничего не достанется просто так, всего добилась сама, сама поступила в МИСИ, сама выучилась, сидела на картошке на голую стипендию, не ходила на вечера и дискотеки, у нее не было ни одного платья, ей не нужны были платья, ей нечего было показывать из-под них. Так она училась пять лет, потом пошла работать на стройку, чтобы получить квартиру, и отсидела в вагончике у прораба, и получила свою квартиру через три холодных зимы в Марьино. Устроила себе гнездышко сама, своими руками, а потом уже перешла на работу в департамент на Белинского, и стала получать хорошие деньги, и могла уже ездить отдыхать два раза в год в Египет и Турцию, но почти не загорала и не купалась, стесняясь своих недостатков.
Трубач не пил во время ее рассказа, захваченный ее искренностью. У него давно ныла нога, и эта боль пронзала его при каждом шаге. Трубачу стало жалко себя, и он заплакал.
Она вздрогнула и стала его утешать, гладила его руку с обкусанными ногтями, шептала ему разные слова, как маленькому. «У мальчика не боли, у собачки боли, у кошки боли, у мальчика не боли».
Он перестал плакать и стал жестко допивать пузатый графинчик с ледяной водкой, через десять минут закончил и сказал, что ему нужно на вокзал.
Они сели в машину, ехать оказалось близко, до электрички оставалось двадцать минут.
Они сидели молча. Женщина хотела побыть с ним еще, хотела прижаться к нему, большому и сильному, но сделать первой движение к нему не было сил. Он прочитал ее желание и грубо привлек ее к себе, и дальше она уже ничего не помнила.
Очнулась она уже полуодетой; кутерьма в крошечном мини-купере ошарашила ее, она ехала домой с ощущением полного полета – так высоко она не летала даже в своих снах.
На платформе Ярославского вокзала Трубача ждала Скрипачка, удивленная его новым видом. Пьяный и весьма довольный, он подошел к ней и попытался ее обнять, она услышала новый запах, которым он окутал ее. Она уже поняла, что с ним что-то случилось, но спрашивать не решилась. Они сели в поезд, он сразу заснул на ее плече, потом его голова сползла ей на колени, ей было тяжело, но она не шевелилась всю дорогу до дома.
В доме, куда они доплелись со станции, Скрипачка раздела мужа, не включая света, уложила его на матрас и пошла стирать свой скромный наряд и его пыльные брюки и носки, которые за день на улице приходили в полную негодность.
На следующий день, проходя мимо, она оставила возле Трубача пакет с бутербродами и термосом с горячим чаем.
Она пришла к нему еще в обед и хотела его накормить горячим, но он не пошел: после обеда люди подавали лучше.
Вечером она опять пришла и уговорила его вместе поужинать, и они поехали опять в кафе, где они были вчера, все повторилось, включая финал, и она отвезла Трубача на вокзал, он вышел и исчез в толпе отъезжающих.
Опять Трубач и Скрипачка ехали домой, опять он спал, пьяный, у нее на руках, опять он рухнул пьяный на матрас. Она опять пошла стирать, запах чужой женщины не брал ее стиральный порошок, он душил ее вместе со слезами, которых она не сдерживала, Трубач уходил от нее, она это чувствовала. Скрипачка вчера посчитала деньги, на обследование осталось найти всего пять тысяч. Она уже звонила врачу, он готов принять Трубача с понедельника и обещал, что ногу можно спасти, если не затягивать.
До утра Скрипачка не спала, сходила на станцию, купила бутылку и выпила во дворе, перед их убежищем, долго сидела, вспоминая все, что было, все годы: хорошие и плохие, все, что он сделал ей горького и больного, но закончилась бутылка, и закончились воспоминания. И она пошла стирать все его вещи, готовила его, понимая, что если он поправится, то уйдет, а если нет, то, может быть, останется. Она с ужасом подумала, что, может, так будет лучше: останется с ней, но без ноги.
Нет, решила она, надо лечить, надо спасать ногу, надо спасать его. И сразу ей стало легче, просто наступила ясность, и Скрипачка пошла будить мужа. Пора было ехать в Москву.
До вечера Трубач не видел своей поклонницы, она целый день бегала и летала по Москве, решая проблему с его лечением. Все образовалось: у нее в сумке лежало направление в клинику, она все оплатила и ждала только вечера, чтобы сделать ему подарок, от всей своей трепетной и сокрушительно летящей души.
Вечером Трубач уже ждал ее, привык за два дня заканчивать день хорошим ужином и спонтанным сексом. В это время нога совсем не болела, Трубач желал этого времени, и оно наступало.
Они быстро доехали до кафе, Шерлок Холмс с портрета подмигнул Трубачу, посасывая трубку. Портрет тоже привык к этому славному посетителю, редко заходили сюда симпатичные и сильно пьющие люди, портрету не нравилась женщина, которая поила и кормила Трубача, портрет ревновал.
Пока Трубач пил, она достала из сумки конверт и вынула из него направление в платную клинику. Трубач прочитал, она смотрела на него, он молчал, потом выпил, пожевал груздь и сказал: «Спасибо».
Потом они ехали на вокзал, Трубач пошел на платформу, качался, полный водки и ожидания новой жизни. Он подошел и сказал твердо и непреклонно: «Я ухожу, езжай домой, мне ничего не надо», – отдал Скрипачке футляр с трубой. Скрипачка все поняла: концерт окончен, дуэта больше не будет, она опять станет солисткой.
Трубач повернулся и пошел на выход, у дверей его подхватила под руку какая-то баба. Они удалялись, держась за руки, и не хромали, поддерживая друг друга.
Скрипачка села в поезд и поехала назад в город детства. Утром она вернулась туда, где когда-то была счастлива. Только вагонная подушка услышала все, все слова и слезы она вобрала в себя, оставила в себе, освободив Скрипачку от этой напасти.
Рома и Юля, или Любовь и смерть в Веронеже
Аудиозапись урока русской литературы, проведенного «трудовиком» в лицее «Возрождение» с нестандартным подходом к образованию
- Нет повести печальнее на свете…
Эта история потрясла жителей Веронежа. Всего пять дней из жизни подростков Ромы и Юли захлестнули страницы таблоидов, и даже на базаре потом шептали, что это борьба двух кланов за крытый рынок, единственный источник налички в городе.
Дети двух благородных семей губернского масштаба полюбили в пятницу, а в среду их уже не стало…
Ромин папа возглавлял прокуратуру, а Юлин отец был авторитетным предпринимателем. Дети учились в лицее, но их половое созревание в разных компаниях происходило.
Рома в компании своих друзей Чука и Гека уже пробовал вино и легкие барбитураты, да и в любви имел первый опыт со студенткой-практиканткой, в чисто познавательных целях.
Юля была совсем невинна, жила под присмотром домработницы, заслуженного работника образования, уволенной за критику развала СССР либерастом – директором школы, избранным одурманенным педколлективом с нарушением демократических процедур.
Так она стала кормилицей-экономкой в доме своего бывшего ученика, который стал хозяином народной собственности в микрорайоне на окраине города.
Однажды две машины столкнулись на дороге, никто не хотел уступать, и повозка Х-класса сбила правоохранительному органу зеркало заднего вида. Налицо был разгул криминала, и водитель прокурора вломил помощнику авторитета по сусалам, потом вышли сами хозяева, потом жены их, и началось…
Только проезжающий по делам на охоту губернатор остановил весь этот беспредел, используя мат и жесткую федеральную вертикаль. Прокурор сначала возникать начал, но потом остыл, вспомнил, что против губера у него еще шишка не выросла.
Разъехались, но обида осталась, никто никого прощать не собирался, кто-то должен был ответить за наезд, и ответ не заставил долго себя ждать.
В тот же вечер в клубе «Крыша» проводили Хеллоуин. Этот клуб держал Борис фон Рабинович, старый змей из бывших расхитителей социалистической собственности – известный эротоман, он недавно овдовел и искал игрушку для низких страстей себе и своему приемному сыну визажисту, арт-директору SPA-салона «Парис».
Юлин папа извращенцев не одобрял, но в «Крышу» Юле разрешал ходить: там не было наркотиков и фейсконтроль осуществлялся силами ветеранов спецподразделения «морские котики», которые по четвергам проводили в том же клубе программу для дам по крейзи-меню.
Роме и его друзьям вход в клуб был заказан, но в тот вечер, укрывшись плащами и масками, они проникли в стан врагов с желанием учудить какую-нибудь байду.
В зале было потно и жарко, брат Юли Dj Тима с тыквой на голове крутил на вертушке миксы из «Депеш мод» и «Ласкового мая», Чук и Гек – продвинутые по музону парни – возмутились и дали ему по тыкве. Рома не вписался, он уже плыл в неизведанные дали. В зал, шелестя плащом, вошла незнакомка.
Так и произошла встреча двух любящих сердец, легкая пикировка, коктейль «Оргазм» – и Рома потерял голову, а Юля разбила свое сердце, да так сильно разбила, что пришлось вызывать платную «Скорую», но врачи не помогли. Их специализацией было снятие ломки, передоза и запои. Сердце так и осталось разбитым.
Глубокой ночью Рома пришел подшофе к коттеджу предпринимателя и встал под балконом. Юноша был в смятении и стал читать Юле стих Мандельштама:
- Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
- Уронишь ты меня иль проворонишь,
- Ты выронишь меня или вернешь, —
- Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож.
Юля по малости своей такого не знала и приняла стишок за дурное предзнаменование. Кормилица совратила ее эзотерикой и мистикой, и Юле показалось, что случится страшное. Она убежала с балкона в слезах, бормоча: «Воронеж – х… догонишь», – она слышала это от папы своего, когда он скрывался, находясь в федеральном розыске.
На следующий день в пивном баре «Свинья» столкнулись две бригады, слово за слово, х. м по столу, и в первом раунде Тим засадил отвертку в Чука, и все разбежались, не допив местный бренд-коктейль: пиво «Ништяк» с водкой «Маруся».
Тим скрылся. Рома в ярости, он сел в свою коцаную «беху», нашел Тима на даче у местной модели «Сиськи 2008 года» по версии глянцевого таблоида «Круто» и завалил его из именного «стечкина», подаренного папе министром МВД за борьбу с оргпреступностью в регионе.
Рома прих. ел, когда понял, что его не спасут ни прокурорские, ни судейские, и решил скрыться у своего тренера по метанию молота Лоренцова, в миру Лоренцо, ныне монаха, живущего отшельником на кладбище в склепе купца Калашникова – местного Третьякова-Мамонтова, убитого большевиками за его благотворительность на деньги, украденные у трудового народа зимой 1918 года.
Юля, получив эсэмэску от Ромы, позвала его к себе, и два часа они прощались без надежды на новую встречу. Рома был безутешен и великодушен, все обошлось легким петтингом (есть и более радикальные версии).
Еще раз пробив поляну, Рома понял, что надо валить, пока все стихнет. Он уехал в город Грязь, где затаился в пансионате для ветеранов ФСБ.
В городе все в напряге, фон Рабинович (с ударением на втором слоге, на балканский манер) настаивал на помолвке с его сыном визажистом, Юля плакала и просила отложить, но отец настаивал, хотел, чтобы визажист увез ее из города до большой стрельбы с прокурорскими.
Юля плакала на плече кормилицы, и у нее родился план спасения.
Случайно в сумке своей няни нашла клофелин, который старуха отобрала у своей троюродной внучки, приехавшей работать на рынке с парой джигитов – на ниве воровства с применением психотропных средств.
Юля слышала, как джигиты во дворе инструктировали внучку-вонючку, и поняла, что может заснуть на время и разрушить зловещий план.
У внучки с джигитами не срослось, их приняли менты, а внучка успела соскочить и уехала, сбросив препарат бабке в сумку на всякий случай.
Подготовка к свадьбе шла полным ходом, монах-метатель Лоренцо взял на себя смелость венчать выкреста и гея с девой непорочной вопреки воле епархии. Юля в белом платье приняла клофелин и заснула с улыбкой на устах. Семья в шоке, монах в шоке, Юля в коме.
Юлю отвезли в фамильный склеп, и она осталась там на ночь с монахом Лоренцо, который читал над ней Шекспира в переводе Щепкиной-Куперник.
Лоренцо уже послал Роме эсэмэску, но она не дошла из-за козней местного сотового оператора, только малява через одного баклана доехала до Грязи, и Рома узнал, что любовь его здесь больше не живет, как поет певец Сташевский.
Рома вылетел в Веронеж не на крыльях любви, а на парусах отчаяния, в бардачке его «бехи» три бутылки паленой водки, которую все в округе называют «Смерть пришла». Рома хотел принять ее у гроба невесты и умереть с ней в один день. На въезде в город его тормознули менты, но он отмазался одной бутылкой, несмотря на федеральный розыск, любовь победила коррупцию, и у оборотней в погонах иногда есть сердце.
Рома вошел в склеп и ослеп от горя, по ходу он завалил визажиста, который терся у дверей с неясными целями. Рома исполнил его отверткой и остановил некрофила-извращенца.
Девочка лежала в гробу, ее лицо, подобное розе утренней свежести, поразило Рому. Он сел на корточки, как восточный человек, и стал пить-поминать свою любовь.
После первой бутылки Рома запел, раз десять спел «Районы, кварталы, жилые массивы, я ухожу, ухожу красиво…»
После того как он допил до половины вторую, у него начались глюки из видеоклипа на песню группы «Бумбокс», и Рома упал со словами: «Белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое, кто мы и откуда…»
Он захрапел, в склепе стало тихо, время дьявола наступило, в такие часы, как правило, засыпают даже охранники на атомных станциях.
На заре в могильном склепе почудилось робкое шевеление. Движение исходило от цветов, в которых утопала Юля.
Она открыла глаза. В голове шумело. Рядом лежал ее Рома, он не дышал. В воздухе стоял тяжелый дух метанола, рядом валялась бутылка, недопитая Ромой.
В склеп вбежал Лоренцо, увидел Юлю и вызвал «Скорую».
Юля, у которой была аллергия на бухло, выпила содержимое бутылки и упала раненой птицей рядом с Ромой. Глаза ее закатились, аллергический шок и внезапная смерть. Звук падения разбудил пьяного Рому, он проснулся, надеясь, что уже в раю и они уже соединились с Юлей.
Но организм сообщил Роме, что это не рай. Рома выбежал из склепа и понял, что он остался один на этом свете. Взял испачканную кровью визажиста отвертку и ударил себя в самое сердце, вложив в удар все свое отчаяние и нечеловеческую силу любви.
Все кончилось…
Их похоронили рядом, обе семьи плакали вместе. Так смерть примирила враждующие дома. Еще долго в городе люди говорили. «Нет повести печальнее на свете…»
Смерть двух подростков имела большой резонанс: сняли министра за просчеты в народном образовании, история попала в «Пусть говорят», Андрей Малахов все рассказал лучше Шекспира, вся страна плакала. Малахов в финале уронил притворную слезу на ухоженную небритость и получил ТЭФИ.
Горячая новость в ООО «Снасти»
На следующий день после общего выезда на ВИП-озеро для тест-драйва, устроенного фирмой – поставщиком нового спиннинга на базе нанотехнологий, произошло невероятное. Спонтанно образовались две пары: Гайфулина – Горелов и Журавлева – Галкин.
Вся фирма разглядывала фотографии неизвестного папарацци, который запечатлел, как Горелов умчал на своем байке Гайфулину и как Галкин кормит Журавлеву с руки малиной из магазина «Глобус Гурмэ».
Коллектив кипел, до этого ничего подобного не было, когда-то давно – ветеран компании Барташев сквозь зубы говорил про это – в Пензе, в далеком 96-м году, региональный руководитель «Снасти-Пенза» поймал на свой крючок мелкую рыбешку из бухгалтерии, и фото их рыбалки передали крупному карасю из налоговой, который числился мужем попавшейся на крючок.
Вышло крайне некрасиво: карась и пара его дружков (жестких щук из местного РОВД) оторвали рыбаку блесну и заодно набили ему морду по самые жабры.
Но в центральном офисе такой заразы сроду не водилось, а тут сразу два случая, почти эпидемия; офис гудел.
Гайфулина и Горелов на работу не вышли, на звонки не отвечали, что-то явно случилось. В обед все открылось: они попали в аварию. Что сделала Горелову Гайфулина по дороге, никто не знал, но авария была, следы ее зафиксированы на лице Гайфулиной и даже на коленях.
Она приковыляла после обеда и сказала, что их подрезал кто-то, но не все поверили. Горелов лихо водил байк, и его подрезать было невозможно. Тут крылась какая-то тайна.
С парой Галкин – Журавлева все было более-менее понятно. Журавлева вышла на работу, но молчала, как Зоя Космодемьянская во время пытки.
Ее беспокоить никто не посмел. Она была руководителем и свободной женщиной. То, что она выбрала Галкина, всех слегка удивило: он был ниже ее ростом (и на социальной лестнице тоже), она считала себя православной, и мезальянс с человеком Ветхого Завета, тем более с женатым, ее не красил, духовник тоже не одобрил бы ее.
Но до воскресенья было далеко, и она собиралась согрешить еще пару раз, а потом покаяться.
Галкин ничего об этом не знал, он лежал дома с пивом и переживал жуткий подъем. Во время выезда на природу в нем взыграло ретивое, и он посмотрел на Журавлеву через призму литрового «Белого золота» и нашел новые грани в Журавлевой, ранее не замеченные.
Журавлева выбросила истерзанную подушку, смыла с себя товарища по работе и пошла на службу летящей походкой. Переполненная тестостероном сотрудника ООО «Снасти», ловца душ и тел, менеджера среднего звена Галкина.
У другой пары, Гайфулина – Горелов, ситуация была сложнее; Горелов лежал в больнице, Гайфулина страдала на расстоянии, в больницу ей было нельзя: там жена и теща Горелова в суточном режиме, сменяя друг друга, выхаживали его. Гайфулина писала длинные смс и выплескивала словами свои эмоции, накопившиеся после падения с байка.
Она писала Горелову, что это головокружительное падение изменило ее жизнь, она в полете поняла, что лететь по жизни лучше, чем прозябать в ожидании неизвестно кого, в мечтах…
Она через смс все поведала ему о своей жизни: о том, что детство у нее было непростое, все сама, училась, работала, каждый шаг по жизни стоил усилий, все пытаются залезть в трусы и душу, а она хочет любви, и вот она пришла, но как снять барьеры и мышеловки, расставленные судьбой?
Горелов попросил прийти в 21 час, когда режим ослабнет, и он прихромает на служебный вход и выйдет в садик, подкупив охрану клиники десятью парами бахил, которыми они приторговывали.
Она пришла в назначенное время, взбудораженная предстоящим.
На крыльце стоял Горелов в спортивном костюме, с ногой, закованной в гипс, в руках его блестел никелированный костыль, при луне он выглядел самурайским мечом, и Гайфулиной даже стало страшно. Но вспомнив, как Ума Турман билась за свое счастье во второй части «Убить Билла», Гайфулина бросилась на крыльцо навстречу судьбе.
Горелов одной ногой и рукой увлек коллегу за бойлерную. Он еще днем провел разведку предполагаемого сражения и высмотрел чудесную нишу, где должны были развернуться основные события.
Гайфулина отдалась воле чувств, Горелов и с одной ногой управлялся неплохо, он управлял Гайфулиной, как байком на сложной трассе, и они вместе доехали до финиша, да так здорово миновали финишную прямую, что Горелов даже потерял равновесие и упал от изнеможения, сломав при этом вторую ногу, запутавшись в брюках.
Гайфулина как кризисный менеджер сразу пришла в себя, организовала транспортировку партнера в хирургическое отделение с помощью коррумпированных охранников и исчезла до приезда родственников Горелова.
Две сломанные ноги на время остудили чувство Горелова, и он замер на больничной койке с двумя гирями, а Гайфулина уползла в свою раковину, где и пребывала в соплях и расстроенных чувствах.
Офис накалился от созерцания этого сериала. Пара Журавлева – Галкин вызывала больше сострадания и живейшего интереса, Журавлева ходила с гордо поднятой головой, с синяками под глазами от сладкого изнеможения и даже на время потеряла контроль за уровнем реализации снастей, продажи упали, а самооценка Журавлевой достигла пикового уровня.
Руководитель ООО Пряжкин заметил нездоровые тенденции в коллективе, вызвал своего верного помощника Савраскину, и она в деталях обрисовала коллизию, взволновавшую коллектив. Коллективу грозила беда, и босс разрядил ситуацию. Он отправил Журавлеву в Пензу пощупать региональное отделение. Она вяло посопротивлялась, но поехала. Прощальная ночь с Галкиным накануне командировки была упоительна. Галкин, сославшись на милицейский произвол, не пришел домой и дал Журавлевой незабываемые эмоции, и себя не обидел. Журавлева оказалась такой Марьей-искусницей, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Она показала Галкину экстра-класс, он даже и не подозревал, что она такая мастерица. Она знала, что может дать больше, но Пенза стала на пути в страну Камасутры.
Горелов лежал прикованный к постели, обе ноги закованы, рядом жена, готовая убить за приключения своего Казанову.
Нянечка, подкупленная ею, донесла на него в деталях и даже показала жене нишу за бойлерной, где Горелов сломал ногу и свою семейную жизнь. Жена решила подождать, пока он встанет на ноги, а потом убить его своими руками. Но пока она его выхаживала и кормила, как гуся на фуа-гра.
Фотографию Гайфулиной она нашла «В Контакте», распечатала и сожгла на курином помете, предварительно выколов сопернице бесстыжие глаза и отрезав ноги по самое не могу.
Гайфулиной видеть своего любимого было нельзя, и она рыдала на рабочем месте, перелистывая свои воспоминания о встрече за бойлерной, не скрывая слез, бродила по офису, рассказывала всем желающим свой план создания семьи и показывала УЗИ ребенка, так похожего на Горелова.
Жена Горелова ушла покурить, и Горелов послал смс своей партнерше по членовредительству, что он все понял и больше им не надо встречаться, слишком много жертв, не стоит испытывать судьбу.
Вечером в офисе был юбилей главного бухгалтера; накрыли, как всегда, в зимнем саду, напились быстро, начали играть в фанты: главный заказал Гайфулиной танец на столе – он видел это на Кипре десять лет назад, и ему понравилось.
Гайфулину упрашивать не пришлось, она сама залезла на стол и всю страсть брошенной женщины вложила в танец. Она ловко переступала через блюда и салаты и танцевала соло раненой птицы из Красной книги, подстреленной браконьером.
Все онемели, боялись смотреть, отводили пьяные глаза, только Галкин смотрел не отводя взгляда. Птица сама летела в силки, она устала и упала в руки Галкину. Все поняли, что в финал вышли Галкин и Гайфулина, завтра будет что обсудить.
Письмо Анне Чепмен
Дорогая Анечка!
Позвольте мне, старику, Вас так называть, потому что мой возраст и плохая память позволяют мне причислять к своим всех, кто моложе меня, обращаться уменьшительно и ласкательно.
Ваша история потрясла меня, она даже перепахала меня, как осеннее поле, полное несжатых злаков, нахлынули разные мысли, которыми я хочу с Вами поделиться, выплеснуть, так сказать, все хорошее из себя и истребить в себе все стыдное, коего в каждом из нас немало.
Я среднестатистический пенсионер с пенсией в три тысячи рублей, но обожаю искусство.
Жить на три тысячи рублей и при этом никого не убить – подлинное высокое искусство.
Сделать грешное мне мешает только природная лень – так я думал раньше, а теперь оказалось, что это совсем не лень, оказалось, что я латентный даос и практикую это учение на подсознательном уровне.
Я выяснил, что в последнем воплощении я был шаолиньским лазутчиком, а до пенсии работал на доверии в лаборатории внезапного выброса газов на улице Сторожевой в Лефортове, в Институте низких частот высокого напряжения, аффилированном с газовой отраслью.
Много газа испустили мы для своих опытов – и ничего не открыли, но отрицательный опыт в науке – тоже результат, как говаривал мой руководитель – единственный кандидат наук Либерман в нашем академическом гнезде, попивая кофе «Ячменный колос» с размокшими сухариками «Звездочка».
Так мы добрели с Либерманом до пенсии, и он тупо уехал к внучкам к пустыню Негев, где успешно охраняет стоянку поливальных машин, с пенсией, достойной жизни даже в цветущей долине.
Ну, бог с ним, с Либерманом, он и здесь был говном, и я ему не раз жестко и резко, по-партийному, врезал при распределении праздничных заказов – он всегда брал себе пакет с черной икрой и красной рыбой, оставляя мне непрестижную красную икру и белую рыбу неизвестного происхождения.
Говно этот Либерман и предатель, член КПСС, а сбежал после путча в 91-м, а я из-за него в партию не попал. Он попал, сука, по квоте для нацменьшинств, а я, представитель титульной нации, не попал в партию и всю жизнь просидел за его спиной, даже в Болгарию не съездил по льготной путевке. Я не антисемит, но все-таки они очень противные.
Желание работать в органах у меня появлялось два раза, в первый раз после армии я встретил на Птичьем рынке своего однокашника Беляева, который синел в лучах осеннего солнца мундиром капитана ОБХСС и сверкал золотым шитьем погон, ослепляя меня эполетами и ботинками югославского производства, в них отражалось даже небо.
Я сразу забыл, что пришел купить себе мохнатого друга, и увлекся Беляевым. Он, кусая дефицитную в ту пору вафлю «Лесная быль», сквозь зубы доложил мне, что кушает он в ОБХСС неплохо, оклад, форма, бесплатный проезд, щенки и попугайчики бесплатно (он курировал Птичку), и корм имел неплохой.
–Иди к нам, – вальяжно сказал мне тогда Беляев и ушел собирать подать с продавцов мотыля.
Я загорелся и утром, даже чаю не попив, двинулся в отдел кадров районного УВД.
За дверью с табличкой «Начальник» меня весело встретил полковник с глазами уставшей совы. На правой руке у него, на костяшках пальцев, синела наколка «Коля». Я крайне удивился: на табличке перед кабинетом чернело на белом «Каблуков Евгений Сильвестрович». Я сверил с наколкой – выходила хуйня. Для корректности я просто обратился, как в армии: «Товарищ полковник, хочу служить Родине в подвалах Таганского гастронома и там, среди копченостей, окороков и охотничьих сосисок, изводить, как крыс, расхитителей социалистической собственности».
Я сказал, полковник услышал, потом я подал свои бумаги, мне сказали зайти через неделю, и я ушел, переполненный ожиданием и половой энергией, накопленной в армейских буднях, как масляный конденсатор из приемника «Ригонда» рижского радиозавода.
Девушка моя оказалась дрянью, не дождалась своего сокола из войск мотострелкового профиля и стала открыто жить с мясником Рогожского рынка за вырезку и мозговые кости для моей бывшей собаки. Я не Карацупа, и своего Мухтара оставил девушке, чтобы он не скучал и заодно присматривал за невестой, но пес мой тоже скурвился и поменял меня на кости и стал лизать сапоги новому хозяину, как полицай в период немецко-фашистской оккупации. Все они суки, скажу я Вам, Анечка, и причем продажные, но сейчас не об этом.
Когда я пришел за ответом, полковник «Коля» был невесел. Он сухо сказал мне, что я не прошел проверку, и таких нечистоплотных людей во внутренние органы не берут.
Я сразу понял, на что он намекает: я погорел на письке Куликовой.
Детская шалость в трехлетнем возрасте стала стеной между мной и органами. Сдал меня, конечно, Мартынов, в этом сомнений не было, севший первый раз за зоосексологию в колонию для малолетних, за зверские опыты по опылению одной хохлатки из курятника Порфирьевны, ветерана НКВД-МГБ-МВД.
Покушение на изнасилование хохлатки посчитали нападением на внутренние органы, и Мартынов ушел в колонию по тяжелой статье.
Там он и рассказал следствию о нашей детсадовской троице.
Я в три года полюбил Куликову всем сердцем, на прогулке я нашел ягодку-земляничку и вставил Куликовой в сокровенное место, а Мартынов, мой враг и соперник, скрытно подполз и жадным ртом съел ягодку и заодно убил мою любовь, я стал третьим лишним. Так я научился считать. В тот раз меня впервые не взяли в органы, я остался на обочине, как улитка на склоне.
Как меня не взяли второй раз, я напишу позже, устал я сегодня, разбередили Вы меня, Анечка…
Латентный даос, пенсионер Рувим Кебейченко.
дорогая анечка!
я продолжу свою илиаду, в смысле одиссею моей второй попытки вонзиться в органы и исполнить свою заветную мечту.
Я и раньше в те сладкие советские времена следил за своей Розой, так просто, для навыка, повода она не давала, хотя один раз было.
Сейчас, когда дети выросли и меня с ними связывает только кредитная карта, я признаюсь вам, что один раз я ее поймал.
Вы не удивляйтесь, это было у нее с Либерманом – моим начальником, научным соратником и конченой тварью. Мы сейчас, конечно, с ним не пересекаемся, я живу, как и раньше, по Эвклидовой геометрии, а он всегда жил по геометрии Лобачевского, и наши параллельные прямые (тогда он еще маскировался под советского человека) пересеклись на диване, в гостях у Кирилюка, начальника нашего Первого отдела, который отмечал полувековой юбилей в своей новой квартире на улице Почтовой.
Нас с Либерманом он выделял как интеллигентов, хотя какой, на хер, Либерман интеллигент, так, «образованщина», все по верхам: немножко Северянина знал, Галича пел домашним голосом и на десерт мог прочесть наизусть два стиха Мандельштама, и все…
А вот моя Роза, хотя и работала дефектологом в детском саду, была выпускницей техникума культуры в городе Кинешме.
Она по праву считала себя опорой духовности со времен Киевской Руси, и я с ней был согласен, как не согласиться.
Из консерватории не вылезала, могла «Тамань» прочитать на одном дыхании, вот какая у меня была Золотая Роза, но попала в сети этого таракана Либермана, повелась на Северянина и песенку про гражданку Парамонову, так и взял он ее за живое, псевдодиссидент липовый.
Роза и повелась и прилегла у Кирилюка в кабинете, когда он сети свои расставил, а я в неведении был, в шахматы играл с Кирилюком, в блиц, с форой. У Кирилюка на зоне один мастер сидел, сектант из Литвы, так там он его надрочил «—е2-е4».
Так вот, захожу я в спальню, запах Розы меня привел, как слепого Аль Пачино, захожу после поражения 12:10 и вижу, как Роза грудь вздымает, а она волнуется, как Черное море, юбки уже нет, Либерман ужом вьется. Я ему говорю, как достойный джентльмен: «Их мусс» (Я должен, но ты?). Либерман все понял, он идиш знал, а Роза сознание потеряла, но я ее простил, она под наркозом была, жертвой стала этого «Вольфа Мессинга».
Хотел уволиться, а потом подумал и не стал, буду я место терять в академической среде из-за всякой дряни.
А Роа, ласточка моя, после этого крестилась и покаяние получила от модного батюшки Геннадия, который служил в Леонтьевском переулке, ныне улице Станиславского. Смешно даже, он кричал: «Не верю!» – а на нем храм стоял, чудеса!
Ну ладно, это лирика, а дело так было.
Я на ночь взял Тору у либермана. Он удивился, но дал; думаю, у него задание было от ихнего Моссада – вербовать незрелых неофитов, некрепких духом.
Почитал я на ночь, чушь какая-то, любят эти евреи все запутать, заснул, а книга эта ихняя так меня ударила по переносице, что залился я юшкой красной.
Роза – воробышек мой. Чуть кровь остановила йодом и порцией «Тамани», чуть заснул, как стало мне сниться, как Авраам родил Якова, а потом Иов в ките приплыл, и я проснулся после такого кошмара и до утра не заснул, только глаза закрою – опять Адам с лицом Либермана мою Розу Евой называет и в сад зовет, тут кто заснет, только зверь дикий, а у меня душа тонкая, как наночастица, скажу вам, Аня, откровенно, вдруг понадобится мятущаяся душа делу нашему справедливому.
Через неделю меня озноб бить начал, не звонит Каблуков, целую неделю не звонил, я уже все передумал, может, в Центре какая заминка, может градус международных отношений изменился?
Оказалось проще простого: Каблуков позвонил и сказал, что картошку ездил копать на Брянщину, мамке помогал заготовки делать, и назначил встречу на конспиративной квартире в гостинице «Северной» на Сущевском Валу.
Десять капель бергамота
В английской традиции файф-о-клока в чай добавляют ровно десять капель бергамота. Такая точность в рецепте многое объясняет в ментальности британцев.
Я сам видел в отеле «Ритц» на Вандомской площади Парижа, как потомок Кромвеля, благообразный господин, пил послеобеденный чай из гомеопатической чашечки и выговаривал бармену за то, что он по французской безалаберности перенасытил его чай на две капли ингредиента, и бармен извинился, искренне не понимая существенной разницы в две капли.
Мой товарищ по путешествию – в прошлом мини-олигарх, который в этом отеле прожил три миллиона долларов в тучные времена, – сказал мне, что в свое время, когда он был лучшим гостем системы «Ритц» и давал чаевые в размере стоимости сьюта, он научил местного повара делать картофельное пюре и подавать его на гарнир к фуа-гра со свежим репчатым луком на завтрак с литром водки – и в этом наш особый путь.
Богатые люди новой России иногда ведут себя как нашедшие кошелек: первое ощущение нечаянной радости, потом, когда оглядятся по сторонам и убедятся, что погони не будет, содержимое присваивается, и уже кажется, что ты всегда был умным и богатым. А те, кто не успел поднять кошелек, просто лохи, не умеющие использовать свои шансы в рыночной экономике.
От беспокойства за свое добро все беды. Каждый хочет отнять, тут и государство с карающим мечом, и неформальные силовики, все норовят отнять и радость обладания отравить, вот и не пьется «Шато марго», и омар в рот не лезет на Лазурном Берегу.
В лондонском дворце, в горном шале и тысячеметровом доме на Николиной горе холодно и мрачно; комнат много, а не уснешь, детей филиппинские няньки водят, по дому в трусах не погуляешь.
Толпа обслуги из посторонних людей мелькает, пукнуть невозможно, жена волком смотрит, следит, а сама спит по очереди с водителем и тренером по йоге.
Любовница заколебала – дрянь малолетняя, толку от нее немного, а все дай-дай, сам мучаешься, кого любит она, тебя, плешивого, или кошелек твой – ее эрогенная зона.
Деньги твои далеко, в офшорах, в бумагах, то ли есть они, то ли дикий ковбой Доу-Джонс унес их, скрывшись в песчаной буре. Вчера ты был на коне и стоил восемь, а сегодня ты улетел и карты твои заблокированы, и нечем заплатить за сено в личной конюшне…
И оказывается, что платить надо, кругом сплошной маржин-кол по всем направлениям, и сидишь ты на кухне для прислуги, и сам варишь себе сосиски, такие вкусные с кетчупом, и пьешь пиво «Очаково», как когда-то в общаге на Лесной, и смотришь по маленькому «Шилялису», как рухнули последние твои бумаги на бирже азиатского дракона.
Мне могут сказать, что это зависть и злорадство, классовая ненависть и прочее.
Но это совсем не так. Как же хорошо спится в двушке в Митино после зарплаты! Ты едешь в метро и гладишь через карман свои законные 25 тысяч рублей – и это только аванс, а завтра ты сам на своем поношенном «пассате» поедешь за сто километров по Горьковской дороге на свою «фазенду» и будешь лежать все выходные.