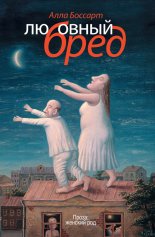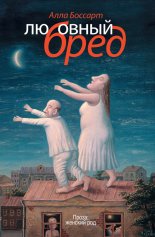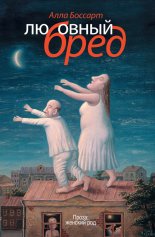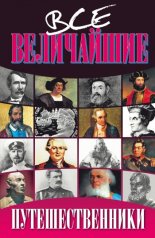Рассказы вагонной подушки Зеленогорский Валерий

Читать бесплатно другие книги:
Мирное существование далекой звездной колонии Авалон нарушено угрожающим инцидентом – неизвестные ко...
Эта книга посвящена людям, жившим в разные времена в разных странах. Но они были одержимы дерзким ст...