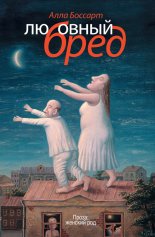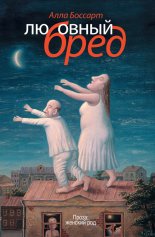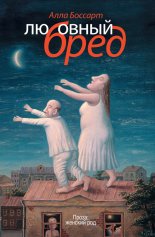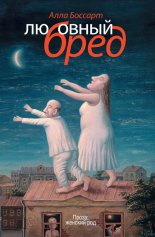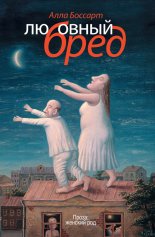Секретные поручения 2. Том 2 Корецкий Данил

– Вот на пятнадцатом километре зайдут милиционеры, и мы разберемся, кто им друг, а кто враг… Так что плати, пока не поздно.
Сработало. Кирьян стушевался, заулыбался неуверенно, на морде испуг проступил. С милицией ему и вообще связываться не с руки, а особенно сейчас. Потому что под курткой у него спрятана деревянная дубинка, украденная в кабинете прокурорском. Да он еще там и в горшок нассал. Как после этого им звонить?
– Так эта… Я ж и говорю… А кто отказывается-то? Ты толком скажи сперва, а потом уже жалуйся!
Но тут неожиданно вмешался толстомясый.
– А кто сказал, что он без билета? – рявкнул. – Я видел, он покупал у тебя билет. Ты деньги взял, а теперь пристаешь.
– А твое какое дело? – повернулся к нему кондуктор. – Пусть предъявит, раз покупал!
– А он потерял, – нахально парировал толстомясый. – Это же хлев, а не автобус! Я вон сам половину пуговиц здесь посеял!
– Пуговицы твои меня не волнуют. Без пуговиц ездить можно, а без билета нельзя. У всех должен быть билет. А твой-то где?
– А я тоже потерял, – ухмыльнулся толстомясый.
– Он тоже потерял, слышь, эта!.. – встрял Кирьян, почувствовав поддержку.
– Ладно, – сказал Иван Степанович. – Хорошо. Сейчас зайдет милиция, со всеми разберется.
– Вот пусть тебя первого и проверят! – продолжал Кирьян. – Ты ж, гад, деньги берешь, а билеты не даешь! Я ж видел! И другие подтвердят!
– И подтвердим, – согласился толстомясый.
– И это ж надо, по десять рублей с человека драть! – взвизгнула сзади пенсионерка. – Раньше за пять копеек можно было на край света уехать, а теперь… Совсем стыд потеряли!
– Да они с потолка цифры эти берут, – бросил хмурый семьянин. – А потом особняки себе строят. А такие как этот, – он кивнул на Ивана Степановича, – у них на побегушках. Шавки злющие.
– Что ты сказал? – оскорбился Иван Степанович. – Кто шавка?
– Ты шавка, – подтвердил толстомясый. – А че, не так? Ты трудовой народ угнетаешь!
Он толкнул кондуктора в грудь.
– А ну-ка, убери руки! Я на должности! Смотри, будешь в тюрьме париться!
Еще сильной рукой Иван Степанович схватил толстомясого за воротник. Однажды безбилетный хулиган ударил его в ухо, так ему три года дали! За нападение на представителя власти!
В салоне возникла раздраженная суета, сопровождаемая громким пыхтеньем и взаимными оскорблениями. С кондуктора слетели его толстые очки и вытертая кроличья шапка, он получил удар в оголенное темя, наугад ответил, попав в чье-то лицо. Он хотел крикнуть, чтобы остановили автобус, но тут шапка его быстро нашлась и ее надели ему прямо на лицо. Потом последовал еще один мягкий, но крайне увесистый удар, и время обрело вязкость и пористость, как густой сироп, тянущийся за ложкой. И когда кондуктор наконец сумел подняться на ноги и снять шапку, мешавшую дышать, он увидел вокруг себя суровые и озадаченные лица пассажиров.
Бомж и толстомясый исчезли. В динамике звучал голос водителя: «Остановка Прошино, следующая – Котельное», а где-то совсем рядом слышались всхлипы. Зловредная пенсионерка полулежала-полусидела в кондукторском кресле и, плача, указывала на него пальцем:
– А ударил-то – как убить хотел, фашист!.. За что, спрашиваю? За то, что я, старая, без билета езжу?
– Ты чего это? – поинтересовался кто-то у кондуктора. – Совсем, что ль, мозги на своей работе потерял?
Иван Степанович понял, что случилось невероятное, и в этот раз бомжара обыграл его по полной программе.
* * *
От остановки до Дунькиного дома, стоящего на отшибе за деревней, – километра три. Кирьян шел вдумчиво, не торопясь. Вспоминал, рассуждал, прислушивался и принюхивался к себе, наблюдал за собой со стороны. И удивлялся. Это был какой-то новый, другой Кирьян. Сердце еще колотилось после стычки с кондуктором, а он уже пил с толстым на станции – толстый угощал! – и общался за жизнь, и толстый говорил с ним уважительно, как с равным, хотя у него куртка из искусственной кожи, а на голове – настоящий кролик… Да, а несколькими часами ранее он пил в кабинете следователя-важняка, который даже не мент участковый, и даже не майор из местного РОВДа, а… Важняк, короче. Важняк. Звучит, а? Раньше такие типы на него и внимания не обращали. Теперь – обращают. Что-то переменилось. Теперь у него и документ в кармане охранный. Раньше вообще никаких документов не было, только штрафные квитанции и повестки…
И вот идет Кирьян домой, еще не зная точно – он это или не он. Посмотрел вниз: там мелькают попеременно две знакомые ноги в выцветших штанинах и стоптанных ботинках, рядом с ними маятником болтается набалдашник деревянной дубинки. В карманах табачная крошка и несколько смятых десятирублевок. На покрасневших от мороза руках – цыпки. А в руке бита, поцарапанная изрядно, но вполне пригодная. Это он, вне сомнения. Идет к себе домой, вернее – в Дунькин «мотель», уже несколько лет как ставший его домом. Но теперь он совсем другой! Может, в лице что-то поменялось? Кирьян потрогал давнюю щетину на щеках, подбородок с ямкой. Все на месте, все как было. Это он, Кирьян. Хотя… Нет, погоди, не Кирьян. Кириченко Анатолий Олегович. Во как.
– Что вы думаете об этой жизни, Анатолий Олегович? – спросил он сам себя.
А что, звучит. Анатолий Олегович.
– Думаю, что моя жизнь как бы эта… Она вся еще спереди, – ответил он сам себе.
Да, что-то определенно поменялось.
* * *
– Плевать мне на твои документы. Сунешь под дверь сто десять, тогда пущу, – зевая, ответила из-за двери Дунька. – Сорок за вчера, сорок за позавчера и тридцать, что у Макарыча брал.
Дверь была латаная-перелатаная, как и вся хибара. Рядом валялось полено – им подпирали дверь, когда Банан выломал замок.
– А если нету? – поинтересовался Кирьян.
– Да пошел ты, – без интереса ответила Дунька удаляющимся от двери голосом.
– Ладно! – крикнул Кирьян. – Отдам! И две поллитры сверху! Я сегодня эта, сделку поимел! Открой, слышь!
Он несколько раз грохнул кулаком по двери. Тихо. Потом заскрипели половицы. Дунька возвращалась.
– А ведь врешь, – сказала она.
Но дверь не открыла. Дунька Мотельщица была на редкость проницательной женщиной. Закончившая в лучшие (и очень далекие) свои годы техникум связи, она считала Кирьяна существом, находящимся у самого подножия эволюционной лестницы, чем-то вроде червяка.
– Ты ж, Кирьян, даже не знаешь, как пишется слово «сделка», – язвила она с той стороны. – Через «сэ» или через «зэ»?
– Через «фэ», – покорно ответил Кирьян. – Открывай, Дунька.
– Кидай деньги.
– Денег нету, соврал я, – сознался Кирьян.
– Иди тогда на свалку ночуй.
– Да ты что? Разве я конченый? Какая свалка? Я на эти деньги две поллитры купил. Вот они: одна в левом кармане, другая в правом.
– Предъяви.
– А ты открой. Я ж под дверь бутылку не суну.
Это было сказано умно. Дунька задумалась. Но она тоже была не лыком шита, и голова у нее работала.
– Хорошо. Поставь на снег и отойди. – Она громко, с подвыванием, зевнула, демонстрируя полнейшее равнодушие к спиртному. – Я гляну. Если не соврал – пущу.
– Поставил, открывай, – хитроумно выдержав паузу, негромко сказал он. – Смотри, только не обмани.
Дунька приоткрыла дверь. За неполным полукругом расчищенного дверью снега высился белоснежный вал, в котором замечательно смотрелись бы две прозрачные бутылки «Пшеничной» с буколическими желто-зелеными этикетками. Но бутылок почему-то не было. В стороне, что ль, поставил? Дунька, досадуя на бестолковость Кирьяна, высунула голову, и тут же на нее обрушился тяжелый и беспощадный удар.
…Кирьян вошел в комнату и включил верхний свет. Здесь было душно и смрадно. Десяток тел раскиданы по полу, на скамьях и обшарпанной печи. Макарыч, Вологда и еще кто-то – новобранец, похоже – за столом при свете керосиновой лампы играли в «очко». Это Дунькины «пансионеры». Кто-то жил здесь подолгу, кто-то приходил перекантоваться на ночь. Это была его большая семья. И, видно, пришла пора показать, кто тут батька.
– Э-э, ты че? – поднял голову Вологда.
Макарыч проследил за его взглядом, увидел окровавленную биту в руке Кирьяна и, тихо присвистнув, стал складывать карты. Кирьян подошел к столу. Поставил биту стоймя, прислонив ее к стене утолщением вниз. Потом полез в карман и вытащил оттуда две официальные бумажки. Обитатели «мотеля» притихли. Они боялись бланков и печатей еще больше, чем биты или железной трубы.
– Читай, Макарыч! – приказал Кирьян. Тот, запинаясь, прочел.
– Ясно теперь, какая у меня «крыша»? – строго спросил свидетель Кириченко.
Все изумленно молчали и смотрели на Кирьяна так, будто на плечах у него были пришиты офицерские погоны.
– А теперь смотрите сюда! – Он снова полез в карман и извлек пачку смятых банкнот. Среди пестрых российских рублей кое-где пробивалась зелень мелких долларов. Деньги он бросил на стол.
– Это Дунькины. Три года высасывала из нас по капле. Вот, все это. Сама отдала. Сказала, теперь это наше.
У Кирьяна ходуном ходили руки, глаза бешеные, но голос был тверд и тверез. У сидящих за столом перехватило дыхание. И руки тоже задрожали. Вологда заприметил в куче нечто, удивительно напомнившее ему виденную когда-то, в позапрошлой жизни, «зеленую» сотенную. Он протянул к ней свою клешню, желая проверить гипотезу. Кирьян поднял биту и точным движением врезал ему по руке. Вологда кубарем свалился с табурета, воя от боли во весь рот.
– Заткнись, – сказал Кирьян.
Вологда заткнулся. Рука у него изогнулась. Не в локте, и не в плече: в предплечье, где не было сустава.
– Деньги наши, – повторил Кирьян. – Общие. Но без моего разрешения никто до них не дотрагивается. Ясно?
Он обвел взглядом Макарыча, новобранца и остальных «пансионеров», сонных и нетрезвых, почесывающихся и испуганно хлопающих глазами, – они вскочили, разбуженные криками Вологды, и теперь стояли вокруг стола.
– Всем все ясно? – громче повторил Кирьян и вроде случайно поднял биту.
– А че неясно? – пробубнил за всех Банан. – Ясно как день, куда яснее… – Он посмотрел на кучу из дензнаков и с усилием отвел глаза. – А че делать-то будем?
Кирьян взял несколько бумажек и сунул их в руки Банану.
– Вот с ним, – он показал битой на новобранца. – Пойдете к бабе Ане, возьмете самогонки баллона три. Потом в магазин. Колбаса, тушенка, хлеб, сигареты. Берите много – чтобы всем хватило и на опохмел осталось. Принесете все сюда. Если что по дороге выпьете или свалите на сторону – бошки поразбиваю всмятку.
«Пансионеры» радостно загалдели. Банан с новобранцем быстро оделись и пошли на выход. В сенях, припертая спиной к стене, сидела Дунька. Глаза у нее были закрыты, вся левая сторона головы, рубашка и юбка испачканы кровью. Посланцы осторожно переступили через ее вытянутые ноги, открыли дверь и шмыгнули наружу.
Пьянка продолжалась до девяти утра. Еды и пойла было вдоволь, а около полуночи на огонек забрели две веселые кумушки из деревни. Кирьян чутко руководил массовыми гуляниями, давал в морду кому надо, обхаживал кумушек. Он перестал задумываться над тем, что изменилось в его мире, куда делся прежний Кирьян и откуда взялся нынешний, – он уже вошел в свою новую роль. Вологда, размахивая сломанной рукой, кое-как прихваченной тряпьем, клялся ему в вечной любви до гроба. «Пансионеры» единодушно признали в Кирьяне своего атамана и родного батьку. Кирьян, в свою очередь, объявил, что отныне Дунькин «мотель» принадлежит им всем и плату за постой брать не будут. Но – все заработанное и наворованное должно сдаваться в общий котел. Общаком распоряжается Кирьян. Каждый получит свое, сколько ему надо. Ура!..
Под утро приползла очухавшаяся Дунька. Ей налили полстакашки, она поблагодарила и выпила. Кирьян велел ей умыться, сменить платье и в таком виде больше перед ним не показываться. Дунька покосилась на биту, стоявшую у стены, и покорно удалилась.
* * *
Утром ударил мороз под двадцать градусов. Укатанный снег на дороге блестел как зеркало. Солнце било по глазам, выжимая слезы, ноздри при каждом вдохе норовили склеиться намертво. По дороге в криминалистическую лабораторию Курбатов насчитал с десяток машин, беспомощно тянущихся на поводках буксировочных тросов. Кое-где окутанные облаками пара группки автолюбителей пытались толкнуть машины вручную. На Красноармейской голосовал мужик с ярко-желтой лентой троса в руке, на тротуаре рядом с «Москвичом» зябко топтали снег две девчонки в шубках. В школу опаздывают, поди ж ты. А вы скажите спасибо папе, что с вечера не подзарядил аккумулятор… Курбатов коротко просигналил и проехал дальше. У Варашкова он обещал появиться в половине девятого. И он не опоздал.
– Так поймал Петровский свою рыбку? – спросил Семен Константинович, пока Курбатов просматривал справку.
Курбатов дочитал до конца, затем глянул на подпись эксперта (это был не Демин и не Патлатов, как и договаривались) и, удовлетворенно улыбнувшись, ответил:
– Можно сказать, да. Спасибо, Константиныч. Ты нам здорово помог.
Вчера Курбатов отдал Варашкову свою копию отпечатка с пистолета, найденного на месте убийства Курлова, и снятые им лично отпечатки Петровского с рюмки – ах, что за чудо был этот коньячок, помнишь, Дениска?.. По большому счету, он не сомневался в том, каков будет ответ экспертов.
Александр Петрович знал ответ и много раньше, только сейчас он имел его официально зафиксированным на экспертной справке: «На затворе пистолета ТТ № 1768125 обнаружен один отпечаток большого пальца левой руки с петлевидным узором, который совпадает с отпечатком большого пальца левой руки неустановленного лица, представленным ст. следователем городской прокуратуры Курбатовым А. П.».
Конечно, экспертная справка – это еще не акт экспертизы, это предварительный документ, а «неизвестный» – это не Петровский, но оформить все, как положено, – дело несложное. Главное, что его догадки подтвердились: отпечатки на пистолете принадлежат этому засранцу Петровскому! Вкупе с показаниями Суши это – приговор. Петровский ловил-ловил рыбку, а рыбка извернулась и схватила-таки Петровского за одно место…
Курбатов распрощался с начальником лаборатории и отправился в прокуратуру. День только начинается, даже иней с веток не успел слететь, а сделано уже немало. Что же, теперь он не только знал, теперь он мог доказать. Как минимум – то, что дело номер 28845, которое ведет Петровский, он ведет против самого себя. Как максимум – то, что и Степанцова убил он же. Только есть ли в этом смысл? В доказательстве как таковом?
Курбатов выбрал дальний путь мимо бывшей армянской слободки и старой пожарной каланчи, чтобы спокойно обдумать все еще раз. Положим, никакой прямой выгоды от того, что Петровского посадят, он не получит. Посадят и посадят. Здесь главный вопрос: зачем Петровскому все это понадобилось – убивать своего непосредственного начальника, прокурора, марать руки о какого-то прибандиченного Курлова? С чего это зеленый пацан, вчерашний студентишка, на такое решился? Нет, сам бы он ни в жизнь не додумался влезть в такое говно… Ответа на главный вопрос Александр Петрович не имел. То есть он догадывался, он ясно различал мерцание разрядов и чуял серный запашок Конторы… Линия противодействия спрямлялась, и уже не Петровский был на дальнем ее конце, а – мощная организация с острыми клыками и длинными безжалостными лапами. Против Конторы Александр Петрович выступить в открытую не мог. Да и не хотел: незачем. Просто у него в руках оказались факты, которые при случае можно выгодно обменять. На что-нибудь очень важное и полезное. Вот это будет выгодная сделка, тут ничего не скажешь…
В конце концов, ведь день только начинается. Коекто еще даже не проснулся, а он, Курбатов, уже мчится через город во всеоружии.
* * *
Всю неделю Жданкова чувствовала себя несчастной. С завода, где муж работает, позвонили доброжелатели: бейте тревогу, принимайте меры – пьет, не отходя от станка, на днях вот чуть руку не отхватило прессом. А еще с кладовщицей на складе метизов после работы запирается, и что он там с ней делает – непонятно. Жданкова всю эту галиматень выслушала, поплакала, приняла сперва валидолу, а потом и меры, конечно. Ввалила ему так, что у самой руки чуть не поотваливались.
И с тех пор все наперекосяк. В эту пятницу у одной из новеньких вертухаек, у Машки Русиной, был день рождения. В конце дня накрыли хороший стол в красном уголке: курица жареная, мясо запеченное, шпроты, печень трески, коньячок, водка, шампанское, а главное – пирожки домашние с картошкой, капустой да печенью, – вкусные, румяные, поджаристые. Ребят тоже пригласили для веселья, короче, почти вся дежурная смена собралась – и с мужского блока, и с женского. Все голодные, накинулись на эту вкуснятину да на выпивку: кто чего хочет – выбирай, пожалуйста, такое редко бывает!
А Жданковой не повезло: только два пирожка съела да рюмку коньяка выпила, а тут ее сразу вызывает Сирош. Идет, а ее качает – в голове туман, будто пьяная. А с чего? С рюмки коньяка?
В кабинете у Сироша сидела незнакомая молодая женщина.
– Это Регина Петровна, общественный защитник Алины Сухановой, – почтительно сказал Валерий Иванович. Хотя никакой он не Иванович, а Гургенович, это все знают. Ну да дело его, как себя называть, это никого не касается.
– Так она ж, Суханова, сроду нигде не работала, – заметила Жданкова. – Какой же это такой общественный коллектив выделил ей защитника?
А эта Регина Петровна улыбнулась ей омерзительно и говорит:
– Я представляю Всероссийский комитет защиты женщин, находящихся под следствием.
– Она не женщина, – отрезала Жданкова. – Она убийца.
– Это еще не доказано, – защитница собрала губы в точку, будто пытаясь погасить улыбку, но улыбка никак не хотела гаснуть. – А мы как раз и следим за тем, чтобы к нашим подзащитным не относились предвзято.
– Ты, Жданкова, не умничай. В Комитет поступила жалоба на пытки и издевательства над Сухановой, – Сирош многозначительно выкатил влажные глаза.
«От кого могла поступить такая жалоба? – в недоумении подумала Жданкова. – Ни от кого не могла! Официально ее никто не пропустит, а „дороги“[1] у Суши нет и быть не может!»
– Чего ты такая красная? – свел брови Сирош. – Ой, смотри, Жданкова! Я карточку поднимал, это ведь ты Суханову принимала!
– Ну и что, как я? – промямлила Жданкова. Она растерялась. Все странности последнего времени выстроились в одну цепочку, и цепочка эта не сулила лично ей ничего хорошего.
А странности таковы: во-первых, Людка Гамак прессовать Сушу прекратила, и другие от нее отскочили. Может потому, что она Ирке Окороку глаз выбила? Так нет, после этого ее еще сильней дуплили… Странность вторая: подельника ее, как там его… Гуля, – тоже прессовать отказались!
«Зафир заднюю передачу включил, – говорили меж собой оперативники. – Такого еще не было, все „пресса“ сломались… Вроде как малевка какая-то поступила…»
А теперь вот правозащитница из Москвы… И как бы ей, Жданковой, крайней не оказаться!
– Ты организуй встречу наедине, обеспечь все, как положено, – приказал Сирош. Я уезжаю, а ты в понедельник доложишь мне лично!
Конечно, пятница короткий день, начальству домой хочется, а простые люди пусть пашут до посинения!
В СИЗО, ясное дело, никто никаких общественных защитников не любит, зовут их между собой «шавками», потому что, кроме как брехать на ветер, ничего они не умеют. И такая почтительность объясняется только тем, что защитница из самой столицы прикатила. Ну да ладно! Как прикатила, так и укатит, а Суша здесь останется. Еще посмотрим, как ей Москва поможет!
– Ну, пошли, коль начальник приказал!
Жданкова тяжело посмотрела на защитницу, повернулась и вышла. Спустя минуту из кабинета появилась эта Регина, и лейтенант проводила ее в комнату для допросов.
– Подождите минут десять, сейчас я ее приведу!
Потом пошла в камеру. Прошла по длинному переходу в корпус, зашла в женский блок, где воняло так же, как в мужском, – потом и карболкой. На постах никого не было, все гуляли у Машки Русиной.
– Суханова, на выход!
Она вышла в коридор, по-прежнему прямая, как доска, с высоко поднятой головой. Жданковой на секунду даже жалко ее стало, дуру упрямую. Ну, не на секунду – на полсекунды. В тюрьме-то ей, может, и полегче стало, только ненадолго. Скоро эти «прессы» по этапу пойдут, а новые прибудут. Запрессуют ее в доску, раз жалуется, не доживет она до суда, упертые и меченые, как она, всегда плохо кончают…
– Вперед пошла, – сказала Жданкова и повела Суханову в комнату для допросов.
Регина эта встретила Сушу, как родную. Ну, говорит, рано нос вешать, глупышка, мы еще дадим кое-кому просраться. Так и сказала. И Суша вдруг тоже заулыбалась, будто узнала ее, Регинку эту. И улыбочка у нее точно такая же вышла – омерзительная.
Жданкова вышла в коридор, как начальник приказал, да стала в красный уголок по внутреннему названивать: пусть Ленка Тихомирова придет, сменит ее, ей небось тоже у стола посидеть хочется… Ленка вообще-то не очень подельчивая, жадная, по семьдесят процентов драла с девчонок, которых «в аренду» авторитетам сдавала. Может и не пойти. Лучше Соньку Подобед попросить, она баба нормальная, с пониманием. Сама попила-поела – дай подруге жизни порадоваться…
Но ни Ленка, ни Сонька трубку не брали. Вообще никто не брал, хотя там человек восемнадцать собралось. Неужели перепились вусмерть? Что-то быстро…
Но тут пришла сама именинница – Машка Русина.
– Музыку включили, танцуют все! – пояснила она. – Хочешь, я тебя подменю? Там у этих все в порядке?
Жданкова заглянула в комнату, а Машка ее сзади толкнула, так что она влетела внутрь и напоролась на Сушу. А у Суши пистолет в руке, маленький и плоский.
– Заходи, – говорит, – рвота!
И как даст старшему лейтенанту по зубам этим пистолетом, так что губы лопнули, а рот наполнился кровью и костяным крошевом. А потом по голове, прямо в висок, так что вообще перед глазами все помутилось, и она повалилась кулем на замызганный пол.
– Как дела? – спрашивает Суша.
А Машка ей отвечает:
– Как в аптеке. Всем пирожки понравились. В отключке лежат. Сейчас Гуля приведут. Давай, переодевайся в форму!
Суша ногой старшего лейтенанта поддела:
– Раздевайся, рвота, давай ключи.
А когда Жданкова разделась, показала на нее рукой.
– Гля, какая короста, на свинью похожа. Вы меня в коридоре подождите, а я ее разделаю…
– Кончай, Алина, уже дымом пахнет! Уходить надо!
– Уходите, – а я просто так не уйду. Хоть сгорю, а с ней поквитаюсь!
Она быстро и ловко замотала скотчем руки Жданковой, заклеила рот и вытащила узкий, зловещего вида нож. Старший лейтенант билась, вытаращивала глаза, но это было все, что она могла сделать.
– Ну, рвота, теперь твоя очередь, – сказала Суша и первый раз полоснула острым клинком.
* * *
На следующий день о ЧП говорил весь город. В СИЗО случился пожар. Рассказывали об этом как-то невнятно. На кухне рвануло что-то, оттуда огонь и пошел. И дым какой-то ядовитый, зеленоватые плотные клубы, как от шашки. Дежурный там первый появился, чуть дохнул – и сразу пополам, откашляться не может. Минуты не прошло, а весь хозкорпус уже занялся, и ничего сделать нельзя, близко не подойдешь… Вроде люди погорели, двое или трое… Особых подробностей слухи не содержали. Это был первый уровень осведомленности, об этом все знали, даже в газетах написали.
В прокуратуре осведомленность была повыше – второго уровня. Пожар действительно был, причем вследствие поджога. Тюрьма есть тюрьма. Никого из хозкорпуса не эвакуировали: кто сам выскочил, тот и жив остался. Началась паника, неразбериха, только через полчаса вызвали пожарных и объявили тревогу. Через час вокруг СИЗО поставили оцепление. Приехали четыре пожарные машины, до утра там тушили, все в масках специальных, вытащили из хозкорпуса два обгоревших тела. Погибли Феодосия – осужденная из женского корпуса, и вольнонаемный электрик. А когда все успокоилось, проверку устроили. Двоих зэков недосчитались. Сухановой и Гулевича. Да два сотрудника пропали – выводные из мужского и женского корпуса. Недавно на работу устроились. Подумали сперва – глотнули дыму и сомлели где-нибудь в закутке. Все обыскали. Развалины обгоревшие в хозкорпусе разве что только ситом не просеяли. Но ни косточки, ни пряжечки металлической не обнаружили. Пропали бесследно.
Полную картину знали только Рахманов, его замы да Курбатов. Дежурная смена устроила пьянку и была усыплена пирожками с ядовитой начинкой. В результате халатности и разгильдяйства контрольно-надзорного состава изолятора, Суханова и Гулевич с помощью специально внедренных в изолятор преступников совершили побег через боковую дверь, ведущую в соседний переулок и служащую для нужд оперативной части. В камерах были убиты Людмила Левина по прозвищу Гамак и Султан Шамсоев по прозвищу Зафир. Причем остальные обитатели камер уверяют, что они ничего не видели. В комнате для свиданий обнаружена убитой старший лейтенант Жданкова. Все три трупа зверски изуродованы. И еще. Исполнял обязанности начальника СИЗО подполковник Сирош. Он принимал сообщницу преступников, прибывшую в СИЗО под видом правозащитницы. В отношении Сироша возбуждено уголовное дело по признакам халатности, повлекшей тяжкие последствия. Дело принял к своему производству старший следователь по особо важным делам Курбатов.
Глава одиннадцатая
Петровский против призрака
Мать решила, что в прачечную она больше ни ногой.
– И пусть, – решительно сказала она, вываливая на пол содержимое бельевого бака. – Хватит с меня. Никаких прачечных. Буду стирать в руки. Вон соседка из девятой в руки стирает, а у нее ногти, как у двадцатилетней. И я буду стирать. Обойдусь.
– Значит, опять как выходные, так паруса по всей квартире, – сказал Денис.
– Зато бомбу никто не подложит.
Она рассортировала белье, затем достала из-под раковины щетку и стала любовно вычищать углы наволочек.
– Так, может, и хлеб будем сами печь в печи? И пшеницу сеять? – предложил Денис. – Штаны и рубахи сами шить?
– Кстати, вот это твое, – мама сделал вид, что не расслышала. Она отодвинула ногой кучку денисовых трусов и носков. – Стирай сам. Хочешь – в прачечной, хочешь – к подружке своей отнеси, пусть тренируется.
Денис представил, как Вера стирает его белье. Н-н-д-а-а-а…
– А как насчет раздельного питания? – попытался отыграться он. – И кухня пополам? У каждого свой столик…
Но мать уже не слушала.
– Принеси-ка лучше порошок из кладовой, – она сунула ему в руки пластмассовую миску.
Вторую половину воскресного дня Денис проторчал в прачечной где-то на самой тиходонской окраине, куда ходит всего один маршрут троллейбуса. Выстирал все свои трусы, носки, рубашки и даже брюки. Прочел толстую пачку газет. Ошпарил ладонь на горячем прессе. И где-то в восьмом часу вечера, уже дома, когда он раскладывал по полкам шкафа чистое белье, вдруг откуда ни возьмись явился старина Холмс.
Денис застыл перед открытой дверцей шкафа, глядя на стопку аккуратно сложенного белья. Ну, белье. И что тут такого? Холмс намекнул еще раз.
Тогда Денис понял.
Шесть пар трусов, четыре футболки – любимая черная на каждый день и три из плотного трикотажа, используемые вместо ночной пижамы. Связанные в узелки по парам носки – тоже шесть. На верхней полке две пары турецких джинсов «мотор», свитер и пуловер. Рядом висят на «плечиках» белая и серая сорочки, две пары брюк и пиджак. Гардероб небогатый, прямо скажем. Денис закрыл шкаф, сел за стол, пододвинул к себе пепельницу, раскопал там окурок подлиннее, раскурил его, положил на край и тут же забыл.
Дело в том, что при обыске в комнате у Синицына не оказалось даже пары драных носков, не говоря уже о рубашках и костюмах. На это никто не обратил внимания, включая самого товарища Петровского, олуха царя небесного. Подумаешь! Мало ли чего там нет, какая разница. Обращали внимание лишь на то, что там есть, или на то, что хотелось бы там увидеть. Большой кинжал, к примеру. Заточку. А трусы-носки какие-то… Да болт на них положили.
* * *
На следующее утро Денис был в общежитии. Народу немного – рабочий день на заводе начинается в десять минут восьмого. На втором этаже отыскал мамашу с маленькой девочкой на руках, на четвертом поднял мужика с жестокого бодуна, в их присутствии снял печать с двери Синицынской комнаты. Обыскал еще раз. Одежды ровным счетом никакой. Ни куртки, ни свитера, ни носков, ни трусов. Денис убрал с кровати матрас, под ним на металлической сетке лежал смятый галстук. Все. Похоже, никакой другой одежды Синицын в доме не держал. Может, сдавал в прачечную? Холостяцкая недельная ротация? Проверим, конечно. Но маловероятно. Поскольку верхней одежды тоже нет, и обуви на смену, и посуда – только та, что стояла на столе в день убийства: два стакана, блюдце, две вилки… Можно, конечно, изо дня в день, неделями, месяцами, таскать на себе заскорузлые носки и майку, ходить круглый год в демисезоне, есть суп вилкой из блюдца… Но Синицын, судя по описаниям, на такого не похож. Украли? Носки, майку, тарелки… А деньги в бумажнике оставили нетронутыми?
Значит, Синицын здесь не жил. Его комната в общаге – необитаемый остров, куда он наведывался лишь время от времени. Для каких-то неясных пока целей. Для создания образа грузчика. Которым он, конечно, не являлся. Правильно сказал продавец «Монарха»: у грузчика таких часов быть не может. Да и по другим признакам это тоже видно.
Но кто он тогда? И где он жил на самом деле? Ответив на второй вопрос, можно было получить ответ на первый.
Денис дал понятым расписаться под протоколом, поблагодарил. Поехал на «Прибор», с проходной позвонил в сборочный цех, поговорил с Бекером. Тот вяло заспорил было, но тут же сдался: «…Да забирайте ее к лешему, все равно стоим».
Тонька-крановщица появилась через пять минут – свежая, как яблоко, одетая в новую кроличью шубку, рыжие волосы горят огнем. Сапоги, правда старенькие, сбитые, дешевые, с Вериными не сравнить.
– Прокуратуре привет! Поймали кого уже? – деловито поинтересовалась она, вытащила из кармана жменю семечек, протянула Денису. – Хотите? Хорошо пожаренные, я у одной бабушки покупаю…
Ногти у нее были коротко и неровно подстрижены, со следами давнего маникюра.
– Нет, спасибо.
– Напрасно, много потеряете, – она привычно кинула в рот несколько семечек. – Кстати, может, и на завтра мне справочку выпишете, я бы на междугородку съездила, маме позвонила, а? Она у меня в Верхнедонской живет, ску-у-ча-е-ет…
И разговор какой-то простонародный – быстрый, нацеленный на откровенную выгоду.
Когда Денис пояснил ей суть дела, она разочарованно протянула:
– Ну… Так ведь уже говорено-переговорено! Ну «Белый Замок», ну общага, ну кино иногда, так больше никуда не заезжали…
Она скорчила гримаску, бросила лукавый взгляд.
– Может, по кофейку сперва, а, товарищ следователь?
Кокетничала. Но после Валерии, а тем более Веры, она не представляла для Дениса никакого интереса. В смысле мужского. Вроде тоже девушка, вроде симпатичная, руки-ноги есть, да и все другое, что положено женщине, несомненно имеется, а смотрел он на нее безразличным, не мужским взглядом… Существо другой породы, вроде как кошка, или скульптура ожившая, причем частично – то, что под одеждой, так и осталось гипсовым… Никакого желания коснуться, вроде случайно, руки, прижаться ненароком, приобнять шутейно за талию, остаться наедине… Не представлял, что с ней можно делать наедине, о чем говорить, и уж совсем не представлял, как она выйдет к нему в полупрозрачных штанах и просвечивающем белье, с откровенной улыбкой. Она, бедная, таких брючат и такого белья отродясь не видела, да и улыбаться так не умеет… У нее все другое: и одежда, и запах, и заботы, и мысли, и окружение, и привычки. Другой социальный слой – вот как это называется по-научному. Многим парням на такие нюансы плевать: залезут под юбку – а там у всех у них одинаково! Только он, Денис, под такую юбку и не полез бы никогда. Социальный барьер. Как женщину он ее не воспринимал! Как свидетеля – да. Причем ценного свидетеля.
– Я хочу, чтобы вы вспомнили еще раз, – сказал Денис. – Это важно. Любые остановки, любые незначительные отклонения от вашего маршрута. Может, выходил, чтобы сигареты купить или выпивку. За газетами. Позвонить.
Антонина плотнее закуталась в шубку, проводила взглядом вышедшего из ворот проходной мужчину. Внимательно изучила носки своих видавших виды полусапожек.
– Ну так что, я прямо вот здесь, на морозе, и буду вспоминать? – с досадой спросила она. – Все идут, пялятся. Нет, пригласить девушку в теплое, приличное место, чаем угостить или кофе…
Она подумала.
– С бутербродом.
– Я куплю большой чизбургер, – скрывая раздражение, сказал Денис. – И большую чашку кофе. И леденец на палочке. Но потом. Сейчас пошли. Или вернешься на завод?
Сперва проехали город с севера на юг на тридцать пятом троллейбусе, потом пересели на девятнадцатый автобус.
Антонина ныла всю дорогу, что из общественного транспорта все выглядит как-то не так. Вот такси – другое дело. Они ж с Синицыным только на такси и ездили.
– Гля, вот кино: грузчик на такси катает, а прокурор на троллейбусе. Вам чего, на такси денег не выдают? Или прикарманиваете? И обратно – в ресторан мы-то по вечерам ездили, тогда все в огнях было, а сейчас все серое, что тут узнаешь? Да ничего! Вот это, к примеру, – что за домина такой?
– Областной театр драмы и комедии, – пояснил Денис.
– Какой кошмар. Нет, здесь мы точно не были.
Недалеко от остановки «Северный рынок» она дернула Дениса за рукав:
– Вот здесь, кажется.
Автобус проехал мимо ряда киосков, разделенных дорожкой, уходящей в глубь двора, затем повернул.
– Я не знаю. Похоже. Там на одном киоске реклама «Тинькофф», я помню, что сидела и смотрела из такси на эту рекламу. А он куда-то выходил. И вернулся с бутылкой «Саперави». Мы возвращались откуда-то, не помню.
Они вышли на следующей остановке и вернулись к киоскам.
– Подожди здесь, – сказал Денис.
За киосками – ряды панельных пятиэтажек, на первом этаже одной из них вывеска «Продукты Круглые Сутки». Крохотный магазинчик, расположенный прямо в бывшей квартире какого-то ветерана «Донсельмаша». Денис зашел. Водка, виски, мартини, грузинское вино, закуска. Он показал продавцу фото Синицына.
– Не, – покачал головой продавец. – Может и заходил, так всех разве упомнишь?
Денис записал адрес и вернулся на остановку. Вскоре подошел автобус. Они доехали до конечной, пересели на тридцать второй и вернулись в центр. Больше Антонина за рукав его не дергала. Зашли в «Макдональдс», Денис заказал чизбургер и два кофе. Восемьдесят рублей. Расплачиваясь, он вспомнил о Вере, протянул логическую цепочку до завтрашнего вечера, когда поведет ее в «Папу Джо», или «Блюз», или еще куда-нибудь, и с сожалением заглянул в бумажник, где оставались две сотенные бумажки. Надо доставать деньги. Только где?
– Ну и холодина, – сказала Антонина, обнимая ладонями чашку с кофе. – И охота вам кататься по городу по такой минусовине… Вообще-то я думала, вы всех давным-давно поймали. Почему-то уверенность такая была, что у вас все сразу получится… А что мы искали-то хоть?
– Вчерашний день, – сказал Денис. – Пошли.
Он проводил ее к остановке.
– Далеко ехать?
– Нет, – сказала Антонина, высматривая автобус на дороге. – Я тут рядом почти. Двадцать минут. Мы вон там иногда встречались, на той стороне, это когда у него не получалось за мной заехать. Он говорил: как удобно иметь девушку, которая живет рядом. Позвонил, а она уже тут…
Она хихикнула.
– А вы где живете?
– Здесь, неподалеку.
Денис неопределенно махнул рукой. Действительно, удобно иметь такую девушку, как Антонина. С одной стороны, у нее есть все, что должно быть у девушки, с другой – она непритязательна и понятия не имеет о том, что такое «Папа Джо». Но ведь с Верой ее не сравнить…
– Я так и знала, – глубокомысленно сказала она. – А я мечтаю когда-нибудь построить дом в пригороде. Представляете? Большой, с ярко-синей крышей, чтобы за сто километров было видно и чтоб…
Он вдруг встрепенулся.
– Стоп, погоди. Где, говоришь, вы встречались?
– Да вон, у той остановки. – Она показала головой на противоположную сторону улицы. – Там стоянка такси рядом, если что. И до «Замка» близко, и вообще.
– И сколько раз?
– Встречались-то? Раз пять, наверное. Семь. Может, десять. «Встречаемся на Войсковом», говорил…
– Остановка «Войсковой переулок», – сказал Денис.
– Ну. А что?