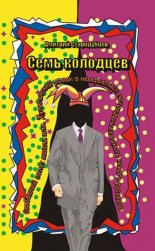Сибирской дальней стороной. Дневник охранника БАМа, 1935-1936 Чистяков Иван

Сбились с ног. З/к должны быть в зоне. Но один за молоком, другой завхоз, третий туда, четвертый сюда. У каждого свои причины, причины человеческие, причины мелочные, но имеющие большое значение. Думают з/к.
— Даже такой пустячины, как молоко, и то на праздник лишили нас, сволочи.
11 часов ночи, подают балласт, надо выгружать. Идем. Тут задержка, там неполадка, а мы мерзни. Всегда найдется такой тип, который устроит провокацию.
8 [ноября]
Драка.
Дерутся з/к. Бьют плотника женщины, бросая поленьями. Уняли. Унять можно. Голос, голос, где нужно — суровый и властный, где — мягкий и сладенький. Все женщины, прежде всего женщины.
9 [ноября]
На трассе. 50 километров пешком. Бредем по Уссурийке у черта на рогах.
10 [ноября]
Жизнь кочевая, холодная, временная, неустроенная. Привыкаем на авось. Нудно пилит гармошка, подчеркивая общую пустоту. Холодно щелкает затвор винтовки. Ветер за окном. Сны и поземка. Надрывается гармошка. Отбивают такт ноги. От буржуйки тянет теплом, но как один бок греет, [так] другой мерзнет. Проскакивает мысль: неужели так надолго. Неужели наша жизнь — шалман. Почему? Хочется плюнуть на все и поддаться течению. Но дадут, пожалуй, срок. Думай, голова, картуз куплю. Да, здесь дни тоски и гнева, печали и стыда. Беспечность и авось. Так и опускаются люди. Никто о нас как о людях не знает, знают как командира взвода и только. При случае упоминают, что ты представитель советской власти. Пережитого стало мне жаль. Лишний раз сказал себе: дурак. Вывертывайся, думай и изобретай.
11 [ноября]
День командирской учебы. Обучаю комотдел, весь день «дома» в тепле, пока топят. Так себе. Поют ребята, как много дум наводит он. Да, много дум. Посмотрел я с ж. д. моста на свой ковчек и усмехнулся. Затеряны где-то в тайге, живем, строим, переживаем, занимаемся геометрией. Да, всюду жизнь, но какая.
12 [ноября]
Прибыли «огоньки» — малолетние преступники. Проверяем — пять лишних. Снова проверяем — пять лишних. Еще проверяем — десять лишних, а знаем, что пять убежало. Усиленный конвой, работают тридцать человек, уйти некуда, считаем — двадцать девять. Закопают в песок или снег, уйдут, а он тягу. Три человека ночью убежало.
Посылают главаря.
— Найдешь?
— Найду!
Нашел — эти больше не уйдут. Оказывается, сам послал, попьянствовали и вернулись. Завтра другие так же.
Выпустил оправиться мужчину — пропал. Стоит женщина. Выпустила забранную в брюки юбку, накинула платок и точка.
«Продает баба мясо быка, а я сидел да считал, сколько она получает, сам просил милостыню, потом спер сумку и пошел. Набили барахлом один мешок, опять мусором. Продали, получаем деньги, держа мешок между ног, один заменит, и все в порядке».
13 [ноября]
С утра пешком в Архару. Пройти 20 километров у нас не считают ни за что. Свои производственные разговоры: тут убили, там убили. В 3-м взводе медведь содрал скальп с охотника, изломав всю винтовку. Заколот штыками.
Купил мороженых яблок. Они кажутся прелестью, испытываешь особое ощущение, когда ешь. Весь день проболтался на станции и как будто так надо. Ничего не сделаешь, не идут поезда, ну и тупеешь.
14 [ноября]
Идем с политруком проверять шпалы, рельсы и т. п. Занимаемся производством. Наше это дело или нет, так и не узнаешь. Трудно провести разницу или границу. Встретившийся уполномоченный радует:
— Шпалы Уссурийки брали? Жгли?
Мы-то знаем, жгли или нет. Только я-то в каком положении: если дров не будет, то люди и холодные, и голодные работать не пойдут — я виноват; если дрова будут, люди сыты и обогреты — тоже я виноват. Решаю быть виноватым один раз. А вообще в жизни — воруй, но не попадайся.
15 [ноября]
День угасает медленно. Кажется бесконечно длинным. Встанешь в 5 ч. да ляжешь в 11. Западный ветер нагнал барашки туч. Заходящее солнце последними лучами, купаясь в этих барашках, создало сказочную картину на небе. Серый фон неба с изумительно далеким горизонтом. Небосклон залит палевым светом, а розовые тучки с ярко-красными краями кажутся цветами мака. Красная полоса горизонта разгорается все ярче и ярче и, достигнув предела, как бы разливается, расплываясь по небу, окрашивая все в пурпур. Солнце, ослепительно красное, начинает опускаться за горизонт. Пурпур пропадает, уступая место зеленовато-желтым тонам, эти в свою очередь уступают место фиолетово-синим. Низ сопок покрывается туманом, а вершина с буро-коричневой травой отливает золотом, потом начинает темнеть, темнеть. Мрак подбирается и снизу, и сверху. Пропадает последняя красная полоска на горизонте; становясь прежде низкой, а потом, просуществовав некоторое время в воображении, умирает. Скользнул запоздавший луч, как бы догоняя солнце и убегая, подарил улыбку, так же как девушка, распрощавшись и отойдя 15–20 метров, оглянулась и улыбнулась.
Ночь. За окном мрак. Только разве что зная ощущаешь 30-метровую насыпь в 50 метрах. С грохотом, рассыпая снопы искр, проносится по мосту товарный поезд. Теплушка дымит маленькой трубой буржуйки. Едут призывники. Смотрят, наверное, на нас и думают: живут и здесь люди. Да, живет и здесь шалман — цыганский табор.
Годы впечатлений оставят свой след.
16 [ноября]
Двадцатишестиградусный мороз и ураганный ветер. Холодно. Холодно на улице и в помещении. Дом построен так, что в нем больше вентиляции, чем материалу. Вошедший завхоз сообщает:
— Ничего, ребята, не смущайтесь такого мороза, будет в два раза холодней.
Порадовал.
Как вредна нераспорядительность человеческая. Не сделали до морозов земляное полотно, теперь мучают людей, срубая 30-сантиметровый слой вязкой, как олово, мороженой глины.
Дни за днями катятся, а впереди? Я не имею желания служить в армии, да тем более в БАМе. Но что делать? Было бы хоть тепло в помещении, где можно отдохнуть. И этого нет. Один бок греет буржуйка, а другой мерзнет. Развивается какая-то беспечность: ладно, как-нибудь. А каждый прожитый день — кусок жизни, который можно бы прожить, а не прозябать. Здесь не с кем молвить слово, с з/к нельзя, со стрелками тоже, сживешься — уже не командир. Мы, простая кобылка, по окончании строительства незаметно сойдем с арены. Вся или большая тяжесть строительства лежит на нас, т. е. на стрелках команд и комвзводах.
17 [ноября]
12 часов ночи. Дежурный вызывает стрелков для охраны на разгрузку балласта. Иду и я. Шалман. Вертушки нет и неизвестно когда будет. Люди мерзнут на 35° морозе. По существу я бы так не делал. Проложил бы второй путь, и по нему балласт и засыпку. Были вы ночью в тайге?
Так слушайте. Может быть, 300-летние дубы, оголены их ветки, как руки великанов, как щупальца, как лапы, как клювы допотопных чудовищ направлены куда-то в пространство, готовые схватить, смять всех, кто попадет.
Вы сидите у костра, и тени, покачиваясь, создают впечатление, что все эти конечности шевелятся, дышат, воодушевлены, живы. Тихий шелест оставшейся листвы, удары сука об сук еще больше наводят на мысли о циклопах и пр., и кажется, что вы слышите какую-то непонятную для вас разговорную речь. Вы слышите вопросы и ответы на них.
Вы слышите мелодию и ритм. Пламя костра на какие-нибудь 3–5 метров пробивает темноту, а искры, наподобие длинных светящихся червяков, летают в воздухе, кружась, сталкиваясь и обгоняя друг друга. Лицо вашего товарища, сидящего напротив, ярко освещенное костром на темном фоне ночи с бегающими тенями от носа, от козырька шлема — театрально. Нет желания и как-то неудобно громко разговаривать. Хочется сидеть, дремать и слушать шепот леса.
18 [ноября]
С утра еду на 13-ю ф-гу верхом.
Прислали малолеток — вшивые, грязные, раздетые. Нет бани, нет, потому что нельзя перерасходовать 60 руб. Что выйдет по 1 коп. на человека. Говорят о борьбе с побегами. Ищут причины, применяют оружие, не видя этих причин в самих себе. Что тут — косность, бюрократизм или вредительство? Люди босы, раздеты, а на складе имеется все. Не дают и таким, которые хотят и будут работать, ссылаясь на то, что промотают. Так не проматывают и не работают, а бегут.
19 [ноября]
Какой-то пустой день. Апатия и безразличие. На политзанятиях, на вопрос «Кто такой Блюхер?» ухитрились ответить: «Бывший комиссар 2-х путей!»
20 [ноября]
Сегодня побег. Убежал К. Р. 58–8. Унес же черт. Холод, без денег. На что надеется? Другое дело рецидив, тот добудет.
Пусто. Может быть, в дальнейшем так пусто всегда будет. Привыкнешь, и все будет казаться обычным, нормальным.
Собираемся на завтра на охоту, что же будет.
Политрук обещает найти коз. Посмотрим.
21 [ноября]
5,15 ч. утра слышно, как по мосту идет поезд и, наверное, стучит тормозная колодка. Только задремал, дежурный сообщает:
— На 752-ом крушение!
— Какого поезда?
— Не знаю.
Вскакиваешь, забыв все.
— Командир отделения! Четыре человека на аварию, остальные завтракать, позавтракают, пришлете смену.
— Есть, т. командир!
Последний скат платформы, груженной лесом, вылетел на мосту, и упавшая платформа поломала все брусья. Как не свалились вагоны, не знаю. Протащившись еще километр, часть поезда с разбитой платформой оторвалась, загромоздив путь. Машинист, проехав до станции с 0,5 километра, принял жезл и на проход. Остановили у выходного семафора. Раскидали бревна, подняли один конец платформы на вагонетку и на разъезд.
Сорвалась охота, но все же пошли. Завхоз и я. Если посмотришь на сопку, то снега не увидишь. Трава выше роста человека. Болото. Много следов коз. Кажется вот, вот, рядом сопка, а до нее 5 километров. Страшно все же в дубовом лесу зимой. Непривычно для человека из России. Я даже не видал, как проскакали две козы. Завхоз видел, но стрелять нельзя — боялся, что убьет меня.
Хочется спать.
22 [ноября]
Жизнь на колесах. Собрались ехать в Архару. Ехать — это надо, конечно, понимать относительно.
Так и на сей раз. Предварительно — 5 километров пехом до подъема, где поезд идет тихо и можно вскочить на ходу. Оставшиеся 12 км на «Экспрессе», что возит дрова и лес, с ветерком. Политрук вспоминает Соловки. Власть «Соловецкую, а не Совецкую». […]
Бывает же дурацкое положение, и никакой устав не подберешь.
Я приехал в «абиссинке» и, наверное, хорош, потому что начальник спрашивает:
— Что это такое?
Собрались смотреть помполит, адъютант и весь штаб. Тут еще пом. нач. ВОХР по политчасти. Что ответишь? Взяли с писаря штаба шлем и надели на меня. У парня в этом шлеме было утешение, и этим сглаживалась его жизнь. А тут так просто и легко разрушилась одна из утех и радостей. Мое положение как командира. Я бы так не сделал.
23 [ноября]
Еще один день списан с жизни без цели благодаря военной дисциплине. Что, если прочитает 3-я часть или политчасть эти строки? Они поймут со своей точки зрения.
Иду по производству, работают женщины. Ругаются и малым и большим загибом и сибирской трелью. Черт возьми, до чего может опуститься женщина. Они площадную ругань считают за шик, за ухарство. Испытываешь отвращение как к женщине. Здесь и Соловецкая власть уместна.
А природа чарует своей красотой, своей дикостью. Необъятно далеко уходит склон сопки, теряясь в лиловой дали. Дрожь пробегает по телу, чувствуя этот простор, эту малонаселенность, эту не тронутую еще человеком природу. За ближней сопкой — сопки, дальше еще сопки, еще и еще и, насколько хватает воображения, до самого Ледовитого океана. Чувствуешь, что ты хозяин всего этого. Хочешь — селись и живи, сей, паши, коси, сколько хочешь, сколько можешь, без предела и без края.
24 [ноября]
Знаете вы восход солнца в сопках?
Мрак пропадает сразу, как-то неожиданно смотришь в одну сторону, темно, повернулся, закрыл на мгновение глаза — и сразу день. Как будто свет подстерегал вас, ждал, когда вы откроете дверь, и он войдет, перламутрово-переливчатый. Солнца еще нет, а небо пылает не только на горизонте, а все. Небо горит, колеблется небо, как сцена театра под опытной рукой мастера, по ходу действия окрашивается во все цвета. Взрываются ракеты, стреляя лучами света из-за вершины сопки. Тишина, торжественная тишина, такая, как будто сейчас произойдет священнодействие, как будто сейчас совершится что-то такое, что не случится без тишины. Тишина все нарастает, а небо достигает наибольшей красочности, апогея. Общий свет не прибавляется. И… сразу из-за сопки выплыл огненный шар солнца, лучезарно теплый, а навстречу ему грянул птичий хор.
День наступил. Начался день, а с ним все подлости. Одна из подлостей: на ф-ге драка, дерутся бабы. Бьют бывшую н-цу ф-ги и убивают. Мы бессильны помочь, нам на ф-ге применять оружие запрещено. Мы не имеем права ходить с оружием. Все они 35-цы, но все же жалко человека. Эх, дорвемся, попадут, где мы правы, раскаются. Накипевшее прорвется. Черт знает что, а не третья часть, нас жмут, дают срока, правильно или неправильно применено оружие, а з/к за убийство — ничего. Ну уж ладно, пускай з/к сами себя бьют, нам не пачкаться в ихней крови.
25 [ноября]
После производства прошелся по сопкам. Следов много, а коз ни одной. Приехал нач. отряда. Как будто все в порядке, но нельзя же похвалить.
26 [ноября]
Второй день устаю здорово. На охоте в сопках.
Долго ходим и ничего не видим, кроме следов. Поднимаемся по тропинке на сопку. Слышу шорох сухих листьев, оглядываюсь — скачут две козы. «Смотри», — говорю сзади стоящему стрелку. Козы услыхали и в сторону. Я прикладываюсь, мажу. Второй раз тоже. Он тоже мажет. Первый раз вижу и стреляю по живым диким козам.
В общежитии стрелка Сигитова [неразборчиво] разыгрывают:
— Умирать в Архару убежали, место искать! Ты бы им скомандовал — ложись! А потом стрелял!
27 [ноября]
Так вот и живем. 4 м комната, топчан с сенным матрасом, казенное одеяло, стол на трех ножках да одна скрипучая табуретка, у которой каждый деть приходится кирпичом заколачивать выезжающие гвозди. Керосиновая лампа с разбитым стеклом и бумажным, из газеты, абажуром. Полка из куска доски обтянута газетой. Стены частью голые, частью оклеены бумагой от цемента. Всегда сыпется с потолка песок, и щели в оконных рамах, в двери и пазах стен. Буржуйка. Пока топят, то одному боку тепло. Что к печке — то на южном полюсе, что от печки — то на северном. Столько, сколько сжигаем дров за сутки в здоровом помещении — была бы баня, а у нас даже не прибанник. Выбросят как не нужного, не соответствующего. А за что, спрашивается, я должен стать жертвой, как многие? Отупеешь, одичаешь, осолдатишься и т. д. Прогресса ни как командира, ни как человека, не чувствуешь. Ну и живи.
28 [ноября]
На улице и в помещении холодно. Холодно и безрадостно на душе. Что это за служба, когда никакого желания, никакого стремления к ней нет. А почему? Да потому что ни бытовых условий, ни культурных нет. Нет даже и разговоров среди начальства о них. Сегодня стоим перед фактом неимения дров. Приходится приказывать, зачем мне все это? Почему так получается?
Коченеют руки. Где забота о командире, где громкие слова. Если бы хотя в сотой доле от сказанного Ворошиловым мы в БАМе получали, то и это бы давало надежду. Вторая пятилетка, Максим Горький, Клим Ворошилов и т. д. Самолеты — уникумы, а у нас нет минимума. Эх. Одна отрада, что на фронте хуже было. Утешеньице. Ложимся спать под два одеяла, под кожпальто да под полушубок.
Я никак не могу найти свое место в системе БАМ и думаю, что нет такого. Для крестьянина другое дело. Он кое-что почерпнет, узнает, научится. Хотя я тоже почерпну безалаберности, научусь относиться аховски ко всему. Научусь не попадать впросак.
29 [ноября]
Вот она пустота. Записать и отметить нечего. Да и само настроение пустое. Все безразлично: даже если будет побег, то не поеду, черт с ним, в конце концов. Не волнует сноровистая работа женской бригады на балласте. Не волнует стремительный бег поезда на поворотах с клубами дыма. Не волнует даже лиса, не возбуждая охотничьего азарта. Равнодушен к режущим ухо неверным нотам игры на балалайке. Что это, в конце концов?
30 [ноября]
Южный ветер принес тепло, всего 16°. На небе облака. Идем с политруком на охоту. До ближайшей сопки кажется рукой подать, но пока идешь, нагреешься, километров пять.
И так целый день. С сопки на сопку, из пади в падь, заманчиво. Следы коз витками — узоры на снегу. Тут петли, зигзаги и треугольники, все переплелось, перепуталось, иногда образуя какой-то восточный орнамент, иногда как бы надгробную надпись эфиопского царя. Ходим часа три, то поднимаясь на круги сопок, то пробираясь по мелколесью, то опускаясь в пади. Иногда попадет место величиной с решето с растаявшим снегом, это лежала коза. Но самих коз нет. Хотя бы в насмешку одна пробежала.
Как-то сразу из-за выступа сопки появилась землянка, а за ней и избушка на курьих ножках. Кругом штук сто ульев, пасека. Подходим. На двери не только нет замка, а даже ничем не завязано. Часть имущества лежит под навесом. Тут столярный инструмент, крышки ульев, бидоны, хозпосуда и т. д. В избе тепло. Штук пятьдесят бидонов с медом, весы, домашняя утварь, продукты. Заходи и ешь. Вот они, сибирские обычаи и честность. А кругом тайга. Дубы. Сломанные бурей, спиленные, упавшие от старости, полусгнившие, вросшие в землю. Приволье и простор. Еще четырехчасовое хождение безрезультатно.
Устали. Политрук едва дошел. Обед и отдых.
Приходит завхоз и радует: «Можно в баню». Это у нас праздник, это радость.
31 [ноября]
Сегодня выходной. Иду снова на охоту. И снова пустой. Даже стрельнуть не во что. Холодно, 29°, ветер обжигает лицо и руки. Красивы деревья в инее. Телеграфные провода обледенели и на солнце кажутся огненными нитями. Никаких дум. Правда, промелькнула одна: когда-нибудь и я приеду в Москву.
Да, хотя бы надежда остается, хорошо.
1.2.3/XII
Не брался за дневник, некогда. Два дня ездил по отделениям. То побеги, то еще хуже, на одной ф-ге сделали взрыв.
4 [декабря]
Не успел встать — снова побег. Надо завтра ехать. Пришить бы человека три на ф-ге и ша, не побежали бы. Побеги закрывают все, всю жизнь. Вот собачья служба — ищи, как ищейка, да крути всех и вся. Сунул одному сутки ареста.
5–6 [декабря]
5-го в разъезде. Если дальше так пойдет, до чего это дойдет. Ну, получишь срок, скорей демобилизуешься.
- Зорька загоралась над вершиной сопки,
- Обещая радостный денек.
- Небо голубое, что глаза у милой,
- А заря — румянец алых щек.
Но прислали сводку… Эх!!!!
[…] Да.
Злобой омрачается радостное чувство, Желчью обольется, заболит душа.
7 [декабря]
Все же я врастаю в БАМ. Незаметно обстановка, обычаи, жизнь, засасывает. Да, пожалуй, иначе не может и быть.
Занялся, было, ленинизмом, но во вред, потому что резко подчеркиваются наши условия. Чем заняться, чтобы дало пользу? Нечем. Полученные знания, не преломленные на практике, не нужны. А у меня нет человека, с кем можно поговорить, пошутить, поспорить. Плохо чувствовать себя выше всех среди низших. Хорошо чувствовать себя выше всех среди равных.
Там ты борешься, добиваешься, стараешься удержаться на положении. Тебя поджимают, погоняют, ну и держись. Через год на меня будут смотреть так, как я сейчас смотрю. Жутко, это факт, но какой выход?
8 [декабря]
33°. Мороз, ветер и снег. Буржуйка, наше спасение, буржуйка, южный полюс. Как странно во второй пятилетке употреблять такое слово, да еще жить, употребляя само устройство, «механизм». Потухает, ну и тепло пропадает. Чудно, сидишь в полушубке, одетом на одну руку, на один бок, тот, что к двери. А бок, что к печке, горит, потеет. Может быть после, дома, и интересно будет вспоминать, но сейчас, мерзко.
Над сопками вихрь, пурга. Молочно бело все. Силуэты деревьев как будто ходят. Это потому что то там, то здесь пурга редеет. Но снова шквал, снова языки сухого колючего снега. Впиваются тысячами, миллионами змеиных жал. Сучья, толщиной в руку и больше, на морозе ломаются легко и свободно. Спишь крепко, сон освежающий, воздух чист и морозен, даже иногда со снежком. Замечаешь, как колышется учебная программа на стене. К обеду натянуло 40°. Хватает за каждую обнаженную часть тела. С каким вожделением глядишь на поленья, дрова, ища в них радость жизни — тепло. В комнате холодно до того, что мокрая рука пристает к ручке двери. Мыло не мылится. В начале тает от тепла руки, а потом мылится. Дым от паровоза не расходится, а долго висит клубами как вата. Перемешиваясь с паром, образует хлопья снега, сплошную пелену, которая наподобие марли застилает окно.
А ребята устроили джаз. Дудки, сопелки, балалайки, трещотки. Музыка тоже согревает в прямом смысле.
А з/к бегут. Свобода. Свобода даже в голоде и холоде дорога и незаменима. Хоть день, но не в лагере. Да и я тоже не против хоть день провести вне службы.
9 [декабря]
Ночью 42°. Но тихо-тихо. Воздух стеклянно звонкий. Сухо хрустнул выстрел. Кажется, расколется воздух как стакан, развалится, рассыплется вдребезги. Земля дала трещины, местами шириной с ладонь. Холодно так, что даже рельсы и те лопаются. Сухой треск — такой, который сравнить не с чем.
Селектор и сообщение дежурному по станции:
— Т. дежур., лопнул рельс на 755, задержите поезда!
Кипит и спорится работа. Привычна аварийная бригада. Молча и уверенно каждый делает свое дело, а люди в поездах и не знают, что их жизнь просто и спокойно, деловито, без пафоса, сохранила бригада. А так во многом люди, делая обычное дело буднично просто, являются героями.
Прошелся до Журавлей. Холодно убийственно. Полушубок не гнется на морозе. Валенки, как деревянные колодки. Ни единой птицы.
10 [декабря]
Вода в помещении замерзла. Умыться нечем. В один глаз плеснешь из кружки, другой сам откроется. 45°. Поезда идут тихо. Лишь луна, надсмехаясь над нами, величаво спокойно скользит…
- Взошла над сопками луна, двурогая и бледная,
- Подтверждая лишний раз что холодно и ветрено.
- Качаются столетние дубы, ломая с треском сучья.
- Зверье запряталось по норам, суровый холод чуя.
Весь день в помещении, но одевши. Печки и те не осиливают холода. Замерзли чернила. Спишь в рейтузах и трениров. гимнастерке-рубашке. Волосы на голове примерзли к холодному поту на лбу.
Ничего себе удовольствие. Хватит, довольно.
11 [декабря]
Ну, вот и 47°. Что-то вздулась одна щека, да и на лбу около глаза припухает. С такого мороза весь вспухнешь. З/к работают, скалывая часть насыпи. Все же блат — великое дело. Как с ним бороться, да и надо ли? Без блата я, может быть, получил бы воспаление легких и даже хуже, а в блате есть спасение.
Подшили валенки, хорошо и быстро. Это все хорошо, а впереди три с половиной м-ца холодов. Никакого выхода. Нечем, да и достать обшивки для стен негде. Нет и пакли.
Получил письмо из ДУВРа. Люди не дорожат жизнью, находясь в гражданских условиях. Когда дома и на работе тепло, когда человек сыт, все идет по порядку. Знает, что он сам себе хозяин, тогда стремиться не к чему, ну и скучает. А когда думаешь, скоро ли кончится все это, когда же отдых, где домашний минимум, когда же я хоть временно буду сам планировать свое время, когда не будет тяготеть над головой меч Ревтрибунала? Когда я могу пойти и купить, в любой час что хочу, ну, [хоть] белого хлеба. Будешь дорожить жизнью. Знаешь, что каждый прожитый день сейчас потерян в жизни.
12 [декабря]
Ночь проспал в тепле. […] День провел в ходьбе.
45 километров. Подшитые валенки два дня назад после ходьбы худые. Спать лег в 4 часа утра.
13 [декабря]
Снова на трассе. Еду в Домикан верхом. Эх, Аника-воин.
Нач. ф-ги хочет, чтобы мы ему подчинялись. Странно. Может быть, он захочет, чтобы прокурор ему подчинился. Стрелок поет «Мурку», приятный баритон. Берет за сердце.
Бессонная ночь сказывается, клонит ко сну. Глаза форменным образом слипаются. А тут — то посадить одну, то неясное дело с побегом, то конфликт с нач. ф-ги, то на ф-ге порезались, то сделали какой-то укол, умирает. Вот, черт возьми, чтобы их взорвало! А жизнь не ждет, жизнь идет, и прошедший день не вернуть. Что я получил за сегодняшний день? Ничего, верней — потери. Нет, для многих лагеря не исправительные. Бухгалтер ф-ги имеет срок пять лет, а туфтит, на что надеется, чего ждет? Дождется.
14 [декабря]
Светел, радостен, солнечный денек. А морозец знатный, 34°. Скоро зеленый прокурор придет! Такие разговорчики уже появляются. Плохо вы сделали без мужиков.
15 [декабря]
Протяжный гудок бамовского паровоза. Стоп. Остановился странного вида поезд. Товарные вагоны обшиты вторым рядом досок, в люках стекла, на крыше труба, дымит, что твой паровоз. На тормозах чего только нет. Колеса походной кухни, кипятильные бочки, кипы сена, брезент, ведра и котлы. По вагонам человеческие голоса, лошадиное ржание, хрюканье свиней и коровье мычание. Люди в бушлатах в полушубках, люди в валенках и абиссинках, все мужчины на вид, но много женских голосов. В чем же дело?
Вот в чем — все женщины, одеты по-мужски. В первую очередь на земле кипятильник и котлы. Рогатки костры, и готов чай. Звон котелков и мисок, звон ложек, кружек, ведер. И смешно, и чудно кажется, как это люди приехали, остановились среди поля и чувствуют себя, что дома. Раздается песня, бесшабашно веселая. А в другом конце поезда гремят лопаты, ломы, кирки. Кузнец уже раздувает походное горно.
Повар с картошкой на спине, прачка с бельем, конюхи с сеном, с ведрами. Режут близстоящие деревья, колют. Умываются, выколачивают сенные матрасы, вытрясают одежду. Кто просто разглядывает местность, кто выбирает деревцо посуше на дрова, а кто, может быть, думает о родине, вспоминая знакомые места, кое-кто может быть о побеге мечтает, разные люди, разные мысли.
Группа стоит и курит, группа о чем-то спорит. Один убедительно что-то доказывает, размахивая руками, ежеминутно поправляя сбивающуюся шапку. Смачно сплевывают в сторону, кряхтят и покашливают. Три человека уходят вдоль линии, что-то разглядывают, топают по земле ногой, показывают то на насыпь, то на рельсы старого пути. Показывают шестом далеко и кругом. Люди провожают глазами руку, поворачиваются, что-то соображают, записывают.
Так начинает свою жизнь ф-га.
Через день в нескольких метрах от ж. д. будут палатки, бараки, землянки, целый походный город. Оживая по утрам, затихая на день и снова оживая вечером. Не смотрят и не говорят, что здесь лучше или хуже, везде одинаково. 3–5 месяцев проживем, а там дальше перезимуем, летом каждый кустик пустит.
— Мама! Мама!! — слышится крик.
Это не дочь или сын зовет мать, нет. Это тридцатипятники так величают бригадиршу. Среди мужчин нет такого коллектива, нет спайки всей бригады. У женщин другое дело, но только у 35-ых. Тут воровской коллектив, тут воровские обычаи и порядки, тут бригадир — атаман, пахан, мама. Мама заправляет всем и всеми, мама бьет, мама милует, мама не пускает на работу, мама кормит или заставляет голодать. Мама все.
Мужчины держатся особняком, редко вдвоем. Карты, выигрыш или проигрыш, чувство собственности ставится выше дружбы. Карты делаются в течение 10 минут. Поэтому хоть отбирай, хоть нет, результат один. Проигрывают все. Проигрывают склады. Значит, жди ограбления, проигрывают сказать начальству похабщину, проигрывают части своего тела, пальцы рук и ног, руки. Проиграв, рубят при всех палец или руку и бросают на стол со словами: «Пейте мою кровь, паразиты!»
16 [декабря]
Уезжает 10-я авто. Нач. отряда приказал присутствовать при отъезде. Топай 13 километров туда, да обратно 13.
Д. Черниговка. Серенький зимний день. Небо низко. То там, то тут дымят трубы домашних печей. Дым спокойно-спокойно столбом уходит в небо, сливаясь с фоном. На улице ни души. Тишина. Журавль колодца высоко над хатами поднял шею, стараясь заглянуть за деревню и предупредить всякого: «Не шуми!» Какой-то особенный запах дыма, запах простых горячих щей и тепло хаты, неторопливый разговор хозяина, создают покой на душе. А тут — шагай по шпалам. Неужели я так просто лишен даже такого «счастья» жизни.
Вот как мелочны становятся наши стремления и желания. И верно, что мы республика на колесах, что мы фронт, что мы пока не имеем права, не можем жить достижениями 1-й и 3-й пятил., свободной торговли и т. д. Сколько еще строительств? Сколько преступников? Необъятен сибирский край, работы хватит.
Многие нач. отрядов пьянствуют, думая этим получить увольнение. Что ж, они правы, я думаю. Что-то я буду изобретать после года службы.
17 [декабря]
Разговоры и разговорчики, то едем на восток, то на Волго-Дон, то на Алдан. Нечем отметить день.
Пустота, пустота, а не покой.
18 [декабря]
День командирских занятий. То вызывает 3-я часть, то штаб отряда. Обменял коняку. Говорят — огонь монгольский. Правда, нескладен на вид, да на ходу ладен. Попробуем иноходца. Вращаешься, кружишься среди людей, за делом и не видать время. У селектора в конторе ф-ги. Прокопчено керосином, прокурено, пахнет потом. Лениво, нехотя поворачиваются плотники, чинящие перегородку. Вот она, бесплатная работа.
19 [декабря]
Оказалось что конек — огонек. 36 километров рысью. Ночь и холод. Еду верхом по обочине сопки, темно. Силуэты кустов, телеграфные столбы, встречный поезд и мороз. Мерзнут колени. Воротник полушубка заиндевел, смерзаются веки. Ночь в инее. Вскидывает голову, храпит, ведет ушами. Мороз забирается в рукава. Перчатки в инее от тепла рук. Не хочется ни ворочаться, ни шевелить руками. Всякое движение нарушает тепло тела.
1 ч. 30 мин. ночи. Я «дома». Кружка чая с блинами, да, с блинами, и спать. Сон в первую очередь. Со сном забываешь всех и вся. Холодно раздеваться. Холодно ложиться. Бывает холодно и ночью. Греются ночи от стоящей печки, приятно.
20 [декабря]
Провал в памяти.
21 [декабря]
С час канителились, чтобы сбить намерзший навоз с копыт коня, не дается, бьет и задом и передом, вот черт монгольский. В седле и понес. До Журавлей и обратно рысью и галопом. Догонял пом. по КВР, но ничего не вышло, сел его высокий рысак.
Вторая половина дня в разъезде по отделениям. Празднуют в центре годовщину ВЧК […] а мы тоже празднуем, надо кончать вторые пути, скорей-скорей и не до праздника, даже нет выходного. Я не чекист и не претендую на звание, но дайте мне простые гражданские условия. Отобрал колоду карт и всю типографию, да 20 км пешком — вот и весь праздник.
Как и вчера, день безалаберный. «Дома». Сшибло поездом бригадира, отрезав ухо и мякоть бедра. А путь доделывается, скоро и нам сматываться куда-то. Конечно, хорошо бы в Россию. Довольно интереса, довольно Дальнего Востока, хватит.
23 [декабря]
Весь день делаю бильярд. Есть побег на 29 ф-ге, но не еду, будь что будет. Назначили мне помкомвзвода. Посмотрим, наверно…
24 [декабря]
Приехал пом. Как будто ничего, раскусим. Дам, что могу. Пусть учится, мне легче, а, может быть, смена. Сходил на 13-й с ним, сходил на Улетуй. Приходит и незавидная на вид з/к.
— Отпусти в Архару.
Не пускаю. Сразу пропадает ангельский голосок. Сразу зверь.
— Не пустите! Отрежу кому-нибудь голову и принесу вам. Стреляйте.
Что ж, надо будет — расстреляем.
25 [декабря]
Побег, да какой, групповой — семь человек. Ну и черт с ними. О путеармейцах больше заботятся, чем о нас. Как будто я большой спец и мне не нужна помощь и руководство. Пожалуй, и не нужна помощь, но надо же как-то интересоваться командирами. Удивляются, что отпускники пьянствуют. А что можно делать? Ни дома отдыха, ни даже ночлежного дома. Примерно, приехал я в Свободный, где остановился на 2–3 дня. Где повидаться с товарищами? Надо мне разрядиться. Надо мне просто пошутить, поржать настоящим животным смехом, подурачится, рассказать анекдот. Где все это сделать? Где свой круг командиров? Нельзя же так вести себя с бойцами, потому что мы, командиры, и стрелки, смотрим на вещи разными глазами.
Вот приказ начотряда. Халатность и т. д. Что ж, я сам хочу себе статью заработать, что ж, я сам себе враг, что ж, мне не хочется быть спокойным?
Ну, допустим, что халатность, а почему? По-видимому потому, что не чувствуешь общей целеустремленности, не чувствуешь и не имеешь стимула, потому что вся организация ВОХР — черт знает что. Не разберешь что делать, как делать, почему делать. Иногда ты абсолютно прав, иногда ты в точно таком же поступке абсолютно виноват. Хочется и хорошо служить, но в тоже время думаешь — будешь пожизненно в БАМе, к черту это дело.
Одни газеты изведут. Пишут там — то, там — то, а у нас? У нас тоже то одно, и то одно, и то, побеги, и побеги, аресты, Ревтриб. Вот радость и утешение.
26 [декабря]
Приехал вчера в два часа ночи. Мороз, ветер, а в помещении, эх, лучше и не говорить. Утром доделываю бильярд, а с обеда на 13 ф-ге на Журавлях. Накачивай — жми. Да какой брехун стал. Здорово получается как.
Едешь на коне, а путеармейцы идут. Идут сотни. Дежурный по производству один. Ну, решат уйти 10–20 ч[еловек]. Что сделаешь? Нападает отчаяние, тоска, безнадежность. Кажется счастьем, мечтой лучезарной побыть в деревне, даже не в Москве.
Забыться обо всех 59–3, 58 [неразборчиво] […] и т. д.
27 [декабря]
Уполномоченный 3-й части Морозов. Что может сделать, какие дать указания, не зная обстановки, не имея представления о положении, о проведенных мероприятиях, не зная того, что мы перепробовали все, что мы не враги же себе и не хотим зарабатывать ни нарядов, ни арестов. Всякий только ругается, всякий только наказывает. Уполномоченный ругается, помполит ругается, нач. отряда ругается, нач. 3-й части ругается. Все ругаются. Но кто же должен посоветовать, разъяснить, помочь? Некому. Делай — и только.
Вот руководство, чекистское. С обеда и до 1 ч. ночи пехом на 14-ю. 26 километров. Теплый ветер и редкий мокрый снег. Теплый по-нашему, 27°. Вынутая из перчатки рука коченеет. По пути прихватили художника. Без шапки. Пьяный. Просит сам довести на ф-гу 7. Что ж, доведем и посадим.
28 [декабря]
С утра ждешь к. о. на занятия. До обеда нет. Два часа тактики и геометрии.
На ф-ге шум и драка. Иду. Сажают двоих, за рукав, в охапку да в камеру. Ударили по глазу Осипову и здорово, жаль, что не мне, шлепнуть бы одного, присмирели бы. Вот нач. отряда «наверно» не видит и не знает, что и как. Поработай, узнаешь. Руководить все умеют, плохо ли хорошо ли, а умеют. Спрашивать же — все хорошо спрашивают.
Как же все-таки избавиться от БАМа? Думай голова, картуз куплю. Но и думать-то некогда. Все же придумаю, избавиться надо. Запьянствовать — отпадает, в 1-е отделение попадешь. Как бы, чтобы по несоответствию уволили. Нет случаев увольнения к. в., если будут, подберем себе. Скомбинируем.
29 [декабря]
Во всяком деле большое значение имеет случай и настроение человека, от которого зависит успех того или иного дела. У меня пока что нет случая, пожалуй, рано ему быть, но — случай, прежде всего, случай.
Если попадет, то, пускай рано, — воспользуемся.
Постепенно сворачиваются ф-ги. З/к едут домой. Я представляю себе их настроение. Каким глубоким сном, чудовищным и диким кажется им лагерь. Так же он кажется и мне. Я до сего времени никак не могу представить себе, что я в лагере. Здесь ни знаний, ни общего развития не надо. Нет побегов, ну и все в порядке. Приехал в Архару. Дыра так дырой и есть. Приедешь, негде побыть 1–2 часа. Холодно, 37°.