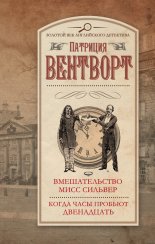Форт Росс. Призраки Фортуны Полетаев Дмитрий

Дом на Английской набережной, перед парадным подъездом которого остановилась карета, соответствовал району своего месторасположения. Роскошный трехэтажный особняк компактно втиснулся между тесно прилегавшими к нему такими же мини-дворцами.
С улицы хорошо были видны роскошные хрустальные люстры, заливающие светом окна второго этажа. По-видимому, это бальная зала, насколько Четырнадцатый мог судить с облучка экипажа.
Поправив накладную бороду, молодой человек соскочил на землю и открыл дверцу кареты.
Ему навстречу вполне довольный собой вылез Сайрус. Дмитрий, который до этого смотрел в окно, повернулся и уставился на Четырнадцатого с немым вопросом в глазах. Четырнадцатый ободряюще ему кивнул, хотя что делать дальше, он тоже не очень понимал, предоставив событиям возможность развиваться своим чередом. Сайрус между тем уже громко стучал в дверь подвесным молоточком.
Откинув ступеньку, Четырнадцатый помог Дмитрию выбраться и теперь, поддерживая его под руку, стоял рядом с ним за спиной Сайруса в ожидании того, что будет дальше.
По-видимому, их ждали. Дверь почти сразу распахнулась, выплеснув свет, шум и гам переполненного гостями дома. Бросалась в глаза огромная мраморная лестница, уходившая ввысь и заполненная спускавшимися и поднимавшимися гостями. Вдоль перил, перевитых гирляндами живых цветов, стояли лакеи в позолоченных ливреях. Мужчины в черных фраках, офицеры в зеленых и белых парадных мундирах, увешанные аксельбантами, орденами, разноцветными лентами, и дамы в открытых длинных платьях всевозможных расцветок и оттенков, от белых и розовых до нежно-голубых и лиловых, сверкавшие декольте и бриллиантами, переполняли помещение.
Откуда-то сверху доносились звуки музыки. Играли концерт Баха для двух скрипок и струнного оркестра в ре-миноре…
Все это мозг Дмитрия отмечал совершенно автоматически. Контраст с уснувшей улицей или, точнее, по определению Четырнадцатого, еще не проснувшейся, был разительный. Ослепленный ярким светом и обалдевший от шумного веселья, Дмитрий не сразу обратил внимание на даму, которая стояла за двумя здоровенными лакеями, отворившими дверь.
Сайрус отступил чуть в сторону и, склонившись в галантном поклоне, наигранно, как статист плохого провинциального театра, произнес:
— Восхитительнейшая Ольга Александровна, ваше повеление исполнено! Принимайте вашего героя! Не обессудьте, если по ходу дела его пришлось слегка помять…
Дама слегка отступила, как бы приглашая их войти, и яркий свет озарил ее лицо и фигуру. Нежно-персикового оттенка атласное платье, увитое ажурными лентами и бантами по пышному кринолину и усыпанное блестками, засверкало в свете канделябров. Глубокое декольте открывало высокую грудь до пределов возможного. От этого великолепия и так-то было трудно оторвать глаза, а тут еще на левой груди дамы кокетливо пристроилась то ли родинка, то ли мушка, которая гармонировала с такими же на шее и на щеке.
Так, по родинкам, взгляд Дмитрия поднялся до лица красавицы, которое обрамляли белые букли сильно напудренных волос, перевитые жемчужными нитками.
От неожиданности Дмитрий вздрогнул и громко вскрикнул. Ноги его подкосились. Волнения последних двух часов да и физические страдания вдруг навалились на него. Паркетный пол прихожей вдруг вздыбился и рванулся ему навстречу…
— Ленка! — последнее, что он смог выдохнуть, прежде чем потерял сознание.
Все дальнейшее произошло в считаные доли секунды. Четырнадцатый дернулся вперед, чтобы поддержать Дмитрия, но Сайрус опередил его. Заграбастав обмякшего Дмитрия в свои объятия, он буквально ввалился вместе с ним в дверной проем. Дверь, отсекая шум и гам праздничного веселья, захлопнулась перед самым носом Четырнадцатого. Некоторое время ему казалось, что музыка все еще доносится до него, но вскоре она стихла. Вокруг опять воцарилась полная и теперь уже кажущаяся неестественной тишина…
Несмотря на мороз, Четырнадцатый вдруг покрылся испариной.
— Барин, а деньги! — бешено заколотил он в дверь кулаками.
Лихорадочно работавшее сознание, казалось, само подсказывало нужные фразы. Хотя нутром Четырнадцатый уже чувствовал, что это бесполезно. Внутри дома стояла такая же полная тишина, как и вокруг. Совершенно машинально, в какой-то прострации, он продолжал отчаянно колотить в дверь.
Наконец послышался шорох, затем звук отпираемых засовов, и в дверном проеме показалась заспанная физиономия.
— Тебе чего?
На агента ФСВ в недоумении уставилось помятое лицо дворецкого с взъерошенными бакенбардами. Было видно, что стук в дверь прервал послеобеденный сон лакея. За его плечами виднелась все та же мраморная лестница, взбегавшая вверх, правда, теперь она была абсолютно пустынна и погружена во мрак, и судя по всему, уже очень давно. Хрустальные люстры были задрапированы в чехлы. Канделябры давно никто не натирал — бронза потемнела и покрылась темными пятнами. Скромно освещенные несколькими свечами обширные покои пустынного дома тонули в полумраке и выглядели зловеще и неприютно.
— А где барин? — на автомате задал вопрос заспанному лакею Четырнадцатый.
— Какой барин? Барыня у нас… — с перепугу начал было дворецкий, но остановился. Растерянность его стала отступать.
Видя, что за взлохмаченным бородатым кучером из черной кареты не показалось ни городового, ни жандармов, привратник приосанился. Маленькие бегающие глазки его под кустистыми бровями засветились злобой сторожевого пса.
— Ты чё это, рожа нечесаная, благородных людей беспокоишь?! Надрался уж где-то! А вот я тебя сейчас да в жандармскую! — начал накручивать обороты надувавшийся важностью дворецкий. — А ну, пошел отседова!
Но Четырнадцатый его уже не слышал. В его мозгу запоздалой догадкой «мигало» только одно слово: «Портал!»
Это был один из тех редчайших случаев в его жизни, когда он не знал, что делать.
Часть пятая
Между прошлым и будущим
Беспокойся не о том, чтобы создать благоприятные возможности, беспокойся о том, чтобы их не упустить.
Герцог Франсуа де Ларошфуко
Глава первая
Таланты и поклонники
Ольга Александровна Жеребцова могла быть недовольна чем угодно, но только не той ролью, которая была ей уготована, казалось, с самого момента ее рождения. В свои не полные двадцать два года она излучала такой блеск славы, богатства, успеха и всеобщего поклонения, что этому могла позавидовать любая придворная красавица. На призывный, слепящий свет, исходивший от нее, слетался, как мошка на горящий в ночи фонарь, весь великосветский Петербург.
Не было сколько-нибудь значительного вельможи или собиравшегося таковым стать придворного, который не спешил бы оказаться в шумной толпе ее поклонников и почитателей. Который не стремился бы занять место в прихожей, перед золочеными дворцовыми дверьми, откуда должна была показаться Она. Который не томился бы надеждой подать ей конец случайно оброненной шали или оказать еще какую-нибудь, пусть самую незначительную услугу, лишь бы только предстать пред взором ее всегда насмешливых, пронзающих насквозь, невозможно-прекрасных глаз. Поговаривали, что сама императрица полюбила уединяться с ней в своих покоях, чтобы обсудить дела, которые мужским ушам обычно слышать не пристало.
Злые языки поговаривали, что всем своим невиданным успехам Ольга Александровна была обязана исключительно «головокружительному карьеру» ее родного брата — Платона Александровича Зубова. И в этом, безусловно, была доля истины. Однако достаточно было узнать Ольгу Александровну чуть поближе, чтобы признать — ее личные качества сыграли не менее важную роль.
Молниеносный взлет к вершинам власти и богатства всех Зубовых, даже на фоне других примеров эпохи екатерининских «временщиков», казался невероятным. Хотя если подходить к этому вопросу с философской точки зрения и помнить о том, что вряд ли что в жизни происходит «вдруг» или «случайно», следует заметить, что мало кто еще, кроме Зубовых, был в то время более «достоин» того, чтобы занять подобное положение.
И если все признавали, что дети у Александра Николаевича Зубова, ныне канцлера и обер-прокурора правительствующего Сената, и его благоверной супруги, Елизаветы Васильевны, как говорится, «удались на славу», то вот настало время, и Слава к ним и пожаловала!
Красота, как утверждали еще древние греки, есть не менее ценное проявление «божественного дара», чем добродетель или, скажем, доблесть. Разница заключается лишь только в том, что ежели прочие совершенства можно достигнуть с возрастом или развить в себе при известном прилежании и упорстве, то красота — она либо есть, либо ее нет! И если ее нет, то тут уж, как говорится, мало что можно поделать для исправления ситуации.
Не зря с незапамятных времен люди, наделенные этим «талантом», привлекали внимание и пользовались повсеместным преклонением наряду с богами и героями. Все понимали: «Сие есть дар Божий!» — а значит, и носитель этого дара — человек особый, отмеченный свыше. Ведь вся заслуга Париса только в том и заключалась, что он был необычайно красив. Никакими другими достоинствами он не обладал. А тот факт, что он, скрываясь за толстыми стенами Трои, навлек таким образом на родной город гнев диких ахейцев, так и вовсе указывал на трусость и низость его души. И все же одной лишь красоты ему оказалось достаточно, чтобы навсегда войти в сонм бессмертных героев, а три богини по собственному желанию явились именно на его суд.
Николай, Дмитрий, Платон и Валериан Зубовы были писаными красавцами. Но как бы доказывая, что это еще не все их достоинства, они, несмотря на сравнительно молодые годы, значительно преуспели по службе. Старший сын, Николай, был полковником конногвардейского полка. Дмитрий служил в том же полку секунд-ротмистром, что приравнивалось к званию майора в сухопутных войсках. Платон, даже до представления императрице, несмотря на свои двадцать лет, вот-вот должен был получить повышение в звании. Самый младший и, как все сходились во мнении, самый красивый, Валериан, от братьев не только не отставал, но где-то даже их превзошел, ибо служил адъютантом при штабе Суворова и находился у фельдмаршала на особом счету.
Поэтому осмелимся утверждать, что случай, который имел место во время Таврического вояжа императрицы, никак не повлиял на то, что произошло дальше. На наш взгляд, он всего лишь ускорил те события, которые и так должны были случиться.
Глава вторая
Оленька
Ревностное отношение отцов к своим дочерям общеизвестно. Порой в этом присутствует не столько здравый смысл, сколько слепая, всепоглощающая любовь, вызывающая беспокойство даже тогда, когда и почвы-то для волнений нет. К сожалению, у Александра Николаевича Зубова повод беспокоиться о судьбе дочери был.
В противоположностях находим мы подчас свое подобие, с изумлением понимая, что «вылитыми копиями» нашими оказываются чада противоположного пола. Зачастую все возьмет сын у матери, оставив отца своего настолько в стороне, что последнему ничего и делать не остается, как только почесывать в раздумьях затылок да хмуриться от того, что «не весть что люди могут подумать!». Или дочь вдруг окажется с самым что ни на есть отцовским, мужским характером. И если к тому же девица получилась привлекательной наружности, то горе всем, кто встретится на ее пути. Ибо не создала еще природа ничего более коварного и разрушительного, чем красавица с мужским складом ума.
Оленька Зубова, любимица Александра Николаевича, именно такой и уродилась. Но если матушка ее, Елизавета Васильевна, еще могла находиться в заблуждении по поводу характера ребенка, то отец чувствовал дочь с рождения. И с некоторым даже религиозным трепетом, крестясь незаметно на образа, не переставал удивляться, насколько она была его точной копией. И по характеру, и по привычкам, и по поведению. Ну, а уж зная себя, поводов беспокоиться за дочь у Александра Николаевича было достаточно.
Как и положено, бессонные отцовские ночи начались с достижением Ольги переходного возраста. В двенадцать лет Ольга выглядела на все шестнадцать, в пятнадцать — настолько уже налилась, настолько была готова к женской доле своей, что казалось: только ткни пальцем в пышные формы ее, и жизненные соки так и брызнут фонтаном. Большой знаток женской красоты, Александр Николаевич не без зависти смотрел на грудь дочери, ее длинные ноги и «совершенный», «фигурный» зад. «Ишь ты, кобылица-то какая вымахала!» — не без восхищения признавал отец. И если бы другой на его месте беспокоился о том, как бы подольше оградить свое чадо от неизбежного прозрения, Александр Николаевич догадывался, что ограждать надо будет не дочь, а от дочери. «Любовным аппетитом» она была в папеньку. Об этом ему намекнула еще ее кормилица Авдотья, крепостная Зубовых, обязанности которой в барском доме были гораздо более обширней, нежели те, о которых ведала простодушная Елизавета Васильевна.
Когда Оле исполнилось пятнадцать лет, «скрывать» дочь на женской половине дома стало и вовсе невозможно. Ростом она уже давно догнала братьев Николая и Дмитрия, а умом, как не без гордости отмечал про себя Александр Николаевич, так даже их превосходила. С детства старавшаяся ни в чем им не уступать, Оля прекрасно скакала на лошади, не хуже любого дворового мальчишки дралась на палках и была непререкаемым авторитетом для младших — Платона и Валериана.
«Ох, барин, страстью в тебя девка будет, — нашептывала на ухо отцу кормилица Авдотья. — Ужо давно по ночам томится, болезная!» По молодости Авдотья была любимицей в крепостном «гареме» Александра Николаевича. Именно за страстность, ненасытность и постоянную готовность к любовным утехам, до чего от рождения был дюже охоч Александр Николаевич, он ее и ценил. Поэтому Авдотье верил. Единственное, что отец не понимал, это то, как ему удержать в «ежовых рукавицах» свое преждевременно созревшее дитя, хотя бы до того момента, когда ее можно было бы, не нарушая приличий, отдать замуж. Об этом он не раз шептался с кормилицей, все еще по привычке любовно ее тиская. Авдотья прекрасно понимала, что если она не возьмет бразды «воспитания» барышни в свои руки, то девица, не дай бог, может натворить глупостей — строптивостью-то она была тоже вся в отца.
В деревне, чтоб не мучить девку понапрасну, ее бы тотчас отдали замуж. Но у «благородных» — Авдотья это знала — все было «не по-людски». Сочувствуя и всеми силами стараясь смягчить ее прямо-таки животные позывы плоти, кормилица перепробовала все народные средства, которыми издавна пользовались на Руси вдовы, солдатки и, естественно, девки, которые хотели таковыми остаться до замужества. Но ни отвар собранных по весне нарциссов, ни настой из лилий и кувшинок, которые на пруду собирали для барышни сердобольные бабы, ни чай из ивовой коры не помогали. Конечно, на некоторое время это все облегчало страдания Оли, но ненадолго. В крайних случаях в народе обычно прибегали к помощи какого-нибудь деревенского дурака, который завсегда находился в любом русском селении. Дурак — он и не разболтает по причине того, что к связной речи способностей не имеет, а ежели чего и ляпнет где невпопад, так кто его слушать станет. Дурак он и есть дурак. Может, отсюда и пошла поговорка, что дуракам везет? А самое интересное, что в обширном хозяйстве Салтыковых именно такой дурак, немой конюх, как раз и имелся. Звали его Селифан Кобылин. И он полностью оправдывал свою то ли фамилию, то ли кличку. К лошадям он имел особый подход. Родившись на конюшне не способным к речи уродом, одну особенность или даже талант Селифан все-таки имел, будто всосал его с кобыльим молоком, на котором и вырос. Лошади, казалось, принимали его за своего, слушаясь конюха во всем. Что уж там шептал Селифан на своем дурацком языке в мохнатые, подрагивающиее уши самым строптивым жеребцам, было тайной, да только жеребцы после этого становились что ручные котята — и объезжать не требовалось. Молва об умении Селифана общаться с лошадьми шагнула далеко за пределы салтыковских владений. Темный деревенский люд всерьез подозревал, что Селифан родился от кобылы, и тому была еще одна причина. Дело в том, что мужское достоинство конюха было размером точь-в-точь как у жеребца.
Некоторое время Авдотья раздумывала над своим планом. Советоваться ей было не с кем. Все должно было остаться в строжайшей тайне. И уж тем более ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы что-либо заподозрил отец. Кормилица немного беспокоилась, как бы дурак своей «оглоблей» не покалечил нежную барышню. Однако, незаметно поглядывая на округлый, здоровенный зад статной, пышущей здоровьем Ольги, кормилица пришла к выводу, что вроде как девица должна «сдюжить». Да и другого дурака под рукой не было. В конце концов Авдотья решилась. Когда, укладываясь спать, Оля попросила кормилицу рассказать ей в который раз, как она «мужней женой была» и как она с «Андрюшкой своим любилась, пока того в солдаты не забрали», Авдотья вместо этого как бы невзначай поведала своей воспитаннице, как солдатки обычно свою «мужнюю» нужду в их отсутствие справляют, пользуясь услугами чудо-конюха. Ольга выслушала, не перебивая, только нервный румянец загулял по ее щекам. Конюха Селифана Оля, конечно же, знала, но теперь она мысленно взглянула на него другими глазами.
На следующее же утро Ольга приказала своему казачку Федьке, восьмилетнему племяннику Авдотьи, запрягать для верховой прогулки. Да непременно взять лошадь из конюшни Салтыковых. Являясь единоличным правителем двух хозяйств, своего и управляемого им, княжеского, Александр Николаевич, как и его домашние, пользовался, естественно, обеими конюшнями.
Пустив лошадь галопам, чтобы освежиться, да заодно и успокоить бешено бьющееся сердце, Оля, когда усадьба скрылась за высокими липами, остановилась и приступила к осуществлению своего плана. Она достала мешочек с припасенными заранее жесткими колючками боярышника и рассыпала их под копыта лошади. Пустив лошадь прямо на колючки, девушка быстро добилась того, чего хотела, — лошадь захромала и стала припадать на заднюю ногу.
Оля поворотила лошадь к конюшне…
Глава третья
Оля
Не слезая с лошади, Ольга въехала в конюшню. Селифан сгребал в стожки и разносил по стойлам рассыпавшееся за время утренней выездной суеты сено.
— Ты что за лошадь мне дал, дурень! — властным и слегка охрипшим голосом окликнула Ольга немого.
Конюх повернулся и тупо уставился на лошадь, которая стояла, подогнув раненую ногу. Промычав что-то нечленораздельное, Селифан откинул вилы и затрусил к Ольге. Нагнувшись к копыту, немой подставил Ольге спину. Ни слова не говоря, Ольга огрела его что было силы плетью. Селифан завизжал от неожиданности и отскочил в сторону. Низко кланяясь, он что-то мычал, бешено тряся башкой.
— Я те сейчас покажу «не виноват». — Как будто понимая, что ей хотел сказать немой своими отчаянными жестами, Ольга спешилась и, размахивая плеткой, двинулась на Селифана.
— А ну, на колени, дурак!
Селифан, видя, что наказания не избежать, с покорностью вьючного животного рухнул на колени и, задрав рубаху, повернулся к Ольге спиной. Не совсем понимая, почему ей это доставляет удовольствие, девушка опять хлобыстнула Селифана кнутом по оголенной спине. К ее удивлению, конюх не только не завыл, но даже не пикнул. Он только что есть силы схватился за край корыта, которое валялось у стенки стойла, да так и замер на карачках, с задранной рубахой. Мышцы его на плечах вздулись и заходили от напряжения. Оля некоторое время с интересом рассматривала обнаженную мужскую спину.
— А ну, порты скидывай, дурак! — облизав пересохшие губы, опять скомандовала Оля.
Конюх обернулся и, открыв рот, как-то странно посмотрел на девушку. Затем осклабился и одним движением распустил узел бечевки, которая поддерживала его порты.
Оля еще никогда не видела голого мужика. Братья, с их худосочными задами, которых она вдоволь насмотрелась во время их летних совместных купаний в пруду, в счет не шли.
Не помня себя, Оля снова с оттяжкой хлестнула конюха, теперь уже по его белому заду. Ей сделалось невыразимо приятно и почему-то потеплело внизу живота. Она опять хлестнула его кнутом… И опять… И опять… На этот раз конюх что-то замычал. Не зная, что делать дальше, Оля остановилась и, переводя дыхание, откинула тыльной стороной ладони упавшую на глаза челку.
В этот момент конюх повернулся…
После рассказов кормилицы Ольга была готова к тому, что она увидит что-то необычное, и все же картина, открывшаяся ее взору, превзошла все ожидания. Конечно, она с братьями давным-давно уже бегала на скотный двор подглядеть, как быки покрывают коров или как к племенному жеребцу подводят кобыл. Видела она и то, как практически из ничего их органы превращались в орудия неимоверных размеров. Деревенская жизнь — не городская, недоросли созревают здесь и раньше, и быстрей, нежели их городские сверстники, у самой природы-матери беря первые, жизненно важные уроки. И все же к тому, что человек может обладать органом почти конских размеров, девушка не была готова.
Оля невольно ахнула и попятилась. Дурак сначала захихикал, а потом задрал вверх голову и заржал, как истинный жеребец, все еще стоя перед Ольгой на коленях.
Однако Оля отступать не привыкла. Ни слова более не говоря, она повернулась к мужику спиной, задрала юбку и тоже опустилась на колени. Последнее, что она слышала, это восторженное фырканье дурака, когда он схватил ее зад своими ручищами. Больше она не слышала ничего… Мир превратился в бесконечную, сменявшую друг друга череду нестерпимой боли и еще более нестерпимого наслаждения, волнами окатывающего ее с головы до ног. Впрочем, ног она тоже больше не чувствовала. В короткие минуты прояснения, когда красные круги в ее глазах сменялись на светло-зеленые, ей казалось, что руки, плечи, грудь — единственное, что осталось от ее тела. Все, что было ниже, от того места, где ее талию обхватили широкие и шершавые, как доски, ладони конюха, превратилось в сплошную пульсирующую рану.
Оля закричала.
Как ни странно, но от этого ей стало легче. Боль где-то на грани невозможного вдруг обернулась в пронзительное, ни с чем не сравнимое наслаждение. Оля закричала снова. Боль опять сменилась волной непонятного, всесокрушающего восторга… Более она уже не останавливалась. Крича и подвывая в такт хрипящему сзади нее Селифану, Оля двинула ему навстречу свой зад. Конюх в ответ лишь раскатисто заржал, по его телу прокатилась судорога, и у Ольги внутри как будто что-то лопнуло, могучее и горячее. На миг ей показалось, что у нее в животе взорвалась петарда, которую она видела во время фейерверков на ярмарке, а затем из глаз посыпался сноп разноцветных искр.
Не в силах более поддерживать себя, Ольга в изнеможении рухнула на солому.
В таком положении и застала ее сердобольная Авдотья. Догадываясь, куда с утра собралась воспитанница, кормилица принесла с собой ведро теплой воды, тряпки и чистую одежду. Все это сейчас же и пригодилось. Отогнав дурака Ольгиным кнутом подальше в глубь конюшни, Авдотья быстро, пока никто не вернулся с полевых работ, принялась за дело. Она обмыла постанывающую Ольгу водой, сняла с нее залитую кровью юбку и надела новое платье. Затем, осторожно поддерживая свою воспитанницу, она довела ее до повозки, в которой приехала, и повезла в ближайшую деревню к своей куме. Через пару часов, как следует выспавшись, Оля уже улыбалась, еще через час она встала, а ближе к вечеру, жадно съев почти целого цыпленка, которого ей с любовью приготовила кормилица, была уже готова возвращаться домой.
Что-то неуловимое изменилось во всем облике Ольги. Походка ее сделалась более женственной, плавной, как будто она боялась расплескать что-то внутри себя. Взгляд ее словно очнулся от былой отрешенности и приобрел уверенность.
Поддерживаемая Авдотьей, Оля шла по липовой аллее, по которой всего лишь несколько часов назад сломя голову проскакала подростком. Теперь же по аллее шла женщина.
Оля незаметно улыбнулась. Несмотря на то что она все еще чувствовала себя так, словно оседлала раскаленный шар, Оля была вполне довольна собой. Отцу они с кормилицей решили сказать, что она упала с лошади.
Глава четвертая
Воспитатель
Половое созревание Ольги совпало с переменами в служебной карьере Александра Николаевича Зубова. Еще и поэтому отец безнадежно упустил момент ее тайного «образования» и пристрастия к плотским утехам. К тому же после того памятного дня на конюшне Ольга остепенилась, повеселела, и все решили, что девка, «слава те, Господи!», пережила наконец критический возраст. Девице все-таки шел уже шестнадцатый год! Никто, кроме кормилицы Авдотьи, не знал истинную причину перемены настроения барышни.
Ничто так не укрепляет отношений, как совместная тайна. К тому же, несмотря на свою стать — а за лето формы Ольги еще более округлились, что при ее росте, длинных ногах и тонкой талии делало ее необычайно привлекательной, — в душе она оставалась, в общем-то, девчонкой. Правда, под чутким руководством своей ушлой кормилицы да обладая от рождения «незаурядными способностями» и, спасибо папеньке, нешуточным влечением, Ольга в познании «любовной науки» за лето так продвинулась, что куда там не только ровесницам или даже замужним дамам — самым искушенным придворным красавицам Оля теперь могла нос утереть…
Хотя с уверенностью об этом судить мы, конечно, не можем. Век-то был не на шутку распущенный. И стремление Ольги к познанию всех тонкостей любовной науки лишь отражало продиктованную временем необходимость. Одно можно утверждать: внешние данные Ольги, помноженные на природный хваткий и расчетливый ум, — вот то, что впоследствии дало ей неоспоримые преимущества при дворе.
Походы Ольги на конюшню не просто продолжались, но и участились. Селифан, который поначалу, завидев ее, заливисто ржал и шаркал, похрапывая, лаптем о землю, подражая жеребцу, к концу лета заметно скис и захирел. Но Оля была ненасытна. Более того, к несчастью дурака, девушке очень отчетливо запомнилось, что хлестания кнутом по его оголенному заду и спине значительно приумножали получаемое ею наслаждение. Неудивительно, что даже здоровый, как конь, Селифан стал сдавать. Трудно сказать, чем бы обернулось для Селифана его «дурацкое счастье», да только к концу лета в семейство Зубовых пришли перемены.
Скончался граф Никита Панин — сподвижник императрицы, канцлер и наряду с графом Безбородко одна из ключевых фигур екатерининского кабинета. Помимо своих многочисленных служебных обязанностей, покойный граф исполнял одну, чрезвычайно важную при царском дворе функцию. Он был наставником-воспитателем цесаревича. На эту должность он был назначен еще Елизаветой Петровной, бабкой Павла. И хотя наследнику ко времени, о котором идет речь, было уже под сорок, должность эту никто отменять не собирался. Более того, Екатерина видела в наставнике-воспитателе тот рычаг, коим она хоть как-то могла воздействовать на сына. Особенно когда пропасть непонимания, ширившаяся между ними с каждым годом, могла быть сравнима лишь с пропастью их обоюдного недоверия.
Другими словами, в правительстве графа Никиту еще можно было как-то заменить — Безбородко, например, считал, что «еще скорее управиться можно будет», — а вот тех, кому Екатерина могла бы доверить «воспитание» великовозрастного наследника, не было.
Точнее, был всего один человек, который мог бы заменить ушедшего графа Панина, — второй фельдмаршал империи, князь Николай Иванович Салтыков, на службе у которого, являясь особо доверенным лицом и управляющим обширнейшего хозяйства князя, и состоял Александр Николаевич Зубов.
Императрица безмерно уважала Салтыкова. Более того, была ему благодарна за его воинские победы над пруссаками, за усмирение спесивых поляков и считала его одним из честнейших придворных и одним из одареннейших военачальников.
С фельдмаршалом была лишь одна проблема. Не сошлись они характерами с Потемкиным. Устав от их бесконечной, скрытой и явной, вражды, Екатерина, будучи не в силах отказаться ни от одного, ни от другого, приняла мудрое решение: держать их, как двух племенных быков, подальше друг от друга и свести поводы к их «случайным» встречам к минимуму. Таким образом, в сердце императрицы и в южных провинциях царил Потемкин, а в ее голове и на севере империи — Салтыков.
Воспользовавшись однажды занятостью Потемкина на южных рубежах, а также вспомнив, что она, в конце концов, императрица, Екатерина вызвала к себе Салтыкова и объявила ему свою волю.
С назначением князя на новую должность засобирались в Петербург и Зубовы. Точнее, сыновья-то уж давно были там, и вот настало время, когда Александр Николаевич перевез в столицу жену и дочерей.
Вот тут-то и взошла звезда Оленьки Зубовой. И случилось это еще лет за пять до главного семейного события — восхождения Платона, после которого все прочие, конечно же, померкли.
Глава пятая
Гатчина
Как особо приближенные к Салтыкову, Александр Николаевич и Елизавета Васильевна Зубовы последовали за князем в Гатчину — к месту его непосредственного назначения, ко двору наследника-цесаревича. Не прошло и двух месяцев, как перед новым воспитателем-наставником и его преданным управляющим встала серьезная проблема. Наследник-цесаревич влюбился. Нет-нет, не так, как влюбляются пылкие юноши, — со слезами на глазах, с лихорадочным румянцем, с попытками к самоубийству, а так, как влюбляются уже зрелые, все познавшие мужчины, — с осознанием неизбежности и безысходности происходящего.
А когда эти «зрелые мужчины» наделены еще и властью, то «осознание неизбежности и безысходности происходящего» обычно переходит на предмет самой страсти. В связи с чем новому воспитателю-наставнику в категорической форме было предложено незамедлительно представить девицу Зубову фрейлиной к жене наследника, Марии Федоровне.
Что за этим обычно следовало далее, всем было хорошо известно.
Салтыков тут же вызвал к себе Зубова. Более всего Александра Николаевича поразили изменения, произошедшие в фельдмаршале. Как только Зубов вошел в кабинет, князь встал и пошел ему навстречу, широко раскинув для объятий руки, как будто два старых приятеля много лет не виделись и вот наконец-то встретились.
— Любезнейший мой Александр Николаевич, — князь сиял, как начищенный самовар, — ну, проходи, садись…
Несмотря на протесты Зубова, не привыкшего сидеть в присутствии князя, Салтыков усадил обескураженного Александра Николаевича в кресло, причем сам остался стоять. Однако заметив, что управляющий чувствует себя явно не в своей тарелке, князь наконец тоже присел, но только на самый краешек дивана, стоявшего напротив.
— Ну, брат, рассказывай… — не зная, с чего начать, широко улыбался князь.
— Так чего ж, ваше сиятельство, рассказывать, я же вам утром уже имел честь докладывать-с… — осторожно начал Зубов.
— Да я не о том!
Салтыков опять подхватился и стал ходить по кабинету. Ему явно не сиделось.
— Тут, брат, вот какая оказия вырисовывается… Прям, можно сказать, счастливейший случай в жизни… Только, я надеюсь, ты уж не забудешь того, кто все эти долгие годы был тебе добрым другом и покровителем. — Салтыков наконец остановился напротив Зубова и, как показалось Александру Николаевичу, даже немного заискивающе посмотрел ему в глаза.
Зубов поднялся.
— Ваше сиятельство, вы изволите говорить загадками, но если вы себя имеете в виду, — Зубов даже немного нахмурился, показывая, что даже подозрения в неблагодарности ему в высшей степени оскорбительны, — так я, видит Бог, за ваше сиятельство готов и жизнь отдать…
Салтыков замахал руками.
— Ну-ну, голубчик, я не об этом… В преданности твоей я не сомневаюсь, и жизнь за меня отдавать не надо… — Салтыков замолчал, как бы подыскивая нужные слова. — Ты мне лучше вот что скажи, как драгоценное здоровье Ольги Александровны?
Зубов даже не сразу понял, что фельдмаршал спрашивал о его дочери. А когда понял, то на минуту онемел от нахлынувших на него чувств. «От тебе раз! Эт-то что ж… Неужто?.. — Александр Николаевич, как мог, пытался скрыть необузданную радость, накрывшую его с головой. — Неужто Лялька и старого вдовца проняла?!»
Но правда превзошла все его предположения.
— Так ничего вроде… — осторожно начал он, — а что ей сделается, вон кобылица какая вымахала. Уж чем-чем, а здоровьем-то Господь вроде не обделил.
Наконец Салтыков, по-видимому, и сам не в силах более сдерживать переполнявшую его новость, как есть выложил все обалдевшему отцу.
Александр Николаевич на мгновение даже потерял дар речи. А когда до него дошло осознание тех возможностей, которые через дочь открывались для его семейства, на глаза навернулись слезы, и он, рухнув на колени, принялся целовать руки Салтыкову.
Князь и сам так растрогался, то ли от мерещившихся и ему перспектив, то ли от такого искреннего проявления дружеских и вместе с тем верноподданнических чувств, что, подняв Александра Николаевича с колен, заключил его в свои объятия и расцеловал в обе щеки.
Пришлось даже прибегнуть к исконно русскому успокоительному средству. Выпив по три рюмки наливки, принесенной дворецким, мужчины наконец уселись, уже на равных, в кресла и перешли к конкретному обсуждению «дела».
После пятой рюмки Салтыков решился сказать то, что у него уже давно было на уме.
— Александр Николаевич, любезный, только ведь это… На такой важной позиции, я имею в виду фрейлины, в девицах-то быть вроде как и не пристало… Надо бы Ольгу Александровну замуж выдать, да побыстрей!
Отец, пребывавший в радостной эйфории и от новости, и от наливки, спохватился:
— Так что же делать-то, девке-то ведь только что шестнадцать стукнуло… Да и потом, где ж я ей так быстро жениха достойного найду?..
— А ты не горюй, Александр Николаевич, ведь у тебя друзья есть, которые о тебе уже позаботились… Ты, главное, их потом не забудь, — опять без обиняков намекнул Зубову Салтыков. — Есть у меня на примете один очень подходящий кандидат… — Сияющий Салтыков поднялся с кресла.
Зубов затаил дыхание.
— Жеребцов, Александр Алексеевич, камергер и тайный советник. Старинная и достойная фамилия…
Глава шестая
Фавориты и фаворитки
Взволнованный и слегка обескураженный, Александр Николаевич Зубов отправился к дочери, по дороге пытаясь облечь предложение Салтыкова «о высочайшей милости» в наиболее пристойную для девичьих ушей форму. Однако после недолгих раздумий он решил, что достаточно будет просто сказать дочери о ее назначении в ближайшее окружение будущей императрицы — что было действительно в высшей степени «высочайшей милостью», а уж со всем остальным предоставить ей возможность разобраться самой. Главное — объяснить и подготовить дочь к новости о скоропостижном замужестве.
Именно этот момент немного волновал отца. «А ну как упрется… — размышлял про себя Александр Николаевич. — Кто их, баб, разберет, сегодня одно, завтра другое на уме…»
По привычке отец вошел в комнату дочери без стука.
Ольга сидела перед зеркальным трюмо и при помощи трех девок примеряла новый, увитый гирляндами из живых цветов парик.
На Оле были одни батистовые панталоны и поверх рубахи из того же материала корсет. Нещадно сдавив талию, корсет не столько прикрывал, сколько вздымал ее грудь, как две только что взбитые пуховые подушки. Остатки поглощенной корсетом рубахи, совершенно случайно зацепившись за соски, ничего не скрывали, а лишь подчеркивали мраморную белизну великолепного бюста.
Александр Николаевич аж крякнул от неожиданности и густо покраснел. На лбу его выступила испарина. Оторопев и закашлявшись, он смутился и, не нашедши ничего лучшего, как ошпаренный выскочил из комнаты. Немного отдышавшись и приведя себя в порядок, он, осторожно постучавшись, вновь вошел в комнату дочери. Ольга уже успела накинуть на плечи легкий пеньюар, от которого, впрочем, было довольно мало пользы, но приличия все же были соблюдены. Пряча глаза, Александр Николаевич без обиняков выложил дочери последние новости…
Однако реакция Ольги изумила и даже несколько озадачила его. Оля, как маленький ребенок, которому неожиданно нянька сунула в руку леденец, запрыгала от радости, узнав о высочайшем пожаловании в фрейлины. Но это еще можно было предвидеть. А вот когда дочь кинулась к отцу на шею, услышав о перспективе замужества, Александр Николаевич опешил и даже немного обиделся на дочь.
— Тебе что ж, в отцовском доме плохо, Ляленька?.. — неуверенно пытаясь высвободиться из объятий дочери, бурчал вспотевший Александр Николаевич.
— Да нет, что вы, тятенька! Просто послушанием своим, как примерная дочь, хотела вас порадовать, — надула и без того пухлые свои губки Оля. — А вам все не угодишь!
— Ну коли так, то и впрямь порадовала, — сразу пошел на попятную размякший отец.
— А кто жених-то, не томите, сказывайте, папенька! — все еще возбужденно прыгала вокруг него дочь.
— Камергер и тайный советник Александр Алексеевич Жеребцов…
Услыхав фамилию суженого, Оля на мгновение застыла, а потом вдруг расхохоталась, да так заливисто и заразительно, что Александр Николаевич, совершенно не понимая причину смеха, тоже захихикал вместе с дочерью. От смеха Оля повалилась на диван, две ее «пуховые подушки» колыхались от сотрясавшего девушку смеха. Александр Николаевич опять вспотел.
«Последняя рюмка все же была лишняя…» — Придя к такому умозаключению, Александр Николаевич, весь красный и несколько озадаченный реакцией дочери, поспешил побыстрее убраться восвояси. Но еще долго доносились до него с девичьей половины восклицания «Жеребцова!..» и взрывы заливистого хохота.
Вера отца в свою дочь не обманула Александра Николаевича Зубова. Ольга Александровна так «разобралась» во вновь сложившейся при дворе наследника-цесаревича ситуации, да притом с такой тщательностью, искусством и даже неистовством, что не прошло и двух месяцев, как Салтыков опять вызвал к себе Зубова-отца. Точнее, не вызвал, а «покорнейше просил пожаловать по делу, не терпящему отлагательства». Предмет разговора на сей раз был не столь радужный.
— Тут такое дело приключилось, любезный мой Александр Николаевич… — начал, не глядя на Зубова, Салтыков.
Александр Николаевич на этот раз расположился в кресле напротив Салтыкова без приглашения, как ровня.
— Какое дело, ваше сиятельство? — Зубов смотрел на Салтыкова спокойно и даже, как тому показалось, насмешливо. — Все сделаю, чтобы исправить, если моя ошибка, если же навет, то все одно, приму наказание из рук твоих…
От Салтыкова опять не укрылись ни явная ирония Зубова, ни обращение на «ты». Но сейчас ему было не до этих нюансов.
— Да нет… — Салтыков поморщился. — Твоей вины тут никакой нет… Дочь твоя, Александр Николаевич, начинает вызывать опасения…
— Что такое, ваше сиятельство? — Ироничная улыбка, гулявшая на лице Зубова, казалось, вот-вот была готова перерасти в саркастическую. — Не вы ли сами, батюшка, просили посодействовать, для оказания «особого внимания» известной особе…
— Просил… — Салтыков всеми силами старался подавить раздражение, причем в первую очередь на себя самого. Действительно, получалось так, что он как будто сам создал ситуацию, ответственность за которую теперь вроде пытался переложить на другого.
— Просил… а теперь вот… — Князь замялся. Наконец, видимо, приняв решение, что лучше все поведать как есть, быстро договорил отрывистыми фразами: — Куракины обеспокоены… Прошел слух, будто Нелидова из дворца съезжает… Настолько их высочество очаровано вашей дочерью. А это, Александр Николаевич, допустить никак нельзя! Вы меня поняли? Это в наши планы не входит!
Салтыков специально надавил на слово «наши», как бы давая понять Зубову, что и он принадлежит к их кругу, к их «партии».
«Это в „ваши“ планы не входит», — усмехнулся про себя Александр Николаевич.
Беспокойство Салтыкова ему было понятно. Екатерина Ивановна Нелидова, практически официальная пассия Павла, о сердечных отношениях с которой было известно всем, включая даже его жену, была своего рода «краеугольным камнем» всей нынешней политики Салтыкова. Без нее, точнее, без ее родственников, князей Куракиных, Голицыных да еще полдюжины славных российских имен, о том, чтобы победить в противостоянии с Потемкиным, можно было и не мечтать. И весь этот уже кое-как устоявшийся баланс покоился на хрупких плечах фаворитки Павла Катеньки Нелидовой. Надо отдать должное, несмотря на то, что внешность Нелидовой была специфична, она не была лишена определенного очарования. Правда, иногда малым ростом своим и чересчур подвижным лицом напоминала обезьянку. Зато всегда привносила в общество шум и веселый переполох. Уму ее, однако, все отдавали должное. Уверить супругу своего любовника, что страсть ее к «предмету» их общего обожания «есть не что иное, как чувство сугубо платоническое», — это, согласитесь, требовало не просто ума, а даже своего рода таланта.
Появление при дворе новой фрейлины, красавицы Ольги Жеребцовой, о которой все теперь только и говорили, и ее стремительное «овладение» Павлом этот устоявшийся баланс рушили.
Ситуация складывалась очень напряженная. Вырвать Ольгу «из рук» наследника уже не представлялось возможным. С таким же успехом можно было попытаться отобрать кость у бульдога. Но и оставлять дело без решительных действий тоже было невозможно. От Александра Николаевича тут же бы все отвернулись и, оскорбленные, затаились. Несмотря на то что «возвышение» Ольги рисовало Зубову заманчивые перспективы, остаться одному, без поддержки влиятельных друзей ему пока представлялось и опасным, и преждевременным.
После некоторых раздумий мужчины решили отложить решение этого важного вопроса до возвращения императрицы и двора из Крыма, авось оно само как-то все разрешится и рассосется…
И надо отдать ему должное, этот извечный русский «авось» не подкачал и на этот раз. Крымский вояж Екатерины перевернул все придворные альянсы с ног на голову, а сдержанность Александра Николаевича Зубова была вознаграждена сполна. Правда, в совершенно ином ключе, нежели это ему представлялось ранее.
Ситуация после крымского путешествия императрицы развернулась таким непредсказуемым манером, что с тех пор уже не Зубов, а Салтыков ездил к своему бывшему управляющему на прием.
Глава седьмая
Начало конца
Пожалуй, еще никогда на Екатерину не обрушивалось столько несчастий и неудач, сколько ей пришлось пережить за последние годы. Годы переломные и с точки зрения цикла календарного — последнее десятилетие уходящего XVIII века, и с точки зрения цикла жизненного.
Год 1789-й, год своего шестидесятилетия, Екатерина Алексеевна встретила спокойно. Без истерик и заламываний рук, свойственных женщинам в свете неумолимо надвигающейся старости. Петербургское высшее общество в череде бесконечных фейерверков, маскарадов и бальных ассамблей самозабвенно билось в затяжном праздновании юбилея любимой государыни.
И то, шутка ли сказать, правление Екатерины приближалось к тридцатилетней отметке. За это время целое поколение родилось, повзрослело, встало на ноги и обзавелось собственным потомством, а она все царствовала. Как всегда в подобных случаях, всем казалось, что век, который поначалу в угоду ей, а затем и по праву прозвали «золотым», будет нескончаем. Что эпоха благоденствия, волной подхватившая бревенчатый и аляповатый российский ковчег, так и будет нести его к берегам достатка и островам благополучия. И действительно, оглядываясь назад, можно согласиться, что, пожалуй, никогда еще Россия не поднималась до таких высот, каких достигла тогда, в конце XVIII века. И все это было заслугой императрицы. Именно она, вслед за Петром, умудрилась вытащить страну из сумрака сонного прозябания и усадить за «стол европейских народов». Да так, что всем пришлось не просто потесниться, а с опаской и подозрением косясь на широкий зад восточного соседа, на занятое им место уж более не посягать.
Надо отдать должное, императрица для своих лет выглядела неплохо. Матовая, ухоженная кожа ее лица благодаря полноте оставалась в меру натянутой и практически без морщин, сияя фарфоровой белизной и лишь на щеках подсвечиваясь легким здоровым румянцем. И все же…
И все же именно этот год явился критическим и в ее здоровье, и в настроении, и, главное, в том, что мы, не в силах иногда подобрать более точное определение, называем жаждой жизни. Именно в этот год всегда ненасытное ее желание — жить, вершить, достигать, совершать, впечатлять, царить — не просто пошатнулось, но сотряслось до самого своего основания!
Великая французская революция явилась для Екатерины шоком, пожалуй, даже большим, чем для самих французов. Все, на чем зиждились ее жизненные устои, принципы, миропонимание, все, чему она тайно преклонялось и даже завидовала и к чему неудержимо стремилась, — те идеалы абсолютизма и вместе с тем просвещения, которые она всю жизнь поддерживала и которые вдохновляли многие ее собственные деяния, — все рухнуло, превратившись в груду битого кирпича на месте некогда «неприступной» Бастилии!
Отношения России и Франции никогда не были завидными, а в последние годы вообще превратились в открытую вражду. Екатерина не скрывала своего презрения к Людовику XVI, в первую очередь потому, что тот упорно не хотел замечать возрастающей роли России, а также личные успехи самой «просвещенной монархини». Спесиво выпятив нижнюю губу под своим длинным бурбонским носом, Людовик, как жаловалась Екатерина в письме Дидро, все еще полагал, что «под окнами нашего дворца гуляют медведи». Но более всего, конечно же, Екатерина не могла простить Франции ее поддержку Турции — этого главного врага России и основного камня преткновения на пути к истинному господству в Европе. И все же, несмотря ни на что, французская монархия, точнее, французский просвещенный абсолютизм как модель правления был своего рода идеалом, к которому тайно стремилась российская государыня. И нет ничего более болезненного, чем лицезреть, как твои идеалы на глазах рассыпаются в прах.
Как бы там ни было, но то ли по причине сильных нервных расстройств, то ли просто так совпало, но к концу восьмидесятых годов Екатерина вдруг почувствовала студеное дыхание осени своей жизни. Могучий организм могучей женщины вдруг стал давать сбои, и именно там, где она менее всего ожидала. У Екатерины вдруг начались проблемы с желудком, с пищеварением. Стали отекать ноги. По утрам она долгое время не могла «собрать себя», чтобы не только приступить к делам, но и просто подняться. В этих новых для себя переживаниях Екатерина, старчески шаркая отекшими ногами, кое-как перешагнула в годы девяностые. Она надеялась, что, может быть, они будут снисходительны к стареющему, натруженному организму, однако оказалось, что именно девяностые и добили ее окончательно.
Очередная затянувшаяся война со шведским королем уже давно не радовала. Было успешно начавшаяся, к середине года она закончилась ничем в полном смысле этого слова. Точнее, в его полной бессмыслице. После тяжелых потерь с обеих сторон враждующие страны после второго Рочесальмского сражения подписали Верельский мирный договор, по которому как претензии, так и территориальные споры двух держав возвращались в довоенные рамки. Другими словами, сотни тысяч человеческих жизней и миллионы рублей оказались бесполезно сожженными в ненасытной топке войны.
Но истинный удар готовил Екатерине год 1791-й. Если 1789-й впервые пошатнул ее морально-нравственные устои и идеалы, когда она на примере Франции убедилась в необузданной и всесокрушающей силе «просвещенных масс», а 1790-й подлил масла в огонь, усилив раздражение и выведя вопросы здоровья в число первостепенных, то 1791-й разрушил все то, что имело для нее, как оказалось, жизненно важное значение. Этот год сокрушил Екатерину как женщину и оставил ее настолько разбитой, настолько поверженной в прах, настолько несчастной и обездоленной, что пройдут многие месяцы, прежде чем она найдет в себе силы вновь подняться и хоть как-то оправиться от этого удара.
В 1791 году Екатерина потеряла Потемкина.
Разбитой, испуганной и состарившейся встретила она последнее десятилетие уходящего века. Могильным холодом повеяло в ее опустошенной душе.
Глава восьмая
Коллежский асессор
Несмотря на все старания Державина, добровольная «псковская ссылка» Резанова растянулась на годы. Прошли долгие пять лет, прежде чем что-то стало меняться в остановившейся жизни Николая Петровича. Очарование провинциальной жизнью, охватившее его в первое время, прошло, размеренная монотонность вскоре сделалась настолько нестерпимой, что Николя был близок к отчаянию. Точнее, Николя уже более не существовало. Он «закончился» в тот самый день, когда юный Резанов принял решение уйти из армии и попробовать «выстроить свой карьер» на гражданской службе. В немалой степени этому способствовало открытие той, совершенно незнакомой ему России, которую привнесли в его жизнь рассказы сибирских купцов Шелихова и Голикова.
Теперь это был всеми уважаемый Псковской палаты гражданского суда коллежский асессор Николай Петрович Резанов.
Надо заметить, что чин этот, который он занимал в свои неполные тридцать лет, заставил бы гордиться любого самого отпетого честолюбца. Но Николай Петрович был не просто честолюбцем. Резанов свято верил, что его жизненный путь — особый. А потому то, что было возможно достичь упорным трудом и умелыми махинациями другому человеку, пусть и удачливому, и достойному, было ему малым утешением. Он мыслил себе другой путь, видел себя в другом окружении, в другом положении и с этим ничего поделать не мог. Как ни молил Резанов Богородицу бесконечными зимними вечерами «усмирить гордыню его», «отпустить», «оставить его, недостойного, в покое», ничего со своей натурой он поделать не мог. Довольствоваться тем, что имеет, было не в его характере. Тем более…
Тем более что ему будто бы даже «обещали»! Именно так он трактовал те чудеса, которые произошли с ним во время его внезапного излечения от ран, то единение с прекрасной Девой, о котором он, как о заключенном в тайне союзе, не только никому не рассказывал, но и себе боялся напоминать всуе.
«Ведь как все удачно складывалось! Где же выскочило колесо моей Фортуны из проторенной дорожной колеи?» — в отчаянии вопрошал самого себя молодой человек.
И вот на смену бесконечной зиме пришла весна, и вместе с апрельской оттепелью в жизнь Николая Петровича Резанова пришли изменения. Причем даже не «пришли», а как это часто бывает, «ворвались» самым решительным и беспардонным манером.
Со смертью Потемкина дорога, и так-то скатертью расстелившаяся перед Платоном Зубовым к вершинам абсолютной, ни с чем не сравнимой, возможной только в России власти, и вовсе превратилась в столбовую.
Ставка, сделанная однажды на него Державиным, оправдала себя. Старый придворный лис не ошибся в расчетах и был за это примерно награжден. Исполнилась его давнишняя мечта, и план, который он давно вынашивал, стал постепенно осуществляться. Державин наконец-то был назначен кабинет-секретарем личной канцелярии императрицы. Важность и значение этого поста пусть не затмят от глаз читателя слова «личная канцелярия». Ведь императрица не зря носила титул «самодержица всероссийская». Несмотря на многочисленные министерства, палаты и Сенат, в которые императрица любила «поиграть», чтобы в нужном свете явить себя в глазах просвещенной Европы, правила страной Екатерина по старинке, в одиночку. Испросив мнения ближайших советников, которые в разное время составляли ее «тайные кабинеты», Екатерина всегда принимала решения сама. За что, правда, и несла полную ответственность и перед собой, и перед Богом, а не пыталась переложить ошибки и промахи, которые порой случались, на плечи других. Именно к ней, к матушке-государыне, к монархине, стекались со всей страны многочисленные прошения, просьбы, жалобы, доносы, челобитные да и просто письма. И все это поступало в ее личную канцелярию. Разложив и разобрав это море корреспонденции, личный секретариат Екатерины в зависимости от важности и уместности просьбы направлял затем эти письма в Сенат или в соответствующие министерства и ведомства, откуда они, уже завизированные официальным лицом, вновь возвращались к Екатерине, но теперь уже в виде прошения, «рекомендованного к рассмотрению». Или не возвращались…
Подписанное императрицей прошение становилось в свою очередь уже указом и отправлялось обратно в те же самые министерства и ведомства, но уже с тем, чтобы быть приведенным к исполнению.
Подобное двойное хождение бумаг было процессом не быстрым, зачастую мучительным, порой бесконечным, однако оно гарантировало то, ради чего весь этот бюрократический механизм и был учрежден — ни одно решение в стране не могло быть принятым в обход воли вседержительницы. Власть ее была абсолютна и беспредельна. Но и положение ее кабинет-секретаря или лица, к которому вся эта корреспонденция стекалась и который отправлял ее дальше, было, прямо скажем, особым.
Именно на этом месте — важнейшем в условиях разросшегося, как раковая опухоль, чиновничьего аппарата империи, благодаря стараниям Платона Александровича Зубова и оказался Гавриил Романович Державин.
И надо отдать ему должное, как только он утвердился и обустроился на новом месте, Резанов был тут же вызван в Петербург.
Глава девятая
Бессонница
Четырнадцатый сидел в кабинете полковника Шурановой, расположенном на втором этаже серого правительственного здания по улице Большая Лубянка. Он был в Москве уже вторые сутки. После инцидента с «порталом» и «потерей» Дмитрия — о чем ему пришлось доложить, естественно, в тот же день, — бесконечные отчеты, письменные и устные, занимали все его время. Наконец после нескончаемых разбирательств и объяснительных система, как будто насытившись им, «выплюнула» его из своих недр, изрядно пожеванного, но сохранившего присущий ему оптимизм, и Четырнадцатый, к пущему своему удовольствию, вновь перешел во власть Дарьи Валентиновны.
Как всегда в ее присутствии, он пытался смотреть прямо перед собой, и, как всегда, ему это плохо удавалось. Он пытался представить, как бы выглядели полковничьи погоны на узких девичьих плечах Дарьи Валентиновны, если бы она их носила прямо на блузке. Однако мысль эта все время натыкалась на бретельки ее лифчика, который отчаянно просвечивал сквозь белую батистовую ткань, и как-то сама собой меняла направление. Совсем другие «картинки», связанные с полковником, возникали в его воображении, причем очень даже живо. В них она была вовсе не такая строгая, гораздо более улыбчивая и без своего знаменитого серого костюма…
Еще в школьные годы будущий полковник Федеральной службы времени Дарья Валентиновна Шуранова столкнулась с проблемой, которая затем так и преследовала ее по жизни. Проблему эту учительница начальных классов выразила в разговоре с ее матерью простой фразой: «Несоответствие формы и содержания». Что, собственно говоря, имела в виду училка, стоявшая рядом с матерью, Даша тогда не совсем поняла. Лишь со временем, став взрослей, до нее постепенно стал доходить смысл этой фразы.
Отец ее был военный, и семья часто переезжала. Каждое новое место службы отца, по каким-то непостижимым законам военного ведомства тогда еще единой страны, было северней и соответственно холодней предыдущего. Что в таком климате — с промозглым от холодных дождей коротким летом и бесконечной морозной зимой — могли делать военные, с кем воевать и кого охранять, маленькая Даша не понимала. Да, честно говоря, и не пыталась. Вечно закутанное в шерстяные платки, вечно с насморком и хроническим авитаминозом, это хрупкое и прозрачное существо втайне от всех вело такую интенсивную внутреннюю жизнь, о которой вряд ли кто догадывался.
Девочка росла молчаливой и застенчивой. Городки, похожие друг на друга и мелькающие за двойными стеклами вагонных окон в моменты переездов семьи Шурановых, обычно не имели даже названий. Они обозначались цифрами. Иногда двузначными, иногда трехзначными, а иногда и с буквами. Когда Даша была маленькой, она считала, что так и должно быть, и очень удивилась, когда позднее узнала, что чаще всего города имеют названия.
Поэтому с самого начала Даша относилась к числам совершенно особо. Для нее они имели свои конкретные очертания, цвет и даже запах, вызывая ассоциации, которые Даша и пыталась постичь.
С детства у нее начались проблемы со сном. Она спала не более трех часов в сутки, доводя мать до зомбиобразного состояния. Когда же Даша немного подросла, она, сжалившись над родителями, научилась скрывать бессонницу, лежа в кровати тихо и с закрытыми глазами. Но сон к ней так и не вернулся.
Таким образом, «на руках» у девочки оказалось гораздо больше свободного времени, чем было отпущено обычным людям, и надо отдать ей должное, Даша этим в полной мере воспользовалась. Девочка рано научилась читать. Но еще раньше — считать. Считать совершенно особо. Не так, как все. Лежа с закрытыми глазами, она проделывала в уме такие сложные операции с числами, для которых другому человеку потребовались бы горы бумаги.
Так как гулять на улице зимой из-за вечного мороза и тьмы было не совсем удобно, сосредоточенная работа мышления продолжалась безостановочно. Летом этому способствовали еще и частые дожди в сочетании с бесконечным световым днем. Когда в полночь солнце, так и не скрывшись за горизонтом, начинает свое восхождение к новому дню, — согласитесь, какой уж тут сон! Тут и нормальному человеку заснуть будет сложно, что уж говорить о Даше, которая «нормальной» никогда не была.
Оглядываясь назад, можно было бы предположить, что климатические условия, в которых росла Даша, возможно, усилили ее «отклонение», что впоследствии привело к необычным результатам. Но с научной точностью мы это утверждать не можем, так как Дашин случай оказался настолько уникальным, что достаточного количества данных, которые подтверждали бы или опровергали это предположение, просто не существует. Ибо, как на самом деле происходит формирование мозга гениев, остается пока тайной, покрытой мраком.
В общем, как бы там ни было, но мозг, который у ребенка и так-то, как губка, молниеносно впитывает новую информацию, у Даши в условиях почти круглосуточного функционирования развился необычайно.
Глава десятая
Кабинет-секретарь
Ценя новое назначение и особенно то положение при дворе, которое оно с собой несло, Гавриил Романович Державин, однако, к «письмоведению» склонен не был. Его натура рвалась к творческой деятельности. Сочинить оду или пьесу — это пожалуйста! А вот разбирать целыми днями чьи-то письма — увольте! Поэтому, когда Резанов, не нарадовавшийся от переезда в столицу, рьяно взялся помогать своему крестному в его делах, Державин вздохнул с облегчением. Все складывалось чрезвычайно удачно. В точности как было ими задумано. Почти…
Державин не был бы придворным, достигшим того положения, в котором он сейчас находился, если бы имел короткую память. Гавриил Романович прекрасно помнил о той пикантной ситуации, в которой однажды оказались его крестник и светлейший князь Платон Александрович Зубов. Поэтому, как ни хотелось Державину побыстрей утвердить Резанова своим помощником, о его прямом назначении пока не могло быть и речи. Зная ревностное отношение Платона к своему исключительному положению, Державин понимал, что сталкивать их сейчас не только преждевременно, но и опасно. Причем в первую очередь опасно для Резанова.