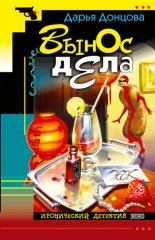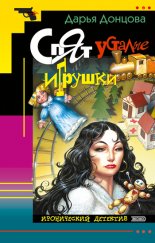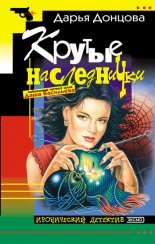Любовница смерти Акунин Борис

– Вы, верно, из «Любовников Смерти»?
– С чего вы взяли? – вздрогнула она и тут уж на него взглянула – с испугом.
– Ну как же. – Он уперся тростью в пол и принялся загибать пальцы затянутой в серую перчатку руки. – Вошли без звонка или стука. Стало быть, пришли к з-знакомому. Это раз. Видите здесь посторонних, но о хозяине не спрашиваете. Стало быть, уже знаете о его печальной участи. Это два. Что не помешало вам прийти сюда в экстравагантном платье и с легкомысленными цветами. Это три. У кого самоубийство может считаться поводом для поздравлений? Разве что у «Любовников Смерти». Это четыре.
В разговор вмешался азиат, изъяснявшийся по-русски довольно бойко, но с чудовищным акцентом.
– Не торько у рюбовников, – живо возразил он. – Когда брагородные самураи княдзя Асано поручири от сегуна разресение дерать харакири, все тодзе их поздравряри.
– Маса, историю про сорок семь верных вассалов мы обсудим как-нибудь после, – оборвал коротышку Монте-Кристо. – А сейчас, как видишь, я беседую с дамой.
– Может быть, вы и беседуете с дамой, – отрезала Коломбина. – Да только дама с вами не беседует.
«Сиятельство» обескураженно развело руками, а она повернула в дверь, что вела направо.
Там находились две комнатки – проходная, где из мебели имелся только дешевенький письменный стол со стулом, и спальня. В глаза бросился шведский диван, из новомодных, с раскрывающимся брюхом, однако весь облезлый и кривой. Верх не сходился с низом, и казалось, что диван ощерился темной пастью.
Коломбине вспомнилась строчка из последнего стихотворения Аваддона, и она пробормотала:
– «Клыками клацает кровать».
– Что это? – раздался сзади голос Монте-Кристо. – Стихи?
Не оборачиваясь, она вполголоса прочла все четверостишье:
- Недоброй ночью, нервной ночью
- Клыками клацает кровать
- И выгибает выю волчью,
- И страшно спать
В изгибе диванной спинки и в самом деле было что-то волчье.
Стекло дрогнуло (как и накануне вечером, было ветрено), Коломбина зябко поежилась и произнесла заключительные строки стихотворения:
- …Но в доме Зверь, снаружи ветер
- Стучит в стекло.
- А будет так: снаружи ветер.
- Урчит насытившийся Зверь,
- Но только нет меня на свете.
- Где я теперь?
И вздохнула. Где ты теперь, избранник Аваддон? Счастлив ли ты в Ином Мире?
– Это предсмертное с-стихотворение Никифора Сипяги? – не столько спросил, сколько констатировал догадливый заика. – Интересно. Очень интересно.
Дворник сообщил:
– А зверь-то и вправду выл. Жилец из-за стенки сказывали. Тут, ваше превосходительство, стеночки хлипкие, одно название. Когда полицейские ушли, этот самый застенный жилец ко мне спускался, полюбопытствовать. Ну и рассказал: ночью, грит, как начал кто-то завывать – жутко так, с перекатами. Будто зовет или грозится. И так до самого рассвета. Он и в стенку колотил – спать не мог. Думал, господин Сипяга пса завели. Только никакого пса тут не было.
– Интересная к-квартирка, – задумчиво произнес брюнет. – Вот и мне какой-то звук слышится. Только не завывание, а скорее шипение. И д-доносится сей интригующий звук из вашей сумочки, мадемуазель.
Он обернулся к Коломбине и посмотрел на нее своими голубыми глазами, по которым трудно было понять, какие они – грустные или веселые.
Ничего, сейчас станут испуганными, злорадно подумала Коломбина.
– Неужто из моей сумочки? – деланно удивилась она. – А я ничего не слышу. Ну-ка, посмотрим.
Она нарочно подняла ридикюль, чтоб оказался под самым носом у самоуверенного незнакомца, щелкнула замочком.
Люцифер, умница, не подвел. Высунул узкую головку, будто чертик из механической шкатулки, разинул пасть и как зашипит! Видно, соскучился в темноте да тесноте.
– Матушка Пресвятая Богородица! – завопил дворник, стукнувшись затылком о косяк. – Змей! Черный! Вроде не пил нынче ни капли!
А красавец – такая жалость – нисколько не напугался. Склонил голову набок, разглядывая змейку. Одобрительно сказал:
– Славный ужик. Любите животных, мадемуазель? Похвально.
И, как ни в чем не бывало, повернулся к дворнику.
– Так, говорите, неведомый зверь выл до самого рассвета? Это самое интересное. Как соседа зовут? Ну, к-который за стеной живет. Чем занимается?
– Стахович. Художник. – Дворник опасливо поглядывал на Люцифера, потирая ушибленный затылок. – Барышня, а он у вас взаправдошный? Не цапнет?
– Почему не цапнет? – надменно ответила Коломбина. – Еще как цапнет. – А графу Монте-Кристо сказала. – Сами вы ужик. Это египетская кобра.
– Ко-обра, так-так, – рассеянно протянул тот, не слушая.
Остановился у стены, где на двух гвоздях была развешана одежда – очевидно, весь гардероб Аваддона: латаная шинелишка и потертый, явно с чужого плеча студенческий мундир.
– Так г-господин Сипяга был очень беден?
– Как мыша церковная. Копейки на чай не дождешься, не то что от вашей милости.
– А между тем квартирка недурна. Поди, рублей тридцать в месяц?
– Двадцать пять. Только не они снимали, где им. Оплачивал господин Благовольский, Сергей Иринархович.
– Кто таков?
– Не могу знать. Так в расчетной книге прописано.
Прислушиваясь к этому разговору, Коломбина вертела головой по сторонам – пыталась угадать, где именно состоялось венчание со Смертью. И в конце концов нашла, с карнизного крюка свисал хвост обрезанной веревки.
На грубый кусок железа и растрепанный кусок пеньки смотрела с благоговением. Боже, как жалки, как непрезентабельны врата, через которые душа вырывается из ада жизни в рай Смерти!
Будь счастлив, Аваддон! – мысленно произнесла она и положила букет вниз, на плинтус.
Подошел азиат, неодобрительно поцокал языком:
– Горубенькие цветотьки нерьзя. Горубенькие – это когда утопирся. А когда повесирся, надо ромаськи.
– Тебе, Маса, следовало бы прочесть «Любовникам Смерти» лекцию о чествовании самоубийц, – с серьезным видом заметил Монте-Кристо. – Вот скажи, какого цвета должен быть букет, когда кто-то, к примеру, застрелился?
– Красный, – столь же серьезно ответил Маса. – Розотьки ири маки.
– А при самоотравлении?
Азиат не задумался ни на секунду:
– Дзёртые хридзантемы. Бери нет хридзантем, модзьно рютики.
– Ну, а если взрезан живот?
– Берые цветотьки, потому сьто берый цвет – самый брагородный.
И узкоглазый молитвенно сложил короткопалые ладошки, а его приятель одобрительно кивнул.
– Два клоуна, – с презрением бросила Коломбина, последний раз взглянула на крюк и направилась к выходу.
Кто бы мог подумать, что франт из Аваддоновой квартиры встретится ей вновь, да еще не где-нибудь, а в доме Просперо!
Он выглядел почти так же, как во время предыдущей встречи: элегантный, с тросточкой, только сюртук и цилиндр не черные, а пепельно-серые.
– Здравствуйте, с-сударыня, – сказал он со своим характерным легким заиканием. – Я к господину Благовольскому.
– К кому? Здесь таких нет.
Лица Коломбины он в полумраке разглядеть не мог, а вот она сразу его узнала – под козырьком крыльца горел газовый светильник. Узнала и ужасно удивилась. Ошибся адресом? Однако какое странное совпадение!
– Ах да, прошу извинить, – шутливо поклонился случайный знакомец. – Я хотел сказать: к господину Просперо. В самом деле, я ведь строжайше предупрежден, что здесь не принято называться собственным именем. Вы, верно, тоже какая-нибудь Земфира или Мальвина?
– Я Коломбина, – сухо ответила она. – А вы-то кто?
Он вошел в прихожую и теперь смог разглядеть ту, что открыла ему дверь. Узнал, но не выказал ни малейшего удивления.
– Здравствуйте, таинственная незнакомка. Как говорится, гора с горой не сходится. – Погладил по головенке дремлющего на девичьей шее Люцифера. – Привет, малыш. Позвольте представиться, мадемуазель Коломбина. Мы с господином Благо… то есть с господином Просперо условились, что здесь я б-буду зваться Гэндзи.
– Гэндзи? Какое странное имя!
Она все не могла уразуметь, что означает это загадочное появление. Что заике было нужно в квартире самоубийцы? И что ему нужно здесь?
– Был в стародавние времена такой японский принц. Искатель острых ощущений, вроде меня.
Необычное имя ей, пожалуй, понравилось – Гэндзи. Жапонизм – это так изысканно. Стало быть, не «сиятельство» и даже не «светлость», поднимай выше – «высочество». Коломбина саркастически хмыкнула, однако следовало признать: франт и в самом деле был удивительно похож на принца, ну если не японского, то европейского, как у Стивенсона.
– Ваш спутник был японец? – вдруг осенило ее. – Тот, которого я видела на Басманной. Вот почему он всё говорил про самураев и взрезывание живота?
– Да, это мой камердинер и ближайший д-друг. Кстати, напрасно вы тогда обозвали нас клоунами. – Гэндзи укоризненно покачал головой. – Маса к институту самоубийства относится с огромным почтением. Как, впрочем, и я. Иначе я бы здесь не оказался, верно?
Искренность последнего утверждения представлялась сомнительной – больно уж легкомысленным тоном оно было сделано.
– Непохоже, чтобы вы так уж рвались покинуть этот мир, – недоверчиво произнесла Коломбина, глядя в спокойные глаза гостя.
– Уверяю вас, мадемуазель Коломбина, я человек отчаянный и способен на чрезвычайные и даже немыслимые п-поступки.
И опять это было сказано так, что не пбймешь, серьезно человек говорит или насмешничает. Но здесь она вдруг вспомнила рассказ Дожа про «интереснейшего субъекта», и неожиданное явление «принца» сразу разъяснилось.
– Вы, верно, и есть тот самый гость, о котором говорил Просперо? – воскликнула Коломбина. – Вы сочиняете японские стихи, да?
Он молча поклонился, как бы говоря: не отпираюсь, он самый и есть. Теперь она взглянула на франта по-новому. Тон его и в самом деле был легким, в углах губ угадывалась полуулыбка, но глаза смотрели серьезно. Во всяком случае, на досужего шутника Гэндзи никак не походил. Коломбина наконец нашла для него подходящее определение: «необычный экземпляр». Ни на одного из соискателей не похож. Да и вообще, таких типажей ей прежде видеть не приходилось.
– Пришли, так идемте, – сухо сказала она, чтоб он слишком много о себе не понимал. – Вам еще предстоит пройти испытание.
Вошли в салон, когда Гдлевский заканчивал декламацию и готовился выступать Розенкранц.
Различать близнецов оказалось совсем нетрудно. Гильденстерн объяснялся по-русски совсем чисто (он закончил русскую гимназию) и был заметно жизнерадостней характером. Розенкранц же все писал что-то в пухлом блокноте и часто вздыхал. Коломбина частенько ловила на себе его скорбный остзейский взгляд и, хоть в ответ смотрела непреклонно, всё равно это молчаливое обожание было ей приятно. Жаль только, что стихи немчика были так чудовищны.
Вот и сейчас он встал в торжественную позу: ступни в третьей позиции, пальцы правой руки растопырены веером, глаза устремлены на Коломбину.
Безжалостный Дож оборвал его после первой же строфы:
– Благодарю, Розенкранц. «Вздыхать и плакать чистою слезой» по-русски сказать нельзя, но сегодня у тебя получилось уже лучше. Господа! Вот кандидат на место Аваддона, – представил он новенького, который остановился в дверях и с любопытством оглядывал гостиную и собравшихся.
Все обернулись к кандидату, он слегка поклонился.
– У нас принято устраивать нечто вроде поэтического экзамена, – сказал ему Дож. – Мне довольно услышать несколько строчек из стихотворения, написанного претендентом, и я сразу могу сказать, по пути ему с нами или нет. Вы сочиняете необычные для нашей словесности стихи, лишенные рифмы и ритмичности, поэтому будет справедливо, если я попрошу вас сложить экспромт – на заданную мной тему.
– Извольте, – ответил Гэндзи, нисколько не смутившись. – Какую тему вам угодно предложить?
Коломбина отметила, что Просперо обратился к нему на «вы», что само по себе было необычно. Очевидно, не повернулся язык называть этого внушительного господина на «ты».
Председательствующий долго молчал. Все, затаив дыхание, ждали, зная: сейчас он огорошит самоуверенного новичка каким-нибудь парадоксом или неожиданным сюрпризом.
Так и вышло.
Отбросив кружевной манжет (сегодня Дож был одет испанским грандом, и этот наряд весьма шел к его бороде и длинным волосам), Просперо взял из вазы красное яблоко и с хрустом впился в него крепкими зубами. Пожевал, проглотил, взглянул на Гэндзи.
– Вот вам и тема.
Все переглянулись. Что за тема такая?
Петя шепнул Коломбине:
– Это он нарочно. Сейчас срежет, вот увидишь.
– Надкушенное яблоко или вообще яблоко? – уточнил задачу испытуемый.
– А это уж решать вам.
Просперо удовлетворенно улыбнулся и сел на свой трон.
Пожав плечами, словно речь шла о сущей безделице, Гэндзи произнес:
- Яблоко прекрасно
- Не на ветке и не в желудке,
- А в миг паденья.
Все подождали, не будет ли продолжения. Не дождались. Тогда Сирано покачал головой, Критон довольно громко хихикнул, зато Гдлевский одобрительно покивал, а Львица Экстаза даже вскричала: «Браво!»
Коломбина, уже приготовившаяся насмешливо скривиться, приняла задумчивый вид. Раз двое корифеев что-то усмотрели в диковинном сочинении принца Гэндзи, значит, оно небезнадежно. Но главное слово, разумеется, оставалось за Дожем.
Просперо подошел к Гэндзи и крепко пожал ему руку:
– Я не ошибся в вас. Именно так: суть не в скучном бытии и не в посмертном гниении, а в катарсисе превращения первого во второе. Именно так! И как коротко, ни одного лишнего слова! Ей-богу, у японцев стоит поучиться.
Коломбина покосилась на Петю. Тот пожал плечами – видно, тоже, как и она, не нашел в изреченном афоризме ничего особенного.
Новый соискатель прошелся по салону и удивленно произнес:
– Я был уверен, что интервью с верховным жрецом клуба самоубийц, напечатанное в «Курьере», – глупая мистификация. Однако обстановка комнаты описана точно, да и достопочтенный Дож, похоже, списан с натуры. Неужто такое возможно? Вы встречались с корреспондентом, господин Просперо? Но зачем?
Наступило неловкое молчание, ибо Гэндзи, сам того не зная, затронул весьма болезненную тему. Злосчастная статья, довольно точно изложившая взгляды Просперо и даже напрямую процитировавшая некоторые его излюбленные максимы, вызвала в клубе настоящую бурю. Дож устроил каждому форменный допрос, допытываясь, не откровенничал ли кто-то с посторонними, но информанта так и не установил.
– Ни с каким корреспондентом я не говорил! – сердито сказал Просперо и жестом обвел соискателей. – Иуда здесь, среди моих учеников! Из тщеславия, а то и за несколько серебреников кто-то из них выставил меня и все наше общество на посмешище толпы! Гэндзи, честно говоря, у меня на вас особые виды. Вы впечатлили меня своими недюжинными аналитическими способностями. Располагая всего несколькими разрозненными крупицами сведений, вы безошибочно вышли на след «Любовников Смерти» и определили, что именно я являюсь предводителем клуба. Так может быть, вы поможете мне обнаружить паршивую овцу, проникшую в мое стадо?
– Полагаю, сделать это будет нетрудно. – Гэндзи скользнул взглядом по лицам притихших «любовников». – Но сначала мне нужно узнать этих дам и господ чуть лучше.
Эти слова, прозвучавшие довольно угрожающе, всем ужасно не понравились.
– Только торопитесь, – усмехнулся Критон. – Знакомство может оказаться непродолжительным, потому что все мы стоим на краю разверстой могилы.
Сирано наморщил свой монументальный нос, ехидно продекламировал:
- Тайный розыск учинить,
- Татя враз изобличить
- И послать его на плаху
- В назиданье и для страху.
Даже чопорный Гораций, певец прозекторского искусства, не столь часто размыкающий уста, возмутился:
– Не хватало у нас здесь еще сыска и доносительства!
Коломбине сделалось страшно. Это был настоящий бунт. Ну, сейчас смутьяны получат! Сейчас Просперо обрушит на ослушников испепеляющий разряд своего гнева.
Но Дож не стал метать молнии или размахивать руками. Лицо его опечалилось, голова опустилась на грудь.
– Я знаю, – тихо молвил Просперо. – И всегда это знал. Один из вас предаст меня.
С этими словами он встал и, более ни слова не говоря, скрылся за дверью.
– Учитель! Пока я здесь, вам нечего опасаться! – бешено взревел Калибан и глянул на стоявшего поблизости Критона с такой ненавистью, что козлоногий проповедник страстной любви в ужасе шарахнулся в сторону.
У Коломбины сердце разрывалось от сострадания. Если б она посмела, то бросилась, бы следом за Просперо. Пусть знает, что уж она-то никогда его не предаст!
Но дверь непреклонно хлопнула. Коломбина знала, очень хорошо знала, что там, за ней: полупустая столовая, потом просторный, уставленный массивной мебелью кабинет, а еще дальше – спальня, так часто снящаяся ей по ночам. Из кабинета можно попасть прямо в коридор и выйти в прихожую. Именно этой бесславной дорогой Коломбина уже дважды покидала заветный чертог, раздавленная и недоумевающая…
– Зеанс не будет? – разочарованно-захлопал белесыми ресницами Розенкранц. – Но тош говорил, зегодня идеальный вечер для разговора с тушами умерших. Звездная ночь, толстая луна. Шалко упускать такой шансе!
– А что скажете вы, милая? – ласково, словно к малому ребенку, обратилась Львица Экстаза к Офелии. – В самом деле, мы столько ждали полнолуния! Что вы ощущаете? Удастся ли вам нынче установить контакт с Иным Миром?
Офелия растерянно улыбнулась, пролепетала своим тоненьким голоском:
– Да, сегодня особенная ночь, я это чувствую. Но одна я не смогу, кто-то должен меня вести. Нужен спокойный, уверенный взгляд, который не дал бы мне заблудиться в тумане. Такие глаза только у Просперо. Нет, господа, без него никак нельзя.
– Стало быть, расходимся? – спросил Гильденстерн. – Глупо. Только время зря потрачено. Лучше бы к занятиям готовился. Экзамены скоро.
Кое-кто уже двинулся к выходу, но тут новенький подошел к Офелии, взял ее за руку, посмотрел в упор и тихо сказал:
– Ну-ка, милая б-барышня, посмотрите в мои глаза. Вот так. Хорошо. Вы можете мне верить.
Одному Богу известно, что такого увидела Офелия в его глазах, только она вдруг успокоилась, чистый лобик разгладился, улыбка была уже не растерянной, а умиротворенной.
– Да, – кивнула она. – Я вам верю. Мы можем попробовать.
Коломбина чуть не задохнулась от возмущения. Спиритический сеанс без Просперо? Немыслимо! Кем себя воображает этот лощеный господин? Самозванец, выскочка, узурпатор! Да это будет еще худшим предательством по отношению к Дожу, чем неосторожная болтовня с газетным репортером!
Однако остальные, похоже, не разделяли ее негодования – скорее, были заинтригованы. Даже Калибан, преданный клеврет Дожа, чуть ли не подобострастно спросил принца Гэндзи:
– Вы уверены, что у вас выйдет? Вы сможете вызвать духов? И они назовут следующего избранника?
Тот пожал плечами:
– Ну, разумеется, выйдет. Явятся как миленькие. А что они нам сообщат, мы скоро узнаем.
Он преспокойно уселся на трон председательствующего, и все тоже поспешили занять свои места, растопырили пальцы.
– Что же ты? – обернулся Петя к возмущенной Коломбине. – Садись. Из-за тебя звена не хватает.
И она села. Трудно в одиночку противостоять всем. Ну и любопытно, конечно, тоже было – неужто в самом деле получится?
Гэндзи трижды быстро хлопнул в ладоши, и сразу стало очень тихо.
– Смотрите только на меня, мадемуазель, – велел он Офелии. – Вы должны отключить четыре органа чувств и оставить только слух. Вслушивайтесь в т-тишину. А вы, господа, не мешайте медиуму посторонними звуками.
Коломбина смотрела на него и только диву давалась. Как быстро этот человек, едва появившись в клубе, подчинил себе остальных! Никто даже не пытался оспаривать его лидерство, а ведь он ничего особенного не сделал, да и слов произнес совсем немного. И недавней гимназистке вспомнилось, как на уроке истории преподаватель, Иван Фердинандович Сегюр (все семиклассницы были влюблены в него по уши), рассказывал о роли сильной личности в обществе.
Есть два типа естественных вождей: первый переполнен энергией, активен, любого перекричит, задавит, собьет с толку и потащит за собой хоть бы и против воли; второй молчалив и на первый взгляд малоподвижен, но покоряет толпу ощущением спокойной, уверенной силы. Сила вождей этого склада, утверждал умнейший Иван Фердинандович, загадочно посверкивая на учениц стеклышками пенсне, состоит в природном психологическом дефекте – им неведом страх смерти. Наоборот, всем своим поведением они как бы искушают, призывают небытие: мол, приди, возьми меня скорей. Грудь гимназистки Мироновой вздымалась под белым фартуком, щеки пламенели – так волновали ее речи учителя.
Теперь, благодаря Сегюру, она понимала, почему такой человек, как принц Гэндзи, пожелал вступить в ряды «Любовников Смерти». Должно быть, и в самом деле личность выдающаяся, отчаянная, способная на чрезвычайные поступки.
– Готовы ли вы? – спросил он Офелию.
Она уже впала в транс: ресницы опустились, лицо сделалось пустым, губы чуть шевелились.
– Да, я готова, – ответила она пока еще своим обычным голосом.
– Как звали последнего избранника, того, что п-повесился? – тихо спросил Гэндзи у сидевшего рядом Гильденстерна.
– Аваддон.
Гэндзи кивнул и приказал:
– Вызовите дух Аваддона.
С минуту ничего не происходило. Потом над столом пронесся уже знакомый Коломбине холодный ветерок, от которого всякий раз перехватывало дыхание. Огонь свечей качнулся, а Офелия запрокинула голову назад, будто ее толкнула некая невидимая сила.
– Я пришел, – просипела она сдавленно, и все же очень похоже на голос повесившегося. – Трудно говорить. Сплющено горло.
– Мы не будем вас долго мучить. – Странно, но, беседуя с духом, Гэндзи совершенно перестал заикаться. – Аваддон, где вы?
– Между.
– Между чем и чем?
– Между чем-то и ничем.
– Спросите, что он сейчас испытывает? – возбужденно шепнула Львица.
– Скажите, Аваддон, какое чувство вы сейчас испытываете?
– Страх… Мне страшно… Очень страшно…
Офелия, бедняжка, и вправду вся задрожала, даже застучала зубами, а ее розовые губки стали фиолетовыми.
– Почему вы решились уйти из жизни?
– Мне был послан Знак.
Все затаили дыхание.
– Какой?
Дух долго не отвечал. Офелия беззвучно открывала и закрывала рот, ее лоб наморщился, будто она к чему-то сосредоточенно прислушивалась, ее ноздри раздувались. Коломбина испугалась, что сейчас вещунья снова понесет невнятную чушь, как во время всех последних сеансов.
– Вой… – просипела та. – Жуткий вой… Голос зовет меня… Это Зверь… Она прислала за мной Зверя… Невыносимо! Строчку, только написать последнюю строчку, и тогда всё, всё, всё! Где я теперь? Где я теперь? Где я теперь?
Дальше слова сделались неразборчивы, Офелию всю трясло. Она внезапно раскрыла глаза. В них читался такой невыразимый ужас, что некоторые из присутствующих вскрикнули.
– Вернитесь! Немедленно возвращайтесь обратно! – резко воскликнул Гэндзи. – Ступайте с миром, Аваддон. А вы, Офелия, идите ко мне. Сюда, сюда… Спокойно.
Она понемногу приходила в себя. Зябко передернулась, всхлипнула. Львица обняла ее, поцеловала в макушку, загудела что-то утешающее.
Коломбина же сидела, сраженная леденящим кровь открытием. Знак! Знак Зверя! Смерть послала к Аваддону, своему избраннику, Зверя! «В доме Зверь!» «Урчит насытившийся Зверь!» Это была не метафора, не фигура речи!
В этот миг она оглянулась и увидела: в дверях, что вели из гостиной в прихожую, стоял Просперо и смотрел на участников сеанса. На его лице застыло странное, потерянное выражение. Так стало его жалко – не передать словами! У Христа из двенадцати апостолов сыскался всего один Иуда, а тут все как один: предали, бросили учителя.
Она порывисто вскочила, подошла к Просперо, но он на нее даже не взглянул – смотрел на Офелию и медленно, будто не веря, покачивал головой.
Соискатели, вполголоса переговариваясь, начали расходиться.
Коломбина ждала, чтоб они все ушли. Тогда она останется с Дожем вдвоем и покажет ему, что на свете есть и подлинная верность, и любовь. Сегодня она будет ему не покорной куклой, а настоящей возлюбленной. Их отношения переменятся раз и навсегда! Никогда больше он не почувствует себя преданным, одиноким!
И Просперо произнес заветные слова, только адресовал их не Коломбине.
Поманил пальцем Офелию, тихо сказал:
– Останься. Мне тревожно за тебя.
Потом взял ее за руку и повел за собой вглубь дома. Она покорно семенила за ним – маленькая, бледная, обессиленная общением с духами. Но ее личико светилось радостным удивлением. Что ж, хоть и малахольная, но все-таки тоже женщина! Коломбина топнула ногой, не в силах видеть эту идиотскую улыбку, опрометью выскочила на улицу и заметалась у крыльца, плохо понимая, что нужно делать и куда идти.
Тут как раз вышел Гэндзи, внимательно взглянул на расстроенную барышню, поклонился.
– Время позднее. Вы позволите вас п-проводить, мадемуазель Коломбина?
– Я не боюсь бродить в ночи одна, – прерывисто ответила она и не могла продолжать – подкатывали рыдания.
– И всё же провожу, – решительно сказал Гэндзи.
Взял под руку, повел прочь от проклятого дома. У нее не было сил ни спорить, ни отказываться.
– Странно, – задумчиво произнес Гэндзи, будто не замечая состояния спутницы. – Я всегда считал медиумизм шарлатанством или, в лучшем случае, самообманом. Но мадемуазель Офелия не похожа на лгунью или истеричку. Она интересный экземпляр. И то, что она сообщила, тоже весьма интересно.
– В самом деле? – покосилась на японского принца Коломбина и неэлегантно шмыгнула носом.
Подумалось тоскливое: вот и этому Офелия интересней, чем я.
«Ее нашел лодочник. Она зацепилась краем платья за опору Устинского моста, где Яуза впадает в Москву-реку. Так и покачивалась там, в мутной зеленой воде. Распущенные волосы, словно водоросли, струились, колеблемые течением. Мне рассказал об этом Гэндзи, он всё знает и всюду вхож. У него даже в полиции свои осведомители.
Сначала она исчезла, и два дня Просперо не собирал нас, потому что без нее сеансы всё равно невозможны.
В эти два дня я не знала, чем себя занять. Один раз сходила в мелочную лавку, купила полфунта чаю и два баумкухена по четыре копейки. Один надкусила, ко второму даже не притронулась. Вышла пообедать в кухмистерскую, прочла меню и заказала только сельтерской воды. Остальное время просто сидела на постели и смотрела то в стену, то в окно. Меня не было. Есть совсем не хотелось, спать тоже.
Куклу словно положили в пыльный ящик – она лежала там, пялилась стеклянными глазами в потолок. Идти было некуда и незачем. Хотела писать стихи – не вышло. Оказывается, я уже не могу без наших собраний, без Просперо. Совсем не могу.
Приходил Пьеро, нес какой-то вздор, я почти не слушала. Взял за руку, долго ее жал и целовал. Было щекотно, потом надоело, и я руку выдернула.
Вчера вдруг заглянула Львица Экстаза, просидела долго. Я была польщена этим визитом. Она говорливая, с размашистыми жестами, всё время курит папиросы. С ней не скучно, но только она какая-то несчастная, хоть и утверждает, что живет полной жизнью. Считает себя большим знатоком мужчин. Сказала, что Просперо, вероятно, был когда-то сильно обижен или унижен женщиной, поэтому боится их, близко к себе не подпускает, а предпочитает мучить. Тут она выжидательно на меня посмотрела – не пущусь ли я в откровения. Как бы не так. Тогда Львица начала откровенничать сама. У нее двое любовников, и оба известные (она сказала со значением „слишком известные“) люди – редактор газеты и некий Большой Поэт. Обожают ее безмерно, она же с ними играет, как с комнатными собачками. „Секрет обращения с мужчинами прост, – поучала меня Львица. – Если не владеешь этим секретом, они становятся опасными и непредсказуемыми. Но в сущности они примитивны и легко управляемы. Сколько бы лет им ни было, какое бы высокое положение они ни занимали, в глубине души каждый остается мальчишкой, подростком. И вести себя с мужчиной нужно, как с годовалым бульдогом – зубищи у дурашки уже выросли, так что лучше не дразнить, но бояться его не стоит. Немножко польстить, немножко поинтриговать, время от времени почесать за ухом, заставить потянуться за косточкой на задних лапках, но только не томить слишком долго, иначе их внимание отвлечет какая-нибудь другая косточка, подоступнее. Поступайте так, дитя мое, и вы увидите, что мужчина – милейшее создание: неприхотливое, полезное и очень, очень благодарное“.
Таким образом Лорелея наставляла меня довольно долго, но я чувствовала, что пришла она не за этим. А потом, видно, решившись, она сказала такое, что я задрожала от волнения.
Вот ее слова в точности:
– Я должна с кем-то поделиться, – пробормотала Львица, оборвав собственные разглагольствования на полуслове. – С кем-то из наших, и непременно с женщиной. Но не с Офелией же? Да и неизвестно, куда она подевалась. Остаетесь только вы, милая Коломбина… Конечно, следовало бы держать язык за зубами, но меня всю распирает… Я вам тут несла всякую чушь про своих любовников. Это пустяки, жалкие суррогаты, которые помогают хоть как-то заполнить дырку в душе. Они мне больше не нужны. – Она понизила голос и схватилась пухлой, усыпанной кольцами рукой за перламутровые часики, что висели у нее на шее. – Кажется, я избрана, – сообщила она страшным шепотом. – И безо всяких сеансов! Царевич Смерть послал мне Знак. „Но черной розы в сокровенной тьме пройдет и не заметит“, написала я. А Он заметил и недвусмысленно дал это понять. Знак повторен уже дважды! Сомнений почти не остается!
Я, конечно, накинулась на нее с расспросами, но она внезапно замолчала, и ее пухлое лицо исказилось от испуга.
– Господи, а вдруг Он оскорбится на меня за болтливость? Что если теперь третьего Знака не будет?
И в смятении убежала, оставив меня терзаться завистью. Кажется, терзаться завистью – это всё, что мне в последнее время остается.
Как я завидовала Офелии! Как ненавидела ее! Как хотела оказаться на ее месте!
А, выходит, ее место – мутная вода под Устинским мостом, где плавает сор и в иле шевелятся жирные пиявки.
Гэндзи позвонил в дверь без четырех минут пять – я лежала на кровати и от нечего делать смотрела на циферблат часов.
– Она нашлась, – сказал он, когда я открыла.
– Кто? – спросила я.