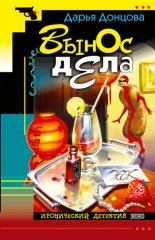Пелагия и черный монах Акунин Борис
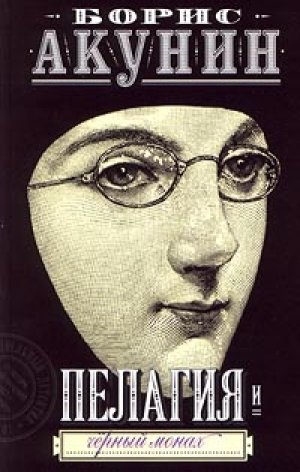
— Плавай, пока тятькины рублики не перевелись.
Потом был «жёлтый» день — из зелёного повело кровоподтёк в желтизну.
В сей день старец изрёк так:
— Мироварец сими состроит смешение нонфацит.
— Опять по-птичьему, — резюмировал брат Клеопа. — Скоро вовсе на говор птах небесных перейдёт. Эту нелепицу я запоминать не стану, навру отцу эконому что-нибудь.
— Погодите, отче, — встрял Пелагий. — Про мироварца — это, кажется, из книги Иисуса сына Сирахова. «Мироварец» — лекарь, а «смешение» — лекарство, по-учёному микстура. Только вот к чему «нонфацит», не ведаю.
Он несколько раз повторил: «нонфацит», «нонфацит» и умолк, никаких бесед с лодочником больше не вёл. На прощанье сказал:
— До завтра.
А назавтра лицо Полины Андреевны было уже почти совсем пристойным, лишь немножко отсвечивало бледно-палевым. Того же оттенка был и день — мягко-солнечный, с туманной дымкой.
Пелагию так не терпелось поскорей на Окольний, что он всё частил веслом, загребал сильней нужного, из-за чего лодку заворачивало носом. В конце концов за бестолковое усердие получил от брата Клеопы подзатыльник и пыл поумерил.
Схиигумен ждал на берегу. Про микстуру Пелагий, похоже, угадал верно — старец взял бутылочку и кивнул. А сказал послушнику вот что:
— Не печалися здрав есть монакум.
Монашек кивнул, будто именно эти слова и ожидал услышать.
— Ну, слава Господу, вроде болящему получшало, — говорил на обратном пути Клеопа. — Ишь как Давида-то обозвал — «монахум». Чудит святой старец… Что завтра-то, придёшь? — спросил лодочник у странно молчаливого нынче отрока.
Тот как не слышал.
Это, стало быть, было в «бледно-палевый» день, а потом настал день последний, когда всё закончилось.
Столько в этот последний день всякого произошло, что помогай Господь не сбиться и ничего не упустить.
День последний. Утро
Начнём обстоятельно, прямо с утра.
В девятом часу, когда ещё толком не рассвело, с озера донёсся протяжный гудок — это прибыл из Синеозерска пароход «Святой Василиск», с новым капитаном, из наёмных. Госпожа Лисицына к этому времени уже попила кофей и сидела перед зеркалом, с удовольствием разглядывая своё совершенно чистое лицо. Повернётся то так, то этак, всё не нарадуется. Пароходный гудок она слышала, но значения не придала.
А зря.
После унылого, раскатистого сигнала миновал какой-нибудь час, ну, может, чуть больше, и в комнату к Полине Андреевне, которая за это время успела позавтракать, одеться и уже готовилась ехать навещать Бердичевского, постучал монах, келейник архимандрита Виталия.
— Высокопреподобный отец настоятель просит вас к нему пожаловать, — поклонился чернец и вежливо, но непреклонно присовокупил. — Сей же час. Карета ждёт.
На вопросы удивлённой богомолицы отвечал уклончиво. Можно сказать, вовсе не отвечал — так, одними междометиями. Но по виду посланца Лисицына предположила, что в монастыре стряслось что-нибудь необычайное.
Не хочет говорить — не нужно.
Поколебавшись, брать ли с собой саквояж, всё же оставила. Ехать в монастырь с оружием смертоубийства сочла кощунством. В убережение от любопытной прислуги замотала револьвер в кружевные панталончики и засунула на самое дно. Поможет ли, нет — Бог весть.
Доехали быстро, в десять минут.
Выйдя из экипажа и оглядев монастырский двор, Полина Андреевна удостоверилась: точно, стряслось.
Монахи не ходили степенно, уточкой, как в обыкновенное время, а бегали. Кто мёл и без того чистую мостовую, кто тащил куда-то перины и подушки, а удивительнее всего было видеть, как в соборную церковь протрусили, подобрав рясы, певчие архимандритова хора во главе с пузатым и важным регентом.
Что за чудеса!
Провожатый повёл даму не в настоятельские палаты, а в архиерейские, которые предназначались для наиважнейших гостей и в обычное время пустовали. Тут в сердце Полины Андреевны что-то шевельнулось, некоторое предчувствие, но сразу же было подавлено как несбыточное и чреватое разочарованием.
А всё ж таки оно не обмануло!
В трапезной солнце светило из окон в лицо вошедшей и в спины сидящим за длинным, накрытым белой скатертью столом, поэтому поначалу Лисицына увидела лишь контуры нескольких мужей, пребывающих в чинной неподвижности. Почтительно поклонилась с порога и вдруг слышит голос отца Виталия:
— Вот, владыко, та самая особа, которую вам угодно было видеть.
Полина Андреевна быстро вытащила из футляра очки, прищурилась и ахнула. На почётном месте, в окружении монастырского начальства, сидел Митрофаний — живой, здоровый, разве что немножко осунувшийся и бледный.
Архиерей осмотрел «московскую дворянку» с головы до ног взглядом, не предвещавшим хорошего, пожевал губами. Не благословил, даже не кивнул.
— Пускай с нами откушает, я с ней после поговорю.
И повернулся к настоятелю, продолжив прерванную беседу.
Лисицына села на самый край ни жива ни мертва — и от радости, и, конечно, от страха. Отметила, что седины в бороде преосвященного стало больше, что щёки запали, а пальцы сделались тонки и слегка подрагивают, чего раньше не водилось. Вздохнула.
Брови епископа сурово похаживали вверх-вниз. Понятно было, что гневается, но сильно ли — на глаз не определялось. Уж Полина Андреевна смотрела-смотрела на своего духовного отца молящим взором, но внимания так и не удостоилась. Заключила: гневается сильно.
Снова вздохнула, но менее горько, чем в первый раз. Стала слушать, о чём говорят архиерей и настоятель.
Беседа была отвлечённая, о богоспасаемой общине.
— Я в своих действиях, ваше преосвященство, придерживаюсь убеждения, что монах должен быть как мертвец среди живущих. Неустанные труды во благо общины да молитвы — вот его бытование, и больше ничего не надобно, — говорил Виталий, видно, отвечая на некий вопрос или, может быть, упрёк. — Оттого я с братией строг и воли ей не даю. Когда постриг принимали, они сами от своей воли отказались, во славу Божию.
— А я с вашим высокопреподобием согласиться не могу, — живо ответил Митрофаний. — По-моему, монах должен быть живее любого мирянина, ибо он-то и живёт настоящей, то есть духовной жизнью. И вы к своим подопечным должны с почтением относиться, ибо каждый из них — обладатель возвышенной души. А у вас их в темницу сажают, голодом морят, да ещё, говорят, по мордасам прикладывают. — Здесь владыка метнул взгляд на дородного инока, что сидел справа от архимандрита — Полина Андреевна знала, что это грозный отец Триадий, монастырский келарь. — Такое рукоприкладство я попустить не могу.
— Монахи — они как дети, — возразил настоятель. — Ибо оторваны от обычных земных забот. Мнительны, суелюбопытны, невоздержанны на язык. Многие сызмальства в обительских стенах спасаются, так в душе дитятями и остались. С ними без отеческой строгости невозможно.
Преосвященный сдержанно заметил:
— А вы не принимайте в монашеское звание тех, кто жизни не изведал и себя не познал. Есть ведь у человека и другие пути спасения кроме иноческого служения. И путей этих бессчётное множество. Это только простаку мнится, что монашество — самая прямая дорога к Господу, но в Божьем мире прямая линия не всегда наикратчайшая. Хочу вновь настоятельно воззвать к вашему высокопреподобию: не увлекайтесь чрезмерно строгостью. Христова церковь должна не страх, любовь внушать. А то, глядя на дела наших церковников, хочется из Гоголя повторить: «Грустно от того, что в добре нет добра».
Отец Виталий выслушал наставление, упрямо наклонив голову.
— А я вашему преосвященству на это не словами светского сочинителя, а речением благочестивого старца Зосимы Верховского отвечу: «Если не будем со святыми, то будем с диаволами; третьего места ведь нет для нас». Господь производит отсев человеков — кому спастись, кому погибнуть. Выбор этот суровый, страшный, как тут без строгости?
Полина Андреевна знала, что покойного оптинского старца Зосиму Верховского владыка почитает особенным образом, так что архимандритово возражение попало в цель.
Митрофаний молчал. Прочие монахи смотрели на него, ждали. Внезапно госпоже Лисицыной сделалось не по себе: она одна была здесь в мирском наряде, единственным светлым пятном среди чёрных ряс. Словно какая синица или канарейка, по ошибке залетевшая в стаю воронов.
Нет, сказала себе Полина Андреевна, я той же породы. И не вороны они вовсе, они о важном говорят, обо всём человечестве пекутся.
Так что скажет настоятелю Митрофаний?
— Католичество допускает ещё и чистилище, потому что людей совсем хороших и совсем плохих мало, — медленно проговорил епископ. — Чистилище, конечно, нужно понимать в смысле духовном — как место очищения от налипшей грязи. Наша же православная вера чистилища не признаёт. Я долго думал, отчего такая непреклонность, и надумал. Не от строгости это, а от ещё большего милосердия. Ведь вовсе чёрных, неотмываемых грешников не бывает, во всяком, даже самом закоренелом злодее живой огонёк теплится. И наш православный ад, в отличие от католического, ни у кого, даже у Иуды, надежды не отнимает. Думается мне, что адские муки у нас не навечно задуманы. Православный ад то же чистилище и есть, потому что всякой грешной душе там свой срок отведён. Не может быть, чтобы Господь в Своём милосердии душу вечно, без прощения карал. Зачем тогда и муки, если не в очищение?
Ново-араратские отцы переглянулись, ничего на это суждение не сказали, а Полина Андреевна покачала головой. Ей было известно, что, говоря о религии, владыка частенько высказывает мысли, которые могут быть сочтены вольнодумными и даже еретическими. Меж своими ладно, нестрашно. Но перед этими начётниками? Ведь донесут, накляузничают.
А Митрофаний свою нотацию не закончил.
— И ещё попеняю вашему высокопреподобию. Слышал я, что очень уж вы угождаете земным властителям, когда они вас навещают. Рассказывали мне, что в прошлый год, когда к вам великих княжон на богомолье привозили, вы будто бы к каждой святыне ковровую дорожку уложили и хор ваш перед приезжими целый концерт затеял. Это перед девочками-то малолетними! А зачем вы к генерал-губернатору самолично ездили синеозерскую дачу святить и даже чудотворную икону с собой возили?
— Ради богоугодного дела! — горячо воскликнул Виталий. — Ведь телом-то на земле живём и по земле ступаем! За то, что я их императорским высочествам угодил, монастырю от дворцового ведомства в Петербурге участок под церковь подворскую пожалован. А генерал-губернатор в благодарность колокол бронзовый пятисотпудовый прислал. Это ж не мне, многогрешному Виталию, это церкви надобно!
— Ох, боюсь я, что нашей церкви за лобызание с земной властью придётся дорогую цену заплатить, — вздохнул епископ. — И, возможно, в не столь отдалённом времени… Ну да ладно, — неожиданно улыбнулся он после короткой паузы. — Только приехал и сразу браниться — тоже не очень по-доброму выходит. Хотел бы я, отец Виталий, знаменитый ваш остров осмотреть. Давно мечтаю.
Архимандрит почтительно наклонил голову.
— Я уж и то удивлялся, чем прогневал ваше преосвященство, отчего Арарат никогда посещением не удостоите. Если б заранее известить изволили, и встречу бы достойную приготовил. А так что же — не взыщите.
— Это ничего, я парадности не любитель, — благодушно сказал архиерей, сделав вид, что не заметил в словах настоятеля скрытого упрёка. — Хочу увидеть всё, как бывает в обыденности. Вот прямо сейчас и начну.
— А оттрапезничать? — встревожился отец келарь. — Рыбки нашей синеозерской, пирогов, солений, мёда-пряничков?
— Благодарствуйте, доктора не велят. — Митрофаний постучал себя по левой половине груди и поднялся. — Отвары пью, кашицы скучные вкушаю, тем и сыт.
— Что ж, готов сопровождать куда велите, — поднялся и Виталий, а за ним остальные. — Карета запряжена.
Владыка ласково молвил:
— Мне ведомо, сколько у вашего высокопреподобия забот. Не тратьте время на пустое чинопочитание, мне это не лестно, да и вам не в удовольствие.
Архимандрит нахмурился:
— Так я отряжу с вашим преосвященством отца Силуана или отца Триадия. Нельзя ж вовсе без провожатого.
— Не нужно и их. Я ведь к вам не с инспекцией, как вы, должно быть, подумали. Давно желал и даже мечтал побывать у вас попросту, как обычный паломник. Бесхитростно, безо всяких начальственных видов.
Голос у владыки и в самом деле был бесхитростный, но Виталий насупился ещё пуще — не поверил в Митрофаниеву искренность. Верно, решил, что епископ хочет осмотреть монастырские владения без подсказчиков и соглядатаев. И правильно решил.
Только теперь преосвященный глянул на Полину Андреевну.
— Вот госпожа… Лисицына со мной поедет, давняя моя знакомица. Не откажите, Полина Андреевна, составить компанию старику. — И как поглядит в упор из-под густых бровей — Лисицына сразу с места вскочила. — Поговорим о прежних днях, расскажете о своём житье-бытье, сравним наши впечатления от святой обители.
Нехорошим это было сказано тоном — во всяком случае, так помнилось Полине Андреевне.
— Хорошо, отче, — пролепетала она, опустив глаза.
Настоятель уставился на неё с тяжёлым подозрением во взоре. Недобро усмехнувшись, поинтересовался:
— Что крокодил, матушка, боле не мучает?
Лисицына смолчала, только голову ещё ниже опустила.
Выехали из ворот в той же карете, что доставила Полину Андреевну из пансиона. Пока ничего сказано не было. Преступница волновалась, не знала, с чего начать: то ли каяться, то ли оправдываться, то ли про дело говорить. Митрофаний же молчал со смыслом — чтоб прониклась.
Глядел в окошко на опрятные араратские улицы, одобрительно цокал языком. Заговорил неожиданно — госпожа Лисицына даже вздрогнула.
— Ну а крокодил — это что? Опять озорство какое-нибудь?
— Грешна, отче. Обманула высокопреподобного, — смиренно призналась Полина Андреевна.
— Грешна, ох грешна, Пелагиюшка. Много делов натворила…
Вот оно, началось. Покаянно вздохнула, потупилась.
Митрофаний же, загибая пальцы, стал перечислять все её вины:
— Клятву преступила, данную духовному отцу, больному и даже почти что умирающему.
— Я не клялась! — быстро сказала она.
— Не лукавь. Ты мою просьбу безмолвную — в Арарат не ездить — преотлично поняла и головой кивнула, руку мне поцеловала. Это ли не клятва, змея ты вероломная?
— Змея, как есть змея, — согласилась Полина Андреевна.
— В недозволенные одежды вырядилась, сан монашеский осрамила. Шея вон голая, тьфу, смотреть зазорно.
Лисицына поспешно прикрыла шею платком, но попыталась сей пункт обвинения отклонить:
— В иные времена вы сами меня на такое благословляли.
— А сейчас не то что благословения не дал — прямо воспретил, — отрезал Митрофаний. — Так иль не так?
— Так…
— В полицию думал на тебя заявить. И даже оказался бы неизвинимым, не сделав этого. Деньги у пастыря похитила! Это уж так пасть — ниже некуда! На каторгу бы тебя, самое подходящее для воровки место.
Полина Андреевна не возразила — нечего было.
— И если я не объявил тебя, беглую черницу и разбойницу, в полицейский розыск на всю империю — а тебя по рыжести и конопушкам быстро бы сыскали, — то единственно из благодарности за исцеление.
— За что? — изумилась Лисицына, думая, что ослышалась.
— Как узнал я от сестры Христины, что ты, на меня сославшись, уехала куда-то, да как понял, что ты умыслила, сразу моё здоровье на поправку пошло. Устыдился я, Пелагиюшка, — тихо сказал архиерей, и стало видно, что вовсе он не гневается. — Устыдился слабости своей. Что ж я, как старуха плаксивая, на постели валяюсь, докторские декокты с ложечки кушаю? Чад своих несчастных в беде бросил, всё на женские плечи свалил. И так мне стыдно сделалось, что я уж на второй день садиться стал, на четвёртый пошёл, на пятый маленько в коляске по городу прокатился, а на восьмой засобирался в дорогу — сюда, к вам. Профессор Шмидт, который меня из Питера хоронить ехал, говорит, что отродясь не видал такого скорого выздоровления от надорвания сердечной мышцы. Уехал профессор в столицу, очень собой гордый. Теперь ему за визиты и консультации станут ещё больше денег платить. А вылечила меня ты, не он.
Всхлипнув, Полина Андреевна облобызала преосвященному худую белую руку. Он же поцеловал её в пробор.
— Ишь, напарфюмилась-то, — проворчал епископ, уже не прикидываясь сердитым. — Ладно, о деле говори.
Лисицына достала из-за пазухи письмо, протянула.
— Лучше прочтите. Тут всё самое главное. Каждый вечер приписывала. Короче и ясней выйдет, чем рассказывать. Или хотите словами?
Митрофаний надел пенсне.
— Дай прочту. Чего не пойму — спрошу.
Со всеми накопившимися чуть не за целую неделю приписками письмо было длинное, мало не на десяток страниц. Строчки кое-где подмокли, расплылись.
Карета остановилась. Возница-монах, сняв колпак, спросил:
— Куда прикажете? Из города выехали.
— В лечебницу доктора Коровина, — сказала Полина Андреевна вполголоса, чтобы не мешать читающему.
Покатили дальше.
Она жалостно рассматривала перемены в облике владыки, вызванные недугом. Ох, рано он встал с постели. Как бы снова беды не вышло. Но, с другой стороны, лежать в бездействии ему только хуже бы было.
В одном месте преосвященный вскрикнул, как от боли. Она догадалась: про Алёшу прочёл.
Наконец, владыка отложил листки, хмуро задумался. Спрашивать ни о чём не спрашивал — видно, толково было изложено.
Пробормотал:
— А я-то, старик ненадобный, пилюли глотал да ходить учился… Ох, стыдно.
Полине Андреевне не терпелось поговорить о деле.
— Мне, владыко, загадочные речения старца Израиля покою не дают. Там ведь что выходит-то…
— Погоди ты со своими загадками, — отмахнулся Митрофаний. — Про это после потолкуем. Сначала главное: Матюшу видеть хочу. Что, плох?
— Плох.
День последний. Середина
— Очень плох, — подтвердил доктор Коровин. — С каждым днём достучаться до него всё труднее. Энтропоз прогрессирует. День ото дня больной делается всё более вялым и пассивным. Ночные галлюцинации прекратились, но я вижу в этом не улучшение, а ухудшение: психика уже не нуждается в возбуждениях, Бердичевский утратил способность испытывать такие сильные чувства, как страх, у него ослабился инстинкт самосохранения. Вчера я провёл опыт: велел не приносить ему пищи, пока не попросит сам. Не попросил. Так весь день и просидел голодный… Он перестаёт узнавать людей, если не видел их со вчерашнего дня. Единственный, кому удавалось хоть как-то втянуть его в связный разговор, — сосед, Лямпе, но тот тоже субъект специфический и не мастер красноречия — Полина Андреевна видела, знает. Весь мой опыт подсказывает, что дальше будет только хуже. Если хотите, можете забрать у меня больного, но даже в наимоднейшей швейцарской клинике, хоть у самого Швангера, результат будет тот же. Увы, современная психиатрия в подобных случаях беспомощна.
Втроём — доктор, епископ и Лисицына — они вошли в коттедж № 7. Заглянули в спальню. Две пустые кровати — одна, Бердичевского, скомканная, вторая аккуратно застеленная.
Вошли в лабораторию. Несмотря на день, шторы задвинуты, свет не горит. Тихо.
Над спинкой кресла торчала лысеющая макушка Матвея Бенционовича, в прежние времена всегда прикрытая виртуозным зачёсом, а теперь беззащитная, голая. На звук шагов больной не обернулся.
— А где Лямпе? — шёпотом спросила Полина Андреевна.
Коровин голос понижать не стал:
— Понятия не имею. Как ни приду, его всё нет. Пожалуй, уже несколько дней его не видел. Сергей Николаевич у нас личность самостоятельная. Должно быть, открыл ещё какую-нибудь эманацию и увлечён «полевыми экспериментами» — есть у него такой термин.
Владыка остался у порога. Глядел на затылок своего духовного чада, часто-часто моргая.
— Матвей Бенционович! — позвала госпожа Лисицына.
— Вы погромче, — посоветовал Донат Саввич. — Он теперь откликается лишь на сильные раздражители.
Она во весь голос крикнула:
— Матвей Бенционович! Смотрите, кого я к вам привела!
Была у Полины Андреевны маленькая надежда: увидит Бердичевский любимого наставника и встряхнётся, пробудится к жизни.
На крик товарищ прокурора оглянулся, поискал источник звука. Нашёл. Но посмотрел только на женщину. Её спутников взгляда не удостоил.
— Да? — медленно спросил он. — Что вам, сударыня?
— Раньше он про вас всё время спрашивал! — в отчаянии прошептала она Митрофанию. — А теперь и не глядит… А где господин Лямпе? — осторожно спросила она, приблизившись к сидящему.
Тот произнёс тускло, безразлично:
— Под землей.
— Видите? — пожал плечами Коровин. — Реакция лишь на интонацию и грамматику вопроса, с бредовым откликом. Новый этап в развитии душевной болезни.
Архиерей шагнул вперёд, решительно отодвинув доктора в сторону.
— Дайте-ка. Физические повреждения мозга — сие безусловно по части медицины, а вот что до болезней души, в которую, как говорили в старину, бес вселился, — это уж, доктор, по моему ведомству. — И, властно повысив голос, приказал. — Вы вот что, оставьте-ка нас с господином Бердичевским вдвоём. И не приходите, пока не позову. Неделю не буду звать — значит, неделю не приходите. Чтоб никто, ни один человек. Понятно вам?
Донат Саввич усмехнулся:
— Ах, владыко, не по вашей это епархии, уж поверьте. Этого беса молитовкой да святой водицей не изгонишь. Да и не позволю я у себя в клинике средневековье устраивать.
— Не позволите? — прищурился архиерей, оглянувшись на доктора. — А разгуливать больным меж здоровых позволяете? Что это вы здесь, в Арарате, за смешение устроили? Не разберёшь, которые из публики вменяемые. И так на свете живёшь, не всегда понимаешь, кто вокруг сумасшедший, кто нет, а у вас на острове и вовсе один соблазн и смущение. Этак и здравый про самого себя засомневается. Вы лучше делайте, что вам сказано. Не то воспрещу вашему заведению на церковной земле пребывать.
Коровин далее спорить не осмелился. Развёл руками — мол, делайте что хотите, — повернулся да вышел.
— Пойдём-ка, Матюша.
Епископ ласково взял больного за руку, повёл из тёмной лаборатории в спальню.
— Ты, Пелагия, с нами не ходи. Когда можно будет — кликну.
— Хорошо, отче, я в лаборатории подожду, — поклонилась Лисицына.
Бердичевского владыка усадил на кровать, себе пододвинул стул. Помолчали. Митрофаний смотрел на Матвея Бенционовича, тот — в стену.
— Матвей, неужто вправду меня не узнал? — не выдержал преосвященный.
Только тогда Бердичевский перевёл на него взгляд. Помигал, сказал неуверенно:
— Вы ведь духовная особа? Вот и панагия у вас на груди. Ваше лицо мне знакомо. Должно быть, я вас во сне видел.
— А ты меня потрогай. Я тебе не снюсь. Разве ты не рад мне?
Матвей Бенционович послушно потрогал посетителя за рукав. Вежливо ответил:
— Отчего же, очень рад.
Посмотрел на владыку ещё и вдруг заплакал — тихонько, без голоса, но со многими слезами.
Проявлению чувств, пускай даже такому, Митрофаний обрадовался. Принялся поглаживать убогого по голове и сам всё приговаривал:
— Поплачь, поплачь, со слезами из души яд выходит.
Но Бердичевский, кажется, пристроился плакать надолго. Всё лил слёзы, лил, и что-то очень уж монотонно. И плач был странный, похожий на затяжную осеннюю морось. Преосвященный весь свой платок измочил, утирая духовному сыну лицо, а платок был изрядный, мало не в аршин.
Нахмурился епископ.
— Ну-ну, поплакал и будет. Я ведь к тебе с хорошими вестями, очень хорошими.
Матвей Бенционович покорно похлопал глазами, и те немедленно высохли.
— Это хорошо, когда хорошие вести, — заметил он.
Митрофаний подождал вопроса, не дождался. Тогда объявил торжественно:
— Тебе производство в следующий чин пришло. Поздравляю. Ты ведь давно ждёшь. Теперь ты статский советник.
— Мне статским советником быть нельзя. — Бердичевский рассудительно наморщил лоб. — Сумасшедшие не могут носить чин пятого класса, это воспрещено законом.
— Ещё как могут, — попробовал шутить владыка. — Я знаю особ даже четвёртого и, страшно вымолвить, третьего класса, которым самое место в скорбном доме.
— Да? — немножко удивился Матвей Бенционович. — А между тем артикул государственной службы этого совершенно не допускает.
Снова помолчали.
— Но это ещё не главная моя весть. — Епископ хлопнул Бердичевского по колену — тот вздрогнул и плаксиво сморщился. — У тебя ведь мальчик родился, сын! Здоровенький, и Маша здорова.
— Это очень хорошо, — кивнул товарищ прокурора, — когда все здоровы. Без здоровья ничто не приносит счастья — ни слава, ни богатство.
— Уж и имя выбрали. Подумали-подумали и назвали…. — Митрофаний выдержал паузу. — Акакием. Будет теперь Акакий Матвеевич. Чем не прозвание?
Матвей Бенционович одобрил и имя.
И опять наступила тишина. Теперь молчали с полчаса, не меньше. Видно было, что Бердичевскому безмолвие отнюдь не в тягость. Он и не двигался почти, смотрел прямо перед собой. Раза два, когда Митрофаний пошевелился, перевёл на него взгляд, благожелательно улыбнулся.
Не зная, как ещё пробиться через глухую стенку, архиерей завёл разговор о семействе — для этой цели фотографические карточки из Синеозерска прихватил. Матвей Бенционович снимки рассматривал с вежливым интересом. Про жену сказал:
— Милое лицо, только неулыбчивое.
И дети ему тоже понравились.
— У вас очаровательные крошки, отче, — сказал он. — И как много. Я и не знал, что лицам монашеского звания дозволяется детей иметь. Жалко, мне детей заводить нельзя, потому что я сумасшедший. Закон воспрещает сумасшедшим вступать в брак, а если кто уже вступил, то такой брак признаётся недействительным. Мне кажется, я тоже прежде был женат. Что-то такое припо…
Тут раздался осторожный стук, и в дверь просунулось веснушчатое лицо Полины Андреевны — ужасно некстати. Владыка замахал на духовную дочь рукой: уйди, не мешай — и дверь затворилась. Но момент был упущен, в воспоминания Бердичевский так и не пустился — отвлёкся на таракана, что медленно полз по тумбочке.
Шли минуты, часы. День стал меркнуть. Потом угас. В комнате потемнело. Никто больше в дверь не стучал, не смел тревожить епископа и его безумного подопечного.
— Ну вот что, — сказал Митрофаний, с кряхтением поднимаясь. — Устал я что-то. Буду устраиваться на ночь. Физика твоего всё равно нет, а появится — доктор его в иное место определит.
Улёгся на вторую постель, вытянул занемевшие члены.
Матвей Бенционович впервые проявил некоторые признаки беспокойства. Зажёг лампу, повернулся к лежащему.
— Вам здесь не положено, — нервно проговорил он. — Это помещение для сумасшедших, а вы здоровый.
Митрофаний зевнул, перекрестил рот, чтоб злой дух не влетел.
— Какой же ты сумасшедший? Не воешь, по полу не катаешься.
— По полу не катаюсь, но бывало, что выл, — признался Бердичевский. — Когда очень страшно делалось.
— Ну и я с тобой выть буду. — Голос преосвященного был безмятежен. — Я, Матюша, теперь тебя никогда не оставлю. Мы всегда будем вместе. Потому что ты мой духовный сын и потому что я тебя люблю. Знаешь ты, что такое любовь?
— Нет, — ответил Матвей Бенционович. — Я теперь ничего не знаю.
— Любовь — это значит всё время вместе быть. Особенно, когда тому, кого любишь, плохо.
— Нельзя вам здесь! Как вы не понимаете! Вы же епископ!
Ага! Митрофаний в полумраке сжал кулаки. Вспомнил! Ну-ка, ну-ка.
— Это мне, Матюша, всё равно. Я с тобой останусь. И тебе больше не будет страшно, потому что вдвоём страшно не бывает. Будем с тобой оба сумасшедшие, ты да я. Доктор Коровин меня примет, случай для него интересный: губернский архиерей мозгами сдвинулся.
— Нет! — заупрямился Бердичевский. — Вдвоём с ума не сходят!
И это тоже показалось преосвященному добрым признаком — прежде-то Матвей Бенционович со всем соглашался.
Митрофаний сел на кровати, свесил ноги. Заговорил, глядя бывшему следователю в глаза:
— А я и не думаю, Матвей, что ты с ума сошёл. Так, тронулся немножко. С очень умными это бывает. Очень умные часто хотят весь мир в свою голову втиснуть. А он весь туда не помещается, Божий-то мир. Углов в нём много, и преострые есть. Лезут они из черепушки, жмут на мозги, ранят.
Матвей Бенционович взялся за виски, пожаловался:
— Да, жмут. Иногда знаете как больно?