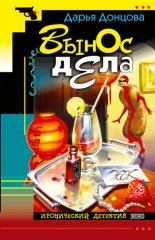Пелагия и черный монах Акунин Борис
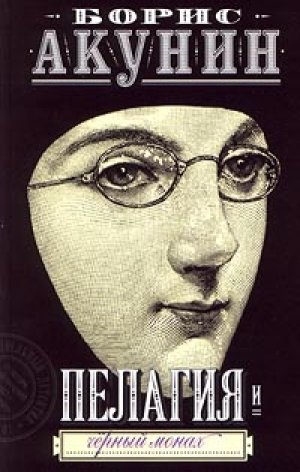
— Испытывать себя полезно и даже необходимо, — согласился Лев Николаевич. — Я так думаю, что…
— Стойте! — перебил его товарищ прокурора, охваченный внезапной идеей. — Стойте! Я знаю, через какое испытание я должен пройти! Скажите, ради Бога скажите, где находится тот дом, где жил бакенщик? Знаете?
— Конечно, знаю, — удивился Лев Николаевич. — Это вон туда, вдоль берега, до Постной косы, а после налево. Версты две будет. Да только зачем вам?
— А вот зачем…
И Бердичевский — видно, такая уж нынче была ночь — выдал сердечному другу все следственные тайны: рассказал и про Алёшу Ленточкина, и про Лагранжа, и, разумеется, про свою миссию. Слушатель только ахал и головой качал.
— Клянусь вам, — сказал в заключение Матвей Бенционович и поднял руку, как во время произнесения присяги на суде, — что я немедленно, сейчас же, отправлюсь к этой чёртовой избушке совсем один, дождусь полуночи и войду туда, как вошли туда Алексей Степанович и Феликс Станиславович. Наплевать, если там ничего не окажется, если всё суеверие и враки. Главное, что я свой страх преодолею и уже тем собственное уважение верну!
Лев Николаевич вскочил и с восторгом воскликнул:
— Как чудесно вы это сказали! Я на вашем месте поступил бы точно так же. Только знаете что… — Он порывисто схватил Бердичевского за локоть. — Нельзя вам туда одному идти. Очень уж страшно. Возьмите меня с собой. Нет, правда! Давайте вдвоём, а?
И моляще заглянул Матвею Бенционовичу в глаза, так что у того стиснулась грудь и снова потекли слёзы.
— Благодарю вас, — сказал товарищ прокурора с чувством. — Я ценю ваш порыв, но сердце подсказывает мне, что я должен войти туда один. Иначе ничего не выйдет, да и настоящего искупления не получится. — Он выдавил из себя улыбку и даже попробовал пошутить. — К тому же вы существо столь ангельского образа, что нечистая сила вас может застесняться.
— Хорошо-хорошо, — закивал Лев Николаевич. — Я не стану мешать. Я знаете что, я только провожу вас туда, а сам в сторонке встану. В пятидесяти шагах, даже в ста. Но проводить провожу. И вам будет не так одиноко, и мне спокойнее. Мало ли что…
Бердичевский ужасно обрадовался этой идее, которая, с одной стороны, не девальвировала предполагаемого искуса, а с другой, всё же сулила некую, пусть даже иллюзорную поддержку. Обрадовался — и тут же рассердился на себя за эту радость.
Нахмурившись, сказал:
— Не в ста шагах. В двухстах.
Расстались на мостике через быструю узкую речку, которой оставалось течь до озера не более двадцати саженей.
— Вон он, домик бакенщика, — показал Лев Николаевич на тёмный куб, что посверкивал под луной своей белой соломенной крышей. — Так мне никак с вами нельзя?
Бердичевский покачал головой. Говорить не решался, потому что зубы были плотно стиснуты — имелось опасение, что если дать им волю, то начнут постыдно клацать.
— Ну, Бог в помощь, — взволнованно сказал верный секундант. — Я буду ждать вот здесь, у Прощальной часовни. Если что — кричите, я сразу прибегу.
Вместо ответа Матвей Бенционович неловко обнял Льва Николаевича за плечи, на секунду прижал к себе и, махнув рукой, зашагал к избушке.
До полуночи оставалось две минуты, но и идти было всего ничего — даже не двести шагов, а самое большее полтораста.
Глупости какие, мысленно говорил себе товарищ прокурора, вглядываясь в избушку. И ведь знаю наверное, что ничего не будет. Не может ничего быть. Войду, постою там, да и выйду, чувствуя себя полным остолопом. Хорошо хоть свидетель такой добросердечный. Кто другой на смех бы поднял, ославил бы на весь свет. Мол, заместитель губернского прокурора шастает на свидания с нечистой силой и ещё от страха трясётся.
Побуждаемая самолюбием, в душе шевельнулась отвага. Теперь нужно было её бережно, как трепещущий на ветру огонёк, распалить, не дать угаснуть.
— Ну-те-с, ну-те-с, — протянул Бердичевский, ускоряя шаг.
Перед криво заколоченной дверью всё же остановился и мелко, чтоб сзади не было видно, перекрестился. Раздеваться догола, конечно, нелепость, решил Матвей Бенционович. Всё равно формулу из средневекового трактата он толком не помнил. Ну да ничего, как-нибудь обойдётся и без формулы. Дотронуться до нацарапанного на стекле креста и сказать что-то такое про уговор архангела Гавриила с Лукавым. Иди сюда, дух святой, — так, кажется. А если начнутся неприятности, нужно поскорей крикнуть по-латыни, что веруешь в Господа, и всё отличным образом устроится.
Ёрничанье прибавило следователю храбрости. Он взялся за край двери, напрягся что было сил и потянул на себя.
Можно было, оказывается, и не напрягаться — створка подалась легко.
Ступая по скрипучему полу, Матвей Бенционович попытался определить, где окно. Замер в нерешительности, но в это время месяц, на короткое время спрятавшийся за тучку, снова озарил небосвод, и слева высветился серебристый квадрат.
Следователь повернул шею, подавился судорожным вскриком.
Там кто-то стоял!
Недвижный, чёрный, в остроконечном куколе!
Нет, нет, нет, — замотал головой Бердичевский, чтобы отогнать видение. Словно не выдержав тряски, голова вдруг взорвалась невыносимой болью, пронзившей и череп, и самое мозг.
Потрясённое сознание покинуло Матвея Бенционовича, он больше ничего не видел и не слышал.
Потом, неизвестно через сколько времени, чувства вернулись к несчастному следователю, однако не все — зрение возвращаться так и не пожелало. Глаза Бердичевского были открыты, но ничего не видели.
Он прислушался. Услышал частый-частый стук собственного сердца, даже хлопанье ресниц — вот какая стояла тишина. Втянул носом запах пыли и стружек. Болела голова, затекло тело — значит, жив.
Но где он? В избушке?
Нет. Там было темно, но не так, не абсолютно темно — будто в гробу.
Матвей Бенционович хотел приподняться — ударился лбом. Пошевелил руками — локтям было не раздвинуться. Согнул колени — тоже упёрлись в твёрдое.
Тут товарищ прокурора понял, что он и в самом деле лежит в заколоченном гробу, и закричал.
Сначала не очень громко, как бы ещё не утратив надежды:
— А-а! А-а-а!
Потом во все лёгкие:
— А-а-а-а!!!!
Выкрикнув весь воздух, захлебнулся рыданием. Мозг, приученный к логическому мышлению, воспользовался краткой передышкой и раскрыл Бердичевскому одну загадку — увы, слишком поздно. Так вот почему Лагранж стрелялся левой рукой, снизу вверх! Иначе ему в гробу револьвер было не вывернуть. Кое-как вытянул свой длинноствольный «смит-вессон», пристроил к сердцу, да и выпалил.
О, какая лютая зависть к покойному полицмейстеру охватила Матвея Бенционовича! Каким облегчением, каким невероятным счастьем было бы иметь под рукой револьвер! Одно нажатие спуска, и кошмару конец, во веки веков.
Глотая слёзы, Бердичевский бормотал: «Маша, Машенька, прости… Я снова тебя предал, и ещё хуже, чем там, на дороге! Я бросаю тебя, бросаю одну…»
А мозг продолжал свою работу, теперь уже никому не нужную.
Вот и с Ленточкиным понятно. То-то он после гроба никаких крыш и стен не выносит — вообще никакого стеснения для тела.
Рыдания оборвались сами собой — это Бердичевский дошёл до следующего открытия.
Но Ленточкин каким-то образом из гроба выбрался! Пусть сумасшедший, но живой! Значит, надежда есть!
Молитва! Как можно было забыть про молитву!
Однако латынь, казалось, твёрдо вызубренная за годы учёбы в гимназии и университете, от ужаса вся стёрлась из памяти погибающего Матвея Бенционовича. Он даже не мог вспомнить, как по-латыни «Господи»!
И духовный сын владыки Митрофания заорал по-русски:
— Верую, Господи, верую!!!
Забился в деревянном ящике, упёрся в крышку лбом, руками, коленями — и свершилось чудо. Верхняя часть гроба с треском отлетела в сторону, Бердичевский сел, хватая ртом воздух, огляделся по сторонам.
Увидел всё ту же избушку, после кромешной тьмы показавшуюся необычайно светлой, разглядел в углу и печку, и даже ухват. И окно было на месте, только страшный силуэт из него исчез.
Приговаривая «Верую, Господи, верую», Бердичевский перелез через бортик, грохнулся на пол — оказалось, что гроб стоял на столе.
Не обращая внимания на боль во всём теле, задвигал локтями и коленями, проворно пополз к двери.
Перевалился через порог, вскочил, захромал к речке.
— Лев! Николаевич! На помощь! Спасите! — хрипло вопил товарищ прокурора, боясь оглянуться — что, если сзади несётся над землёй чёрный, в остром колпаке? — Помогите! Я сейчас упаду!
Вот и мостик, вот и ограда. Лев Николаевич обещал ждать здесь.
Бердичевский метнулся вправо, влево — никого.
Этого просто не могло быть! Не такой человек Лев Николаевич, чтобы взять и уйти!
— Где вы? — простонал Матвей Бенционович. — Мне плохо, мне страшно!
Когда от стены часовни бесшумно отделилась тёмная фигура, измученный следователь взвизгнул, вообразив, что кошмарный преследователь обогнал его и поджидает спереди.
Но нет, судя по контуру, это был Лев Николаевич. Всхлипывая, Бердичевский бросился к нему.
— Слава… Слава Богу! Верую, Господи, верую! Что же вы не отзывались? Я уж думал…
Он приблизился к своему соратнику и забормотал:
— Я… Я не знаю, что это было, но это было ужасно… Кажется, я схожу с ума! Лев Николаевич, милый, что же это? Что со мной?
Здесь молчавший повернул лицо к лунному свету, и Бердичевский растерянно умолк.
В облике Льва Николаевича произошла странная метаморфоза. Сохранив все свои черты, это лицо неуловимо, но в то же время совершенно явственно переменилось.
Взгляд из мягкого, ласкового, стал сверкающим и грозным, губы кривились в жестокой насмешке, плечи распрямились, лоб пересекла резкая, как след кинжала, морщина.
— А то самое, — свистящим голосом ответил неузнаваемый Лев Николаевич и повертел пальцем у виска. — Ты, приятель, того, кукарекнулся. Ну и идиотская же у тебя физиономия!
Матвей Бенционович испуганно отшатнулся, а Лев Николаевич, правая щека которого дёргалась мелким тиком, ощерил замечательно белые зубы и трижды торжествующе прокричал:
— Идиот! Идиот! Идиот!
Лишь теперь, самым уголком стремительно угасающего сознания, Бердичевский понял, что он, действительно, сошёл с ума, причём не только что, в избушке, а раньше, много раньше. Явь и реальность перемешались в его больной голове, так что теперь уже не разберёшь, что из событий этого чудовищного дня произошло на самом деле, а что было бредом заплутавшего рассудка.
Втянув голову в плечи и приволакивая ногу, безумный чиновник побежал по лунной дороге, куда глядели глаза, и всё приговаривал:
— Верую, Господи, верую!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
БОГОМОЛЬЕ Г-ЖИ ЛИСИЦЫНОЙ
Дворянка Московской губернии
Надо же так случиться, чтоб прямо перед тем, как прийти второму письму от доктора Коровина, в самый предшествующий вечер, между архиереем и сестрой Пелагией произошёл разговор о мужчинах и женщинах. То есть, на эту тему владыка и его духовная дочь спорили частенько, но на сей раз, как нарочно, столкнулись именно по предмету силы и слабости. Пелагия доказывала, что «слабым полом» женщин нарекли зря, неправда это, разве что в смысле крепости мышц, да и то не всех и не всегда. Увлёкшись, монахиня даже предложила епископу сбегать или сплавать наперегонки — посмотреть, кто быстрее, однако тут же опомнилась и попросила прощения. Митрофаний, впрочем, нисколько не рассердился, а засмеялся.
— Хорошо бы мы с тобой смотрелись, — стал описывать преосвященный. — Несёмся сломя голову по Большой Дворянской: рясы подобрали, ногами сверкаем, у меня борода по ветру веником, у тебя патлы рыжие полощутся. Народ смотрит, крестится, а нам хоть бы что — добежали до реки, бултых с обрыва — и саженками, саженками.
Посмеялась и Пелагия, однако от темы не отступилась.
— Нет сильного пола и нет слабого. Каждая из половин человечества в чём-то сильна, а в чём-то слаба. В логике, конечно, изощрённей мужчины, от этого и большая способность к точным наукам, но здесь же и недостаток. Вы, мужчины, норовите всё под гимназическую геометрию подогнать и, что у вас в правильные фигуры да прямые углы не всовывается, от того вы отмахиваетесь и потому часто главное упускаете. И ещё вы путаники, вечно понастроите турусов на колёсах, где не надо бы, да сами под эти колёса и угодите. Ещё гордость вам мешает, больше всего вы страшитесь в смешное или унизительное положение попасть. А женщинам это всё равно, мы хорошо знаем, что страх этот глупый и ребяческий. Нас в неважном сбить и запутать легче, зато в главном, истинно значительном, никакой логикой не собьёшь.
— Ты к чему это всё говоришь? — усмехнулся Митрофаний. — Зачем вся твоя филиппика? Что мужчины глупы и надобно власть над обществом у них отобрать, вам передать?
Монахиня ткнула пальцем в очки, съехавшие от запальчивости на кончик носа.
— Нет, владыко, вы совсем меня не слушаете! Оба пола по-своему умные и глупые, сильные и слабые. Но в разном! В том и величие замысла Божия, в том и смысл любви, брака, чтоб каждый своё слабое подкреплял тем сильным, что есть в супруге.
Однако говорить серьёзно епископ нынче был не настроен. Изобразил удивление:
— Замуж, что ли, собралась?
— Я не про себя говорю. У меня иной Жених есть, который меня лучше всякого мужчины укрепляет. Я про то, что напрасно вы, отче, в серьёзных делах только на мужской ум полагаетесь, а про женскую силу и про мужскую слабость забываете.
Митрофаний слушал да посмеивался в усы, и это распаляло Пелагию ещё больше.
— Хуже всего эта ваша снисходительная усмешечка! — наконец взорвалась она. — Это в вас от мужского высокомерия, монаху вовсе не уместного! Не вам ли сказано: «Нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе»?
— Знаю, отчего ты мне проповеди читаешь, отчего бесишься, — ответил на это проницательный пастырь. — Обижена, что я в Новый Арарат не тебя послал. И к Матвею ревнуешь. Ну как он всё размотает без участия твоей рыжей головы? А Матвей беспременно размотает, потому что осторожен, проницателен и логичен. — Здесь Митрофаний улыбаться перестал и сказал уже без шутливости. — Я ли тебя не ценю? Я ли не знаю, как ты сметлива, тонка чутьём, угадлива на людей? Но, сама знаешь, нельзя чернице в Арарат. Монастырский устав воспрещает.
— Вы это говорили уже, и я при Бердичевском препираться не стала. Сестре Пелагии, конечно, нельзя. А Полине Андреевне Лисицыной очень даже возможно.
— Даже не думай! — построжел преосвященный. — Хватит! Погрешили, погневили Бога, пора и честь знать. Каюсь, сам я виноват, что благословлял тебя на такое непотребство — во имя установления истины и торжества справедливости. Весь грех на себя брал. И если б в Синоде про шалости эти узнали, прогнали б меня с кафедры взашей, а возможно, и сана бы лишили. Но зарок я дал не из опасения за свою епископскую мантию, а из страха за тебя. Забыла, как в последний раз чуть жизни через лицедейство это не лишилась? Всё, не будет больше никакой Лисицыной, и слушать не желаю!
Долго ещё препирались из-за этой самой таинственной Лисицыной, друг друга не убедили и разошлись каждый при своём мнении.
А наутро почта доставила преосвященному письмо с острова Ханаана, от психиатрического доктора Коровина.
Владыка вскрыл конверт, прочитал написанное, схватился за сердце, упал.
Начался в архиерейских палатах невиданный переполох: набежали врачи, губернатор верхом прискакал — без шляпы, на неоседланной лошади, предводитель из загородного поместья примчался.
Не обошлось, конечно, и без сестры Пелагии. Она пришла тихонечко, посидела в приёмной, испуганно глядя на суетящихся врачей, а после, улучив минутку, отвела в сторону владычьего секретаря, отца Усердова. Тот рассказал, как случилось несчастье, и злополучное письмо показал, где говорилось про нового пациента коровинской больницы.
Остаток дня и всю ночь монахиня простояла в архиерейской образной на коленях — не на prie-Dieu,[5] а прямо на полу. Горячо молилась за исцеление недужного, смерть которого стала бы несчастьем для целого края и для многих, любивших епископа. В опочивальню, где врачевали больного, Пелагия и не совалась — без неё ухаживальщиков хватало, да и всё одно не пустили бы. Там над бесчувственным телом колдовал целый консилиум, а из Санкт-Петербурга, вызванные телеграммой, уж ехали трое наиглавнейших российских светил по сердечным недугам.
Утром к коленопреклонённой инокине вышел самый молодой из докторов, хмурый и бледный. Сказал:
— Очнулся. Вас зовёт. Только недолго. И, ради Бога, сестрица, без рыданий. Его волновать нельзя.
Пелагия с трудом поднялась, потёрла синяки на коленях, пошла в опочивальню.
Ах, как скверно пахло в скорбном покое! Камфорой, крахмальными халатами, прокипячённым металлом. Митрофаний лежал на высоком старинном ложе, синий балдахин которого был украшен рисунком небесного свода, и хрипло, тяжело дышал. Лицо архиерея поразило Пелагию мертвенным цветом, заострённостью черт, а более всего какой-то общей застылостью, так мало совместной с деятельным нравом владыки.
Монахиня всхлипнула, и сердитый доктор тут же кашлянул у неё за спиной. Тогда Пелагия испуганно улыбнулась — так и подошла к постели с этой жалкой, неуместной улыбкой на устах.
Лежащий скосил на неё глаза. Чуть опустил веки — узнал. С трудом шевельнул лиловыми губами, но звука не получилось.
Всё ещё не стерев улыбки, Пелагия бухнулась на колени, подползла к самой кровати, чтоб угадать слова по движению губ.
Преосвященный смотрел ей в глаза, но не тихим, благословляющим взором, как следовало бы в такую минуту, а строго, даже грозно. Собравшись с силами, прошелестел всего два слова — странных:
— Не вздумай…
Подождав, не будет ли сказано ещё чего-нибудь, и не дождавшись, монахиня успокоительно кивнула, поцеловала вялую руку больного и встала. Доктор уж подпихивал её в бок: ступайте, мол, ступайте.
Медленно идя через комнаты, Пелагия шептала слова покаянной молитвы:
— «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною…»
Смысл моления прояснился очень скоро. Из образной черница повернула не в приёмную, а шмыгнула в архиереев кабинет, пустой и полутёмный. Нисколько не тушуясь, открыла ключом ящик письменного стола, извлекла оттуда бронзовую шкатулку, где Митрофаний хранил свои личные сбережения, обыкновенно тратимые на книги, на нужды архиерейского облачения, либо на помощь бедным, — и бестрепетной рукой сунула всю пачку кредиток себе за пазуху, ни рубля в шкатулке не оставила.
Двор, заставленный экипажами соболезнователей, Пелагия пересекла неспешно, пристойно, но, повернув в сад, за которым располагался корпус епархиального училища, перешла на нечинный бег.
Заглянула в келью к начальнице училища, сказала, что во исполнение воли преосвященного владыки должна отлучиться на некоторое, пока неясно, сколь продолжительное, время и просит подыскать замену для уроков. Добрая сестра Христина, привычная к неожиданным отлучкам учительницы русского языка и гимнастики, ни о цели поездки, ни о пункте следования не спросила, а пожелала только знать, довольно ли у Пелагии тёплых вещей, чтобы не простыть в дороге. Монахини поцеловались плечо в плечо, Пелагия захватила из своей комнаты малый сундучок и, взяв извозчика, велела во весь дух гнать на пристань — до отправления парохода оставалось менее получаса.
Назавтра в полдень она уже сходила по трапу на нижегородский причал, однако одета была не в рясу — в скромное чёрное платье, извлечённое из сундучка. И это был только первый этап метаморфозы.
В гостинице рыжеволосая постоялица попросила в нумер стопку самоновейших модных журналов, вооружилась карандашом и принялась выписывать на листок всякие мудрёные словосочетания вроде «гроденапл. капот экосез, триповый пеплос, шерст. тальма» и прочее подобное.
Исполнив эту исследовательскую работу со всем возможным тщанием и потратив на неё не меньше двух часов, Пелагия посетила самый лучший нижегородский магазин готового платья «Дюбуа-э-фис», где дала приказчику удивительно точные и детальные распоряжения, принятые с почтительным поклоном и немедленно исполненные.
Ещё полтора часа спустя, отправив в гостиницу целый экипаж свёртков, коробок и картонок, расхитительница епископской казны, нарядившаяся в тот самый загадочный «триповый пеплос» (прямое бескорсетное платье утрехтского бархата), совершила деяние, для монахини уж вовсе невообразимое: отправилась в куаферный салон и велела завить её короткие волосы по последней парижской моде «жоли-шерубен», пришедшейся очень кстати к овальному, немножко веснушчатому лицу.
Приодевшись и прихорошившись, заволжская жительница, как это бывает с женщинами, преобразилась не только внешне, но и внутренне. Походка стала лёгкой, будто бы скользящей, плечи расправились, шея держала голову повёрнутой не книзу, а кверху. Прохожие мужчины оглядывались, а двое офицеров даже остановились, причём один присвистнул, а второй укоризненно сказал ему: «Фи, Мишель, что за манеры».
У входа в туристическую контору «Кук энд Канторович» к нарядной даме пристала злобная грязная цыганка. Стала грозить неминучим несчастьем, ночными страхами и гибелью от утопления, требуя за отвод несчастья гривенник. Пелагия пророчицу нисколько не испугалась, тем более что в не столь далёком прошлом благополучно избегла гибели в водах, но всё равно дала ведьме денег, да не десять копеек, а целый рубль — чтоб впредь была добрее и не считала всех людей врагами.
В агентстве, вмещавшем в себя и лавку дорожных принадлежностей, были потрачены ещё полторы сотни из епископовых сбережений — на два чудесных шотландских чемодана, на маникюрный набор, на перламутровый футлярчик для очков, подвешиваемый к поясу (и красиво, и удобно), а также на приобретение билета до Ново-Араратской обители, куда нужно было ехать железной дорогой до Вологды, затем каретой до Синеозерска и далее пароходом.
— На богомолье? — почтительно осведомился служитель. — Самое время-с, пока холода не ударили. Не угодно ли сразу и гостиницу заказать?
— Вы какую посоветуете? — спросила путешественница.
— От нас недавно супруга городского головы с дочерью ездили, в «Голове Олоферна» останавливались. Очень хвалили-с.
— В «Голове Олоферна»? — поморщилась дама. — А другой какой-нибудь нет, чтоб без кровожадности?
— Отчего же-с? Есть. Гостиница «Ноев ковчег», пансион «Земля обетованная». А кто из дам желает вовсе от мужского пола отгородиться, в «Непорочной деве» селятся. Благочестивейшее заведение, для благородных и состоятельных паломниц. Плата невысока-с, но зато от каждой постоялицы жертвование в монастырскую казну ожидается, не менее ста целковых. Кто триста и больше даёт — личной аудиенции у архимандрита удостаивается.
Последнее сообщение, кажется, очень заинтересовало будущую богомолицу. Она открыла новенький ридикюль, достала пук кредиток (всё ещё весьма изрядный), стала считать. Служитель наблюдал за этой процедурой с деликатностью и благоговением. На пятистах рублях клиентка остановилась, беспечно сказала:
— Да, пускай будет «Непорочная дева». — И спрятала деньги обратно в сумочку, так их до конца и не сосчитав.
— Прислугу возьмёте в нумер или отдельно-с?
— Как можно? — укоризненно покачала дама своими бронзовыми кудряшками. — На богомолье — и с прислугой? Это что-то не по-христиански. Буду всё делать сама — и одеваться, и умываться, и даже, быть может, причёсываться.
— Пардон. Не все, знаете ли, так щепетильны-с… — Клерк застрочил по бланку, ловко обмакивая стальное перо в чернильницу. — На чьё имя прикажете оформить?
Паломница вздохнула, зачем-то перекрестилась.
— Пишите: «Вдова Полина Андреевна Лисицына, потомственная дворянка Московской губернии».
Дорожные зарисовки
Раз сама героиня нашего повествования, скинув рясу, нареклась другим именем, станем так называть её и мы — из почтения к иноческому званию и во избежание кощунственной двусмысленности. Дворянка так дворянка, Лисицына так Лисицына — ей виднее.
Тем более что, судя по всему, в новом своём обличье духовная дочь заволжского архипастыря чувствовала себя ничуть не хуже, чем в прежнем. Нетрудно было заметить, что путешествие ей нисколько не в тягость, а, наоборот, в приятность и удовольствие.
Едучи в поезде, молодая дама благосклонно поглядывала в окошко на пустые нивы и осенние леса, ещё не вполне сбросившие свой прощальный наряд. В туристическом агентстве в комплимент к прочим покупкам Полина Андреевна получила славный бархатный мешочек для рукоделья, уютно разместившийся у неё на груди, и теперь коротала время, вывязывая мериносовую душегреечку, которая непременно понадобится преосвященному Митрофанию в зимние холода, особенно после тяжкого сердечного недуга. Работа была наисложнейшая, с чередованием букле и чулочной вязки, с цветными вставками, и продвигалась неблагополучно: петли ложились неровно, цветные нитки чересчур стягивались, перекашивая весь орнамент, однако самой Лисицыной её творчество, похоже, нравилось. Она то и дело прерывалась и, склонив голову, разглядывала нескладное произведение своих рук с явным удовольствием.
Когда путешественнице надоедало вязать, она бралась за чтение, причём умудрялась предаваться этому занятию не только в покойном железнодорожном вагоне, но и в тряском омнибусе. Читала путешественница две книжки попеременно, одну в высшей степени уместную для богомолья — «Начертание христианского нравоучения» Феофана Затворника, другую очень странную — «Учебник по стрелковой баллистике. Часть вторая», но с не меньшим вниманием и интересом.
Ступив в Синеозерске на борт парохода «Святой Василиск», Полина Андреевна в полной мере проявила одну из главнейших своих характеристик — неуёмное любопытство. Обошла всё судно, поговорила с рясофорными матросами, посмотрела, как отталкивают воду огромные колёса. Заглянула в машинное отделение, послушала, как механик рассказывает желающим из числа пассажиров о работе маховиков, коленчатых валов и котла. Специально надев очки (которые после превращения заволжской монашки в московскую дворянку передислоцировались с носа паломницы в перламутровый футляр), Лисицына даже заглянула в топку, где страшно вспыхивали и стреляли раскалённые угли.
Потом вместе с другими любознательными, всё сплошь лицами мужского пола, отправилась на обследование капитанской рубки.
Экскурсия устраивалась в целях демонстрации новоараратского гостеприимства и благосердечия, простирающегося не только на пределы архипелага, но и на корабль, носящий имя святого основателя обители. Объяснения о фарватере, управлении пароходом и непредсказуемом нраве синеозерских ветров давал помощник, смиренного вида монах в мухояровой скуфье, однако Лисицыну куда больше заинтриговал капитан брат Иона — красномордый густобородый разбойник в брезентовой рыбацкой шапке, самолично стоявший у руля и под этим предлогом на пассажиров не глядевший.
Колоритный субъект совсем не походил на чернеца, хоть тоже был одет в рясу, поэтому Полина Андреевна, не утерпев, подобралась к нему поближе и спросила:
— Скажите, святой отец, а давно ли вы приняли постриг?
Верзила покосился на неё сверху вниз, помолчал — не отстанет ли? Поняв, что не отстанет, неохотно пророкотал:
— Пятый год.
Пассажирка немедленно переместилась к капитану под самый локоть, чтобы было удобней беседовать.
— А кем были в миру?
Капитан тяжко вздохнул, так что сомнений быть не могло: его бы воля, он отвечать на вопросы настырной дамочки не стал бы, а в два счёта выгнал бы её из рубки, где бабам быть незачем.
— Тем и был. Кормщиком. На Груманте китов бил.
— Как интересно! — воскликнула Полина Андреевна, ничуть не смущённая неприветливостью тона. — Потому, наверно, вас и Ионой нарекли? Из-за китов, да?
Явив истинный подвиг христианского смирения, капитан растянул рот в стороны, что, по очевидности, должно было означать любезную улыбку.
— Не из-за китов, из-за кита. Усач лодку хвостом расколотил. Все потопли, я один вынырнул. Он меня в самую пасть всосал, усищами ободрал, да, видно, не по вкусу я ему пришёлся — выплюнул. После шхуна меня подобрала. Я в пасти, может, с полминуты всего и пробыл, но успел слово дать: спасусь — в монахи уйду.
— Какая поразительная история! — восхитилась пассажирка. — А всего удивительней в ней то, что вы, спасшись, в самом деле постриг приняли. Знаете, этак многие в отчаянную минуту обеты Богу дают, да потом редко кто исполняет.
Иона улыбку изображать перестал, сдвинул косматые брови.
— Слово есть слово.
И столько в этой короткой фразе было непреклонности пополам с горечью, что Лисицыной стало бедного китобоя ужасно жалко.
— Ах, никак нельзя вам было в монахи, — расстроилась она. — Господь вас понял бы и простил бы. Иночество должно быть наградой, а вам оно как наказание. Ведь вы, поди, скучаете по прежней вольной жизни? Знаю я моряков. Без вина, без бранного слова вам мучительно. Да и обет целомудрия опять же… — жалеюще закончила сердобольная паломница уже как бы про себя, вполголоса.
Однако капитан всё равно услышал и кинул на бестактную особу такой взгляд, что Полина Андреевна напугалась и поскорей ретировалась из рубки на палубу, а оттуда к себе в каюту.
Мужской рай
Свирепый взгляд капитана до некоторой степени объяснился, когда наутро «Святой Василиск» пришвартовался у ново-араратской пристани. Дожидаясь носильщика, Полина Андреевна несколько задержалась на борту и сошла с корабля чуть ли не последней из пассажиров. Её внимание привлекла стройная молодая дама в чёрном, нетерпеливо дожидавшаяся кого-то на причале. Внимательно оглядев встречающую и отметив некоторые особенности её наряда (он был хоть и вычурен, но несколько demode[6] — судя по журналам, в этом сезоне таких широких шляп и ботиков на серебряных пуговичках уже не носили), Лисицына заключила, что эта дама, вероятно, из числа местных жительниц. Собою она была хороша, только бледновата, да ещё впечатление портил чересчур быстрый и недобрый взгляд. Аборигенка тоже изучающе осмотрела московскую дворянку, задержавшись взором на тальме и рыжих завитках, что выбивались из-под шапочки «шалунишка-паж». Красивое лицо незнакомки зло исказилось, и она тут же отвернулась, высматривая кого-то на палубе.
Любопытная Полина Андреевна, немного отойдя, обернулась, надела очки и была вознаграждена за такую предусмотрительность лицезрением интересной сцены.
К трапу вышел брат Иона, увидел чёрную даму и остановился как вкопанный. Но стоило ей поманить его коротким повелительным жестом, и капитан чуть не вприпрыжку ринулся на причал. Полина Андреевна снова вспомнила про обет монашеского целомудрия, покачала головой. Успела заметить ещё одну интригующую деталь: поравнявшись с туземной жительницей, Иона лишь чуть-чуть повернул к ней голову (широкая грубая физиономия капитана была ещё краснее обычного), но не остановился — лишь слегка коснулся её руки. Однако вооружённые окулярами глаза госпожи Лисицыной заметили, что из ручищи бывшего китобоя в узкую, обтянутую серой замшей ладонь переместилось нечто маленькое, бумажное, квадратное — то ли конвертик, то ли сложенная записка.
Ах, бедняжка, вздохнула Полина Андреевна и пошла себе дальше, с интересом оглядывая священный город.
На счастье, паломнице исключительно повезло с погодой. Неяркое солнце с меланхолическим благодушием освещало золотые верхушки церквей и колоколен, белые стены монастыря и разноцветные крыши обывательских домов. Больше всего вновь прибывшей понравилось то, что яркие краски осени в Новом Арарате ещё отнюдь не угасли: деревья стояли жёлтые, бурые и красные, да и небо голубело совсем не по-ноябрьски. А между тем в Заволжске, располагавшемся много южнее, листва давно уж осыпалась и лужи по утрам покрывались корочкой нечистого льда.
Полина Андреевна вспомнила, как помощник капитана в рубке рассказывал про какой-то особенный островной «мелкоклимат», объясняемый причудами тёплых течений и, разумеется, Господним расположением к этим богоспасаемым местам.
Путешественница ещё не успела добраться до гостиницы, а уже высмотрела все ново-араратские необычности и составила себе о диковинном городе первое впечатление.
Новый Арарат показался Лисицыной городком славным, разумно устроенным, но в то же время каким-то несчастливым, или, как она мысленно его определила, «бедненьким». Не в смысле обустройства улиц или скудости построек — с этим-то как раз всё было в полном порядке: дома добротные, по большей части каменные, храмы многочисленны и пышны, разве что очень уж кряжисты, без возвышающей душу небоустремлённости, ну а улицы и вовсе заглядение — ни соринки, ни лужицы. «Бедненьким» Полина Андреевна нарекла город оттого, что он показался ей каким-то очень уж безрадостным, не того она ждала от близкой к Богу обители.
Несколько времени спустя паломница вычислила и причину такой обделённости. Но это случилось уже после того, как госпожа Лисицына разместилась в гостинице. Там она перво-наперво объявила, что желает вручить лично отцу настоятелю пожертвование в пятьсот рублей — и тут же, на самый этот день, получила аудиенцию. Население «Непорочной девы», включая и прислугу, состояло из одних только женщин, отчего в обстановке нумеров преобладали вышитые занавесочки, пуфики, подушечки и покрытые чехлами скамеечки — вся эта приторность новой постоялице, привыкшей к простоте монашеской кельи, ужасно не понравилась. А выйдя из женского рая обратно на улицу, Полина Андреевна по контрастности вдруг поняла, чем нехорош и сам город.
Он тоже являл собой подобие рая, только не женского, а мужского. Здесь всем заправляли мужчины, всё сделали и устроили по своему разумению, без оглядки на жён, дочерей или сестёр, и оттого город получился вроде гвардейской казармы: геометрически правильный, опрятный, даже вылизанный, но жить в таком не захочешь.
Сделав это открытие, Лисицына принялась оглядываться по сторонам с удвоенным любопытством. Так вот какое житьё на Земле устроили бы себе мужчины, дай им полную волю! Молиться, махать метлой, обрасти бородищами и ходить строем (это Полине Андреевне встретился наряд монастырских «мирохранителей»). Тут-то и стало ей всех жалко: и Новый Арарат, и мужчин, и женщин. Но мужчин всё-таки больше, чем женщин, потому что последние без первых кое-как обходиться ещё могут, а вот мужчины, если предоставить их самим себе, точно пропадут. Или озвереют и примутся безобразничать, или впадут в этакую вот безжизненную сухость. Ещё неизвестно, что хуже.
Спасение котёнка
Как уже было сказано, аудиенция у высокопреподобного Виталия щедрой дарительнице была обещана самая незамедлительная, и, покинув гостиницу, путешественница двинулась в сторону монастыря.
Белостенный и многоглавый, он был виден почти из всех точек города, ибо располагался на той его окраине, что была приподнята вверх и вознесена над озером. От крайних домов до первых предстенных построек, по большей части хозяйственного назначения, дорога шла парком, разбитым по высокому берегу, под каменный срез которого смиренно ложились неутомимые синие волны.
Идя вдоль озера, Полина Андреевна запахнула шерстяную тальму поплотнее, так как ветер был холодноват, но вглубь парка с обрыва не переместилась — больно уж хороший сверху открывался вид на вместилище вод, да и порывистый зефир не столько остужал, сколько освежал.
Уже неподалеку от монастырских пределов, на открытой лужайке, очевидно, служившей любимым местом гуляния для местных жителей, происходило что-то необычное, и любознательная Лисицына немедленно повернула в ту сторону.
Сначала увидела скопление людей, зачем-то столпившихся на самом краю берега, у старой покривившейся ольхи, потом услышала детский плач и ещё какие-то тонкие, пронзительные звуки, не вполне понятного происхождения, но тоже очень жалостные. Тут Полине Андреевне, по учительскому опыту хорошо разбиравшейся во всех оттенках детского плача, сделалось тревожно, потому что плач был самого что ни на есть горестного и непритворного тембра.
Полуминуты хватило, чтобы молодая дама разобралась в происходящем.
История, по правде сказать, приключилась самая обыденная и отчасти даже комическая. Маленькая девочка, игравшая с котёнком, позволила ему залезть на дерево. Цепляясь за бугристую кору своими коготками, пушистый детёныш забрался слишком далеко и высоко, так что теперь не мог спуститься обратно. Опасность заключалась в том, что ольха нависала над кручей, а котёнок застрял на самой длинной и тонкой ветке, под которой, далеко внизу, плескались и пенились волны.
Сразу было ясно, что бедняжку не спасти. Жалко — он был прелесть как хорош: шёрстка белая, будто лебяжий пух, глазки круглые, голубые, на шейке любовно повязанная атласная ленточка.
Ещё жальче было хозяйку, девчушку лет шести-семи. Она тоже была премилая: в чистеньком сарафанчике, цветастом платочке, из-под которого выбивались светлые прядки, в маленьких, словно игрушечных лапоточках.
— Кузя, Кузенька! — всхлипывала малютка. — Слезай, упадёшь!
Какой там «слезай». Котёнок держался за кончик ветки из последних силёнок. Ветер раскачивал белое тельце, покручивал то вправо, то влево, и было видно, что скоро стряхнёт его совсем.
Полина Андреевна наблюдала печальную картину, схватившись за сердце. Ей вспомнился один не столь давний случай, когда она сама оказалась в положении такого вот котёнка и спаслась только промыслом Божьим. Вспомнив ту страшную ночь, она перекрестилась и прошептала молитву — но не в благодарность о тогдашнем чудодейственном избавлении, а за бедного обречённого малютку: «Господи Боже, дай зверёнышу ещё пожить! Что Тебе этакая малость?»
Сама, конечно, понимала, что спасти котёнка может только чудо, а не такой это повод, чтобы Провидению чудесами разбрасываться. Даже и смешно вышло бы, невозвышенно.
Собравшиеся, конечно, не молчали — одни утешали девочку, другие обсуждали, как выручить несмышлёныша.
Кто говорил: «Надо бы залезть, ногой на сук опереться да сачком его зачерпнуть», хотя ясно было, что сачку тут, в парке, взяться неоткуда. Другой рассуждал сам с собой вслух: «Можно бы на сук лечь и попробовать дотянуться, только ведь сорвёшься. Добро б ещё из-за дела жизнью рисковать, а то из-за зверушки». И прав был, истинно прав.
Полина Андреевна хотела уже идти дальше, чтобы не видеть, как белый пушистый комок с писком полетит вниз, и не слышать, как страшно закричит девчушка (увели бы её, что ли), однако здесь к собравшимся присоединился новый персонаж, и такой интересный, что мнимая москвичка уходить передумала.
Бесцеремонно расталкивая публику, к ольхе пробирался высокий худощавый барин в щегольском белоснежном пальто и белой же полотняной фуражке. Решительный человек вне всякого сомнения относился к пресловутой категории «писаных красавцев», в которую мужчины, как известно, попадают вовсе не из-за классической правильности черт (хотя барин был очень даже недурён собой в золотоволосо-голубоглазом славянском стиле), а из-за общего впечатления спокойной уверенности и обаятельной дерзости. Эти два качества, безотказно действующие почти на всех женщин, были прорисованы в лице и манерах элегантного господина так явственно, что оказавшиеся в толпе дамы, барышни, бабы и девки сразу обратили на него особенное внимание.
Не была исключением и госпожа Лисицына, подумавшая про себя: «Надо же, какие в Арарате встречаются типы. Неужто и этот на богомолье?»
Однако затем вновь прибывший повёл себя таким образом, что внимание к его особе из особенного превратилось в зачарованное (что, заметим, при явлении «писаных красавцев» случается нередко).
Единым взглядом оценив и поняв положение дел, красавец без малейших колебаний швырнул наземь свою фуражку, туда же полетело и фасонное пальто.
Одному из зевак, по виду мастеровому, барин приказал:
— Эй ты, марш на дерево. Да не трусь, на сук лезть не понадобится. Как крикну «Давай!», тряси его что есть силы.
Такого не послушаться было невозможно. Мастеровой тоже бросил под ноги свой засаленный картуз, поплевал на руки, полез.
Публика затаила дыхание — ну, а дальше-то что?
А дальше красавец уронил на траву свой сюртук, тоже белый, коротко разбежался и прыгнул с обрыва в бездну.
Ах!
Разумеется, про «бездну» обычно пишут для пущей эффектности, ибо всякому известно, что кроме той единственной и окончательной Бездны все иные пропасти, земные ли, водные ли, непременно имеют какое-нибудь окончание. И эта, подъярная, тоже была не столь уж бездонна — пожалуй, саженей десять. Но и этой высоты вполне хватило бы, чтоб расшибиться о поверхность озера и потонуть, не говоря уж о том, что от воды так и веяло свинцовым холодом.