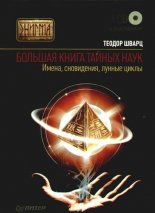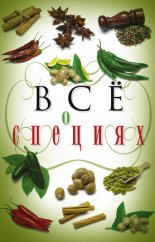Маргарита Ангулемская и ее время Петрункевич А.

Маргарита, забавляясь, написала книгу, называемую «Новеллы королевы Наваррской», изложенную таким славным и легким языком и богатую такими прекрасными рассуждениями и сентенциями… Большую часть своих новелл Маргарита писала в носилках, путешествуя по стране, потому что дома у нее всегда были более серьезные занятия. Так мне говорила моя бабушка, ее статс-дама, путешествовавшая всегда вместе с ней в ее носилках и обыкновенно державшая ей чернильницу, пока королева писала свои новеллы так быстро и искусно, как будто ей кто-нибудь их диктовал.
Конечно, с чисто литературной точки зрения «Гептамерон» значительно уступает своему классическому прототипу, хотя он и не лишен крупных достоинств, не позволяющих историку французской литературы XVI века пропустить его в своих исследованиях. Первое из этих достоинств – это язык, которым написаны новеллы. Маргарита писала так, как говорили при дворе ее брата и в ее дворцах. В то время литературный язык только формировался, и она бессознательно создала первое прозаическое сочинение, которое даже и теперь читают без словаря и которое долго пользовалось широкой известностью. Сам Лафонтен не раз заимствовал сюжеты из ее сборника. Но, уступая «Декамерону» в литературном значении, «Гептамерон» имеет для нас одно громадное преимущество. Его рассказы правдивы; все они, за исключением пяти-шести, основаны на истинных фактах и происшествиях, с точным указанием времени и места и с переменой лишь собственных имен, вызванной тем обстоятельством, что некоторые из действующих лиц еще тогда были живы.
Титульный лист первого издания «Гептамерона»
Другая отличительная черта этого сборника (и тоже имеющая немалую ценность в глазах биографа Маргариты) заключается в тех эпилогах, которыми сопровождается каждая новелла и которые являются не чем иным, как рассуждениями самого автора по поводу рассказанного.
Эти эпилоги помогают нам понять, каким образом Маргарита – такая, какой мы ее знаем, – могла написать «Гептамерон». Ее книга прославлена как одна из неприличнейших, а между тем, если сравнить новеллы Маргариты с другими новеллами того и предшествовавшего времени, будет нетрудно убедиться, насколько «Гептамерон» сдержаннее тех образцов, которые королева имела перед собой. Кроме того, при чтении ее сборника постоянно чувствуется отношение самого автора к рассказываемому и не остается сомнения в том, что если Маргарита и написала новеллы, кажущиеся сегодня непристойными, то сделала так не потому, что ее якобы испорченное воображение находило в этом особого рода удовольствие, а только потому, что в ее время иначе не умели писать, да и не видели в том, что содержат новеллы, ничего неприличного.
Описывая слабости и пороки, Маргарита нисколько не прикрашивает их, не делает заманчивыми, а изображает строго и правдиво, ясно подчеркивая, что они – отрицательные стороны человеческой природы и что их нужно избегать.
Эпилоги, являясь естественным переходом от одной новеллы к другой, связывают их все в одно цельное произведение. Этот литературный прием составляет особенность королевы Наваррской. Никто из ее предшественников этого не делал; никому не приходило в голову отыскивать в каком-нибудь пикантном эпизоде, рассказанном среди смеха и шуток, серьезную подкладку и делать общие философские выводы. Например, рассказав одно из самых невозможных происшествий, Маргарита подчеркивает бессилие человека собственными средствами, без помощи Всевышнего, достигнуть добра.
Знайте, что первый же шаг человека, который он сделает с верой лишь в свои собственные силы, удаляет его от веры в Бога, то есть от спасения.
Этот и другие чисто реформаторские принципы не раз провозглашаются на страницах «Гептамерона», отразившего до известной степени протестантизм королевы Наваррской. Нельзя не указать еще на эпилог к новелле XIX (по изданию 1888 года), в котором Маргарита, сказав, что тот, «кто не умел вполне любить человека, никогда не сможет любить Бога», так развивает далее свою мысль о совершенной любви.
Я называю совершенною любовью, говорила она, ту, которая ищет в предмете своей любви какое-нибудь совершенство: доброту, красоту или что-нибудь другое, всегда тяготеющее к идеалу. Такая любовь предпочтет лучше погибнуть, чем добиваться того, что не согласно с честью и совестью, ибо душа, созданная лишь для того, чтобы возвратиться к своему Верховному Благу, во все время своего земного существования стремится только к нему. Но так как чувства, лишь при посредстве которых душа может что-либо знать, темны и несовершенны (вследствие первородного греха), то они указывают ей не все вещи, а лишь видимые и только более или менее приближающиеся к совершенству, к которому она стремится, думая найти в видимой красоте и в нравственных качествах – верховную красоту и абсолютную добродетель.
Но когда душа убедится, что она ошиблась и что в видимых вещах нет того, чего она ищет, она бросает их, подобно ребенку, который собирал сперва одни игрушки, а когда подрос, захотел других, лучших, и так собираются блага земные. Но затем она постигает, что в земных благах нет никакого совершенства и никакого счастья, и тогда она хочет искать истинного счастья и истинных источников его. Но если Бог не осветит ее верою, может случиться, что из «невежды» человек обратится в «неверующего», ибо одна только вера может указать на Благо и сделать человека способным к восприятию его; человек же чувственный, земной, не в силах постичь Истинное Благо.
Такого, как у Платона, рассуждения о любви совершенно достаточно, чтобы мы увидели, на какую мистически-философскую высоту поднимается королева, говоря о горькой судьбе двух несчастных любовников. Но нельзя не признать, что новеллы написаны со всей откровенностью XVI века и что Маргарита отдала свою дань эпохе, в которую жил и писал великий Рабле.
Теперь перейдем к рассмотрению отношений, связывавших Маргариту с ее матерью и братом. Несмотря на всю разницу этих людей, самая нежная, самая преданная любовь соединяла их. Это отмечали современники, а сама Маргарита в одном из стихотворений назвала себя «маленьким углом совершенного треугольника» (un petit point de ce parfait triangle).
Мы уже сказали, что Луза боготворила своего сына, и ее любовь, казалось, с каждым годом все увеличивалась. Разлука для них была нестерпима. Луиза могла гордиться тем, как относились к ней дети. Рассказывают, например, что Франциск всегда разговаривал с матерью, почтительно обнажив голову или опустившись перед ней на одно колено. Сама Луиза отмечает в своем журнале, что когда она однажды заболела, то Франциск обратился в сиделку и целую ночь не отходил от постели больной.
До нас дошло свыше полутораста писем Маргариты к ее брату. Они написаны в разное время, но сходны в одном: каждая строка в них идет прямо от сердца и продиктована неподдельной, никогда не ослабевающей любовью. В этой любви есть все: забота, помощь, ласка, нежность – она дрожит над ним, как мать над ребенком; в этой любви нет только эгоизма – ему все прощалось, для него все переносилось. Маргарита поклонялась своему брату, в нем воплощался ее идеал. Стоит только прочесть некоторые из ее стихотворений, обращенных к Франциску, например его характеристику в поэме «Корабль», чтобы убедиться в этом:
- Он тот, на кого любуются
- земля, море и небо.
- И земля ликует,
- видя его блещущим
- несравненной красотой.
- Море смиряется перед его страшной мощью.
- Небо опускается, покоренное любовью,
- чтобы смотреть на того, чьи добродетели
- так расхваливали ему.
- Он говорит и обращается как господин,
- достойный повелевать над всеми;
- он все знает…
- Он прекрасен лицом и цветущ,
- с темными волосами, высокого роста,
- смелый, мудрый и отважный в битвах;
- милостивый, мягкий и скромный в своем величии;
- сильный, могущественный и терпеливый;
- на земле он – как солнце на небе.
- В тюрьме ли, в горе ли, в печали —
- он всегда познаёт Бога.
- Словом, он один достоин быть королем.
Всюду, где только заходит речь о Франциске, подбираются образы и выражения, кажущиеся нам теперь неподходящими по своей экзальтированной страстности. Но не забудем, что здесь мы имеем дело с XVI веком. Тогда люди и думали, и чувствовали не так, как теперь, не говоря уже о том, что внешние выражения внутренней жизни отнюдь не походили на современные. Для того чтобы мало-мальски верно понимать людей, живших века тому назад, отбросим все наши теперешние нормы, вводящие нас в заблуждение, когда мы начинаем судить и квалифицировать прошедшее с применением современных понятий.
Преувеличение составляет одну из характерных черт XVI века. Мы это должны постоянно помнить и не понимать буквально то, что является удовлетворением известных литературных требований эпохи.
Нельзя не упомянуть здесь об одной догадке, которая возникла в 40-х годах нынешнего столетия[38] у издателя писем Маргариты и произвела сенсацию, главным образом, своей романтичностью. Во второй эпистолярный сборник (Gnin. Nouvelles Lettres de la reine de Navarre, adresses au roi Franois I, son frre. Paris, 1842) вошли 137 писем Маргариты к Франциску. Среди них есть одно письмо без подписи, написанное не ее почерком, неизвестно в какое время и по какому поводу, без ее обычных обращений (здесь обычное обращение Маргариты к брату «Monseigneur» всюду заменено словом «Sire»), – темное по содержанию и поддающееся стольким толкованиям, сколько толкователей. И вот это-то письмо навело составителя сборника на мысль, что Маргарита «была жертвой той роковой страсти, которая три века спустя погубила сестру Рене в романе Шатобриана».[39] Это предположение, основанное на единственном документе, нашло все-таки последователей среди историков: версию поддержали, например, Ж. Мишле и А. Мартен. Один из них, Мишле, сделал даже больше: руководствуясь своей симпатией к Маргарите и антипатией к Франциску, он исказил тот единственный документ, который породил версию, и представил Маргариту жертвой капризного и жестокого брата. Л. де Ломени (Lomnie) пишет о Мишле:
…Из этого письма, такого неопределенного, такого темного, создал целую драму, очень определенную, которую довольно трудно передать в деталях и которая имеет лишь один маленький недостаток, а именно: эта драма находится в полном противоречии с тем самым документом, из которого она якобы почерпнута.
Все биографы Маргариты – г-жа д'Осонвиль (m-me d'Haussonville), В. Люро (Luro), Г. де ла Феррьер (H. de la Ferrire), Леру де Ленси (Le Roux de Lincy), Ф. Лотхайссен (Lotheissen) и другие – отбрасывают версию «как у Шатобриана», считая ее совершенно фантастической и не заслуживающей серьезного внимания.
Прибавим к этому, что никто из историков XVI века не заподозрил королеву Наваррскую в безнравственности, и даже Брантом, хроникер придворных приключений известного рода, не нашел ничего пикантного, чтобы включить в биографию Маргариты. Напротив, на первой же странице он говорит о ее «великих добродетелях». Таким образом, в эпоху, когда распущенность нравов была очень и очень велика, когда почти ни одно мало-мальски известное имя не могло не упоминаться в скандальных хрониках, когда при дворе господствовали фаворитки в совершенно признанном звании королевских «метресс», одно только имя осталось незапятнанным, имя Маргариты Ангулемской-Валуа.
Франциск по-своему любил ее. Можно даже признать эту любовь его единственным глубоким чувством, но он был эгоистом, а потому и любовь его была эгоистична. В тяжких жизненных ситуациях он всегда обращался к сестре; он нуждался в ее нравственной поддержке, в ее руководстве. Когда блеск его царствования померк, когда сам он из молодого, полного сил, цветущего юноши превратился преждевременно в старика и, почувствовав себя слабым и одиноким, беспомощно простонал: «Как мрачно кругом, как холодно на сердце», один человек отозвался на его жалобу, один человек пришел согреть его – Маргарита.
Глава 5
Реформация
Общественное движение, охватившее всю Германию в 20-х годах XVI столетия, не могло пройти незамеченным во Франции, тем более что почва здесь была во многих отношениях уже подготовлена к принятию Реформации. Поводом для начала реформационного движения во Франции, как и в Германии, послужили многочисленные злоупотребления, чинимые католической церковью. Распущенность французского духовенства достигла при Франциске I колоссальных размеров. Папа римский Лев X отдал в распоряжение короля многочисленные епископства и аббатства.[40] Духовные места раздавались королем в силу Болонского конкордата совершенно произвольно. На них смотрели исключительно как на статью королевского бюджета, позволившую щедро вознаграждать за любую услугу, не касаясь государственной казны. Например, известно, что скульптору Бенвенуто Челлини было дано аббатство за его серебряную статую, оцененную в 2 тысячи дукатов.
Венецианские послы докладывали своему сенату, что во Франции торгуют духовными должностями так же, как в Венеции перцем и корицей, причем от одного бенефиция всегда была польза нескольким лицам одновременно: тому, кто выпрашивал место, тому, кто его получал номинально, и тому, кто его занимал действительно. Такое положение дел продолжалось и в царствование детей Франциска I. Так, при Генрихе III один из его любимцев продал аббатство девушке.
Конечно, страдало прежде всего и больше всего простое население. Богатые и знатные царедворцы, художники, ученые, получавшие за свои труды вознаграждение в виде монастыря или сельского прихода, отдавали этот монастырь или приход в руки какого-нибудь полуграмотного святого отца или развратного монаха-францисканца, предоставляя ему вынимать последнюю копейку из кармана своих прихожан, совершенно не думая о своих пастырских обязанностях, к которым такие прелаты, кстати сказать, совсем были не подготовлены. Если же и встречались счастливые единичные исключения из этого общего правила, то почти всегда оказывалось, что эти лица уже затроуты отчасти реформационным веянием; верные же католики в большинстве случаев оказывались плохими пастырями. Так было во всех католических странах без различия. По этому поводу сохранилась одна любопытная речь английского проповедника Латимера:
Я предложу вам странный вопрос: кто самый ревностный прелат во всей Англии? Я отвечу вам. Я знаю, кто это. Есть у нас действительно один такой деятельный, самый деятельный из всех. Это – диавол! Из всех, у кого есть хоть какие-нибудь дела, он работает над своими больше всех. Подражайте ему, нерадивые пастыри! Если вы ничему не можете научиться от Бога, то учитесь хоть от черта.
Историк П. Матье (Matthieu) говорит:
В те времена прелаты чаще заглядывали в свои счетные книги, чем в сочинения докторов, а монахи делали из теологии технологию и ремесло для заработка хлеба.
Младшие сыновья знатных фамилий обыкновенно предназначаются к духовной карьере. Чуть не с колыбели они получают саны епископов, архиепископов, кардиналов и привыкают смотреть на них только как на средство к достижению земных благ: власти, почестей и богатств, главное – богатств. Последнее удавалось легко благодаря тому, что весьма часто в одних и тех же руках соединялось очень много разных духовных мест, приносивших обладателю ежегодно весьма крупные доходы.
Епископские резиденции походили больше на дворцы каких-нибудь светских властителей, а жизнь, которая там велась, говорила только о земных радостях.
Люди, получившие по какому-то случаю духовную должность вместо другой награды, отнюдь не считали себя обязанными, хотя бы ради приличия, изменить свой прежний образ жизни, свои вкусы и привычки. Они оставались теми же гуляками, шутниками и циниками, какими были прежде, но теперь прибавляли к своему (и без того многосложному) титулу еще два-три слова: аббат такой-то, епископ такой-то.
В монастырях было не больше порядка, чем среди белого духовенства. Богатства, скопившиеся в монастырских стенах, давали возможность вести сытую, праздную жизнь, не усложняемую ни физическим, ни умственным трудом. Монастыри становились притонами, где люди утрачивали человеческий образ. Монахов презирали и высмеивали все без исключения, начиная с простого народа, развращаемого ими, и кончая сестрой и матерью короля. Луиза их не терпела и нисколько этого не скрывала, о чем мы можем судить по следующим словам ее журнала:
В 1522 году, в декабре, мой сын и я милостью Святого Духа узнали ханжей белых, черных, серых и всех вообще цветов, от которых спаси и сохрани нас, Господь, своею милостью, ибо нет более опасных людей во всем роде человеческом.
Маргарита тоже не щадила их. В ее «Гептамероне» есть много рассказов (ценных своей неоспоримой правдивостью) о похождениях монахов-францисканцев.
Порча духовенства имела двойной результат. С одной стороны, она подавала гибельный пример всему населению, постепенно развращая его, а с другой – заставляла отделяться от единой церкви и располагала к «лютеровой ереси» всех, кого особенно возмущала. Было очевидно, что так дальше не может продолжаться и что необходимо принять какие-нибудь меры для пресечения зла. Лопиталь говорил в парламенте:[41]
– Распущенность нашей церкви породила ереси, и возможно, что только реформация погасит их.
Необходимость такой реформации признавалась всеми: это не измена религии отцов, поскольку не веру нужно исправить, а только членов церкви. Но радикальная общая реформа главнейших пунктов, приложимая к духовенству всех католических стран, могла быть проведена только представителями всего христианства, то есть вселенским собором. И его упорно требовали, страстно желали.
В 1522 году Франциск созвал все французское духовенство, чтобы обдумать меры для пресечения злоупотреблений. Однако из этого поместного собора ничего не вышло. Пропорционально все увеличивавшемуся падению церковного благочестия понижалось благочестие и ослабевало религиозное чувство вообще. Не то чтобы французы в XVI веке стали атеистами, нет – они просто перестали интересоваться религиозными вопросами, считая их не стоящими ни внимания, ни споров, ни тем более каких-то жертв. Безразличие к тому, за что в былые времена люди всходили на костры, очень ярко выразил немецкий (родом из Тюбингена) гуманист, автор сатир «Фацеции» и «Торжество Венеры» Генрих Бебель:[42]
Вы находите, что я непочтительно выразился о святой Троице? Извольте – я готов уступить прежде, чем познакомиться с костром.
Рассказывают, что когда кардинал Караффа въезжал в Париж и осенял крестом коленопреклоненный народ, он шептал вместо благословения:
– Бедные идиоты, будьте себе идиотами сколько хотите.
Реформация прежде всего есть возрождение совести. И подобно тому, как возрождение наук и искусств обращало людей к изучению древнего языческого мира, беря за основание классическую литературу, возрождение совести заставляло их изучать древний христианский мир и его основную книгу – Евангелие, и стремилось возродить первую христианскую общину. То повсеместное ослабление религиозности, к которому пришла Европа в продолжение XV и XVI веков, должно было вызвать реакцию. И действительно, рядом с торжеством положительного знания и отрицанием веры возникли разнообразные движения, завершившиеся знаменитыми тезисами Мартина Лютера, который провозгласил спасение милостью Божией и безусловной верой. Во Франции это учение не было новостью; оно проповедовалось в Париже еще тогда, когда даже имя великого немецкого реформатора было почти неизвестно. В 1512 году вышли в свет «Комментарии к посланиям апостола Павла» некоего пикардийца, философа и теолога, Лефевра из Этапля.[43] Это был очень ученый человек, смолоду много путешествовавший не только по Европе, но и по другим странам, а с 1493 года поселившийся окончательно в Париже и занявшийся там преподавательской деятельностью. Эразм высоко ценил Лефевра. Большой популярностью пользовались его лекции по философии – аудитория всегда была битком набита студентами, которых одинаково привлекала как громадная эрудиция учителя, так и обаятельность его личности. Вот как характеризует Лефевра один из его учеников, Мерль д'Обинье (d'Aubign):
Он необыкновенно добр… Простодушно и ласково рассуждает и спорит он со мной, смеется над безумиями сего мира, поет, забавляется.
И этому человеку суждено было впервые возгласить во Франции учение, отделившее в конце концов великое множество последователей от католической церкви. Так же, как и Лютер, он говорил, что спасти может лишь вера.
Один Бог своею милостью и верою в Него спасает в жизнь вечную. Есть справедливость добрых дел, есть другая справедливость – милости. Первая исходит от человека, вторая – от Бога. Первая, человеческая, заставляет познавать грех для того, чтобы спастись от вечной смерти, другая – заставляет стремиться к милости, чтобы через нее приобрести вечную жизнь. ‹…› Те, кто спасены, – спасены предизбранием, милостью и волей Божией, а не своей собственной. Наше решение, наша воля, наши дела бессильны; только предизбрание Господа всемогуще. Когда мы обращаемся к истине, не наше обращение делает нас достойными Господа и Его избранными, а Его милость; Его воля, Его избрание обращает нас.
Трудно выразить яснее и определеннее тезис, легший впоследствии в основу системы Жана Кальвина. Вскоре вокруг Лефевра сплотился тесный кружок его учеников и последователей. Провозгласив «спасение верой», Лефевр объявил безразличным все внешнее, начиная с добрых дел и кончая обрядами: значимы не эти внешние формы, а то истинное религиозное настроение, которое может скрываться под всякими формами. Поэтому-то, проповедуя свое учение, он продолжал считать себя католиком и по-прежнему совершал мессу и подолгу молился перед иконами.
Мартин Лютер
Жан Кальвин
Отметим это последнее обстоятельство: оно весьма важно для объяснения дальнейшей судьбы французской Реформации в лице некоторых ее представителей. Лефевр по своему характеру был далеко не боец. Достоянием Европы, а не только тесного кружка друзей его учение стало тогда, когда к тем же выводам пришел Лютер – проникся догматом «об оправдании верою» и громко провозгласил его, разорвал папскую буллу перед глазами всей Европы и поставил собственную жизнь на карту.
Конечно, мысли Лефевра не понравились консервативной Сорбонне. В 1518 году она признала еретичным его мнение о том, что в Евангелии выведены три Марии, а не одна, и возбудила против него преследование, которое, однако, было прекращено вмешательством самого короля. Франциск знал Лефевра не как проповедника, а как ученого.
– Я не хочу, – говорил он, – чтобы беспокоили этих людей: преследовать тех, кто нас поучает, значило бы помешать выдающимся людям приезжать в нашу страну.
Этот ответ, характерный для Франциска, указывает, в какие отношения становится король к французским реформаторам: видит и чтит в них не последователей новых религиозных взглядов, а только ученых. Преследовать реформаторов, еретиков для него значило преследовать гуманистов, представителей молодой науки, а в качестве мецената он не мог этого сделать. То обстоятельство, что первые французские реформаторы вышли из среды гуманистов, обеспечило за ними на некоторое время покровительство короля, в глазах которого «проповедник» сливался с «ученым».
В истории отношений Возрождения и Реформации различаются три этапа, хотя и не поддающиеся строгому хронологическому разграничению. Первый этап характеризуется тесной связью между этими двумя великими движениями, направленными на борьбу со Средними веками. Реформация вначале не только не презирает светскую науку, а, напротив, нуждается в ней как в своей верной спутнице; все реформаторы являются гуманистами, все гуманисты симпатизируют новому учению. И те и другие одинаково стремятся познать истину, одинаково страстно ищут ее и полагают, что для этого нужно, отбросив весь балласт схоластики, вернуться к далекому прошлому. Правда, позже оказалось, что «прошлое» у гуманистов и реформаторов не одно и то же, но пока они идут одним путем – путем науки. Провозгласив необходимость каждому христианину знать ту книгу, на которой зиждется вся христианская религия, первые представители Реформации (Лефевр во Франции, Лютер в Германии) принялись за ее перевод.
Требовалось узнать слово Божие таким, как оно было записано ближайшими учениками, а для этого нужно было пересмотреть все тексты, сравнить все переводы, нужно было знать Ветхий Завет в подлиннике, то есть изучить еврейский язык; прежде чем сделаться священником, нужно было стать основательным филологом.
Но этот период согласия между реформаторами и наукой длился недолго. После гонений, возникших в 1534 году в связи с «делом плакардов», начинают просматриваться некоторые разногласия. Неопределенное учение Лефевра заменяется строгой догматикой Кальвина: кто не с ней, тот против нее, и нет пути к примирению.
Свободная мысль, свободное исследование изгоняются (как нечто мешающее чистой спасительной вере), а вместе с ними изгоняются и все представители науки, все гуманисты. Это совершается, конечно, не сразу, но уже к 1545 году образовалась пропасть, разделяющая людей, стоявших когда-то вместе, и наступает третий этап в их взаимоотношениях – вражда. Это относится только к истории французской Реформации, а Германия сумела этого избежать, и немецкие гуманисты и реформаторы не являлись антагонистами.
Однако пока вернемся к Лефевру, которого в 1521 году защитил сам король, принудив Сорбонну оставить в покое ученого. 15 апреля 1521 года состоялась церемония проклятия Сорбонной Лютера и его учения. Лефевр предпочел покинуть Париж. Он уехал к своему другу и ученику, епископу Брисонне, в город Mo (Meaux).
Брисонне, граф де Монбрен (Montbrun),[44] очень молодым постригся в монахи и быстро прошел все ступени духовной иерархии. Побывав два раза в Риме в качестве посланника, он вернулся оттуда не столько ослепленный блеском и роскошью Ватикана, сколько удрученный теми безобразиями, которые успел заметить вокруг престола наместника Христова и среди своих товарищей, важнейших князей церкви. Епископ Брисонне был человек очень скромный и очень мягкий, понимавший свои пастырские обязанности так, как они были установлены в первые времена христианства.
Получив назначение в Mo, большой торгово-промышленный город, Брисонне был поражен царившим в его епархии беспорядком и твердо решил положить все свои силы на исправление зла. Эти планы встретили горячую поддержку со стороны Лефевра и некоторых его учеников, тоже укрывшихся от ненавистной Сорбонны у гостеприимного епископа, и работа началась. Брисонне отнял проповедь у монахов-францисканцев и передал ее Жерару Гусселю, Мишелю Аранду и Фарелю. Этим поступком, а также и теми строгостями, которые епископ возобновил в монастырях и среди всего духовенства, он сразу восстановил всех против себя.
Лефевр занялся переводом на французский язык Нового Завета, для того чтобы все люди могли сами, без посторонней помощи, обращаться к божественной книге. Через год, осенью 1522 года, этот труд был закончен и выпущен в свет. В предисловии к своему переводу Лефевр написал:
Пусть каждый священник походит на того ангела, которого видел Иоанн в Апокалипсисе. Он летел в небесной вышине, держа в руках Вечное Евангелие, чтобы передать его всем народам, языкам, племенам и нациям. Придите, первосвященники; придите, цари; приди всякий, жаждущий правды. Народы, пробудитесь от света евангельского в жизнь вечную! Слово Господа достаточно!
В этом последнем восклицании резюмируется вся Реформация так, как ее понимал Лефевр и его друзья. «Познать Христа и Его слово – вот единственная, живая, универсальная теология. Тот, кто знает это, знает все», – утверждал М. д'Обинье.
Между тем Сорбонна, фанатично отстаивавшая старый порядок, направляла свой гнев на ученых, которые пренебрегали схоластикой, не признавали комментарии Священного Писания, составленные средневековыми докторами, и смело брались за написание своих комментариев. Она обещала громы небесные на тех, кто изучит греческий и еврейский языки, предсказывала, что всеобщее знание их неминуемо приведет к гибели мира. А люди нового времени, гуманисты, смело шли вперед – читали Библию в оригинале, исправляли ошибки, сделанные когда-то отцами церкви и, вооружившись уже не схоластической, а настоящей аристотелевской логикой, стремились к познанию истины, которая, уступая страстной настойчивости искателей, понемногу открывалась перед их очарованными взорами.
Религиозное движение, сосредоточившееся в Mo, нашло серьезную поддержку при дворе в лице Маргариты, герцогини Алансонской. Она лично была знакома с членами реформаторского кружка и с 1521 года состояла в переписке с епископом Брисонне.
Не удовлетворенная тем, что давала ей жизнь, Маргарита имела все данные для того, чтобы увлечься именно религиозным движением века. Личными своими качествами она сослужила великую службу делу Реформации.
Брантом говорит:
Она направляла все свои действия, мысли, желания и стремления к великому солнцу – Богу, и поэтому ее подозревали в лютеранстве. То почтение, с каким к ней относились, то высокое мнение о ее уме и сердце, которое сложилось у всех, больше привлекали к Евангелию, чем любой проповедник.
Вероятно, под ее влиянием и Франциск, и Луиза относились к возникавшему учению не только невраждебно, а с видимым интересом. Когда Мишель Аранд вернулся в Париж, он переводил для Луизы некоторые части Писания. Таким образом, обстоятельства, казалось, благоприятствовали реформаторам.
Дошедшая до нас переписка Маргариты с Брисонне содержит 56 писем, некоторые их которых чрезвычайно объемные (до 100 страниц). В одном из первых писем герцогиня просит епископа прислать Мишеля Аранда, присутствие которого послужило бы ей большим утешением. В ноябре 1521 года Маргарита пишет Брисонне:
Не знаю, должна ли я радоваться тому, что меня причисляют к тем, на кого я очень бы желала походить… Мне кажется, что лучше всего заставить замолчать невежду, ибо король и Madame [Луиза] твердо решили внушить всем, что Божья истина не ересь.
Позже Маргарита сообщает:
Отсылаю к Вам мэтра Мишеля, который, уверяю Вас, не терял здесь времени, и учение Господа, через его уста, поразило сердца тех, кто уже склонялся к принятию Духа Святого [Франциск и Луиза]… Но, умоляю Вас, среди всех Ваших благочестивых стремлений к реформации церкви, которой король и Madame симпатизируют больше, чем когда-либо, и среди заботы о спасении несчастных душ – не забывайте одну из них, самую, может быть, несчастную и несовершенную…
Из этих двух выдержек видно, что Франциск смотрел благосклонно на Реформацию, понимая ее как исправление церковных злоупотреблений, а не догматов, и намеревался не только не мешать распространению мыслей первых реформаторов, но даже принять какие-то меры для «внушения всем, что Божья истина не есть ересь». В этих взглядах его сильно поддерживали сестра и мэтр Мишель, который своим горячим и убежденным словом, по свидетельству современников, производил всегда чрезвычайно сильное впечатление на своих слушателей. Таких же мыслей, как сын, держалась в то время и Луиза.
Но епископ Брисонне все еще не верил в серьезность и глубину обращения Франциска и его матери. Он пишет Маргарите 22 декабря 1521 года:
Не знаю, не померк ли у Вас тот истинный огонь, который давно уже вселился в Ваше сердце… Я боюсь, что Вы рассеяли его и расточили. Прославляю Господа, что он внушил королю желание сделать то, о чем я слышал. Сделав это, он покажет себя истинным носителем того великого огня…Ибо сказано в Писании: кому много дано, с того много и взыщется.
Очевидно, епископ не вполне доволен и самой Маргаритой; он опасается, что святой огонь не горит в ней с прежней яркостью, что она недостаточно отдается начатому делу возрождения религии. Но вскоре тон его меняется. В письме он говорит Маргарите:
Посланный держал нам грустные речи, по поводу которых господин Фабри [Лефевр] и я высказали мнение и умоляем гонца передать его Вам. Соблаговолите прикрыть огонь на некоторое время. Дерево, которое Вы хотите зажечь, слишком зелено; оно затушит огонь, и мы по многим причинам советуем Вам не делать этого опыта, если Вы не хотите совсем загасить светильник.
Епископ оказался прав. По характеру, взглядам, вкусам и привычкам Франциск не мог искренне отдаться религиозному движению. В сущности, он совсем не интересовался этими вопросами, был так же мало убежден в истинности католицизма, как и в правоте лютеранства, а на церковь смотрел только как на учреждение, освященное веками и необходимое для правильного течения общественной жизни. Поэтому, пока Франциск видел в протестантстве лишь стремление исправить некоторые церковные беспорядки, он ему сочувствовал. Затем, когда усмотрел, что реформаторы этим не ограничиваются, а видоизменяют самую догматику, он примирился и с этим, думая, что это лишь изменение частных убеждений отдельных лиц, которые не примет простой народ. Но когда Франциск увидел, что в его королевстве наряду с государственным вероисповеданием появилось другое, образовывавшее государство в государстве и подрывавшее основной принцип французской монархии: «un roi, une foi, une loi»,[45] ему показалось, что рушится королевство, и он вспомнил слова папского легата: «После перемены религии народ потребует и перемены верховной власти».
Вот что пишет по этому поводу Брантом:
Король ненавидел лютеранство, говоря, что оно, как и всякая другая новая секта, стремится к разрушению королевства, а не к спасению души. Вот почему он был несколько жесток в деле сожжения еретиков своего времени.
Но жестоким король стал позже, в 1534 году, после злополучного дела с плакардами, а до той поры он употреблял все свои силы и средства для защиты протестантов от преследования их как властями (духовенством и парламентом), так и простым невежественным народом. Неровное отношение Франциска – человека просвещенного и вовсе не фанатичного католика – к новому религиозному учению объясняется гораздо больше его характером, чем какими-то государственными соображениями. Он был слишком предан всем грубым наслаждениям того времени, чтобы отказаться от них и перестроить свою жизнь согласно евангельскому учению. Кроме того, он отличался крайней беспечностью и переменчивостью.
Люро замечает:
Ему бы следовало избрать своей эмблемой не саламандру, а хамелеона, и подписать вместо девиза свое же знаменитое двустишие, изменив в нем только одно слово, – вместо «femme»[46] поставить свое имя:
- Souvent Franois varie.
- Bien fol qui s'y fie.[47]
Все влияло на его настроение и образ действий: пустое событие, незначительное слово, мимолетное впечатление, но прежде всего, конечно, люди, его окружавшие. Без преувеличения можно сказать, что в большинстве случаев король не имел собственного мнения и определенного взгляда на вещи. В этих свойствах его слабого характера кроется источник всех тех превратностей, которые пришлось испытать французским протестантам с 1523 по 1545 год, и этими же свойствами объясняются те изумительные противоречия в распоряжениях Франциска, которые отмечены всеми историками.
Д. Низар подчеркивает:
Короля прославили именно за те его поступки, которые, в сущности, принадлежали Маргарите. Современники думали, что он согласен со всем, чего он прямо не отрицает, а потомство сохранило это заблуждение.
Духовенство города Mo, возмущенное теми новыми порядками, которые вводил епископ, донесло на него Сорбонне, обвинив «в сочувствии к ереси». Парламент потребовал его к ответу. Брисонне испугался и – уступил врагам. 15 октября 1523 года он издал три декрета, восстановивших почти все то, над разрушением чего он же сам работал. 13 декабря 1523 года он отнял проповедь от Ж. Русселя и М. Аранда, которые становились уже слишком известны, но на их место все-таки призвал людей той же группы: М. Мазурье и П. Кароли. Вскоре к ним снова присоединился Руссель. Но Фарель, неспособный идти на какие бы то ни было компромиссы, не мог оставаться более в епархии Брисонне и отправился в Париж, а оттуда к себе на родину, в Пикардию.
В Париже в это время произвели огромную сенсацию переводы сочинений Лютера, изданные Беркеном (Berquin). Он происходил из знатной семьи пикардийцев и по праву дворянина приехал около 1520 года ко двору Франциска, который его очень уважал и ценил. А. Мартен так охарактеризовал Беркена:
…Это был святой по своей жизни, выдающийся ученый по своим знаниям и мог бы стать вождем партии по энергии и деятельности характера.
Познакомившись с Лефевром и его учением, Беркен вскоре сделался одним из самых ревностных его учеников и последователей и употреблял все свои силы и способности на распространение трудов французских и немецких реформаторов. Сорбонна приказала арестовать Беркена, но суд оправдал его. То же было и с Лефевром. Он был обвинен за перевод четырех евангелий, и Сорбонна, воспользовавшись случаем, навсегда запретила переводить Библию. Король вторично заступился за ученого и сам назначил в судебную комиссию таких членов, которые его оправдали.
Гонимые знали, кому они обязаны за все эти милости. Госпожа д'Оссонвиль пишет:
Бог поднял на их защиту единственную сестру короля, принцессу редкого понимания, говорит Теодор де Без, который, в общем, довольно строго судит Маргариту. Ее имя заслуживает вечной славы за ее багочестие и ту святую любовь, которую она выказала церкви Божией, ее насаждению и сохранению, так что ей мы обязаны сохранением в живых многих из наших… Она делала все, что могла, чтобы смягчить короля, своего брата, и ее успехи не были тщетны.
Кружок епископа Брисонне распался. Однако дело, начатое им, не погибло. Из рук ученых и богословов оно перешло в руки простых рабочих. Об этом пишет М. д'Обинье:
Во многих сердцах зародилось такое пылкое желание познать путь спасения, что мастеровые, ткачи, прядильщики и прочие постоянно во время работы беседовали о слове Божием и утешались им. В особенности по воскресеньям и праздникам читалось Святое Писание, и научались познавать волю Господню.
Роль проповедника взял на себя ткач Леклерк. Но ему недолго удалось поучать народ. В пылу рвения неофита он прикрепил к самым дверям собора воззвание против «Римского Антихриста». За это ткач был схвачен и осужден. Три дня подряд его секли, потом заклеймили. В тот самый момент, когда палач прикоснулся к его лбу раскаленным железом, из толпы раздался крик:
– Жив Господь Бог и Его стигматы!
Толпа расступилась и молча, с почтением пропустила мать Леклерка, ободрявшую сына. «Ни один из врагов не посмел схватить ее», – замечает Т. де Без. После пыток Леклерк бежал в Мец. Но и тут ему не суждено было спастись. Строго следуя библейским словам: «Сокрушай богов лживых», он не мог равнодушно переносить того поклонения, которое оказывалось статуе Мадонны в местной часовенке. Это казалось ему идолопоклонством. Накануне большого праздника он пробрался в часовенку и разбил статую. На другой день разъяренная толпа схватила его и предала мукам. Ему отрезали кисти рук, предварительно вывихнув их, вырвали нос, железными клещами исковеркали все тело, сожгли грудь и надели на голову два раскаленных обруча. В продолжение всех этих пыток он пел псалом:
- Их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих.
- Есть у них уста, но не говорят, есть глаза – но не видят.
- Подобны им да будут делающие их и все надеющиеся на них.
- Боящиеся Господа, уповайте на Него: Он наша помощь и щит…
- Не мертвые восхвалят Бога, но мы все – живые!..
Дым костра заглушал его голос; огонь поднимался все выше и выше, и среди огненных языков хриплый голос доносился до толпы:
- Их идолы… дело рук человеческих.
- Не мертвые восхвалят Бога, но живые…
Леклерк и еще один протестант были первыми французскими мучениками за дело Реформации. Правда, они были жертвами не систематического гонения, а ненависти католиков и косности невежественной толпы, но как бы то ни было, с их казни начинаются кровавые страницы французской Реформации.
Глава 6
Дипломатия по-женски
После знаменитой Мариньянской победы в 1515 году и вплоть до 1519 года, то есть до смерти императора Максимилиана, во всей Европе господствовали относительные мир и тишина. В 1518 году Франциск I заключил договоры: с Карлом Испанским – Нуайонский договор, по которому Франциск уступал Карлу все свои права на Неаполь, а Карл должен был возвратить Франции королевство Наваррское; с Генрихом VIII Английским, по которому тот должен был вернуть Турне. Но мир оказался непрочным и разрушился при первом же толчке. Этим толчком послужил вопрос об избрании на императорский престол.
Франциск I
Все три государя (Франциск, Генрих и Карл) выступили одновременно кандидатами, но Генрих вскоре отказался от претензий на Священную Римскую империю. Франциск не жалел денег, чтобы обеспечить себе голоса курфюрстов. Его уполномоченные (Бониве и Флеранж) сыпали золото направо и налево, но это не помогло – императором стал Карл Испанский, отныне Карл V. Самолюбие Франциска было уязвлено. До самой своей смерти король не мог примириться со своим могучим соперником, и их вражда, скрытая под маской рыцарской вежливости и великодушия, проявлялась при малейшем предлоге.
Франциск I ждал лишь повода, чтобы начать военные действия против императора. Этот повод скоро представился. Карл V пока не выполнил одного из главных условий Нуайонского договора, по которому обязался вернуть Франции вассальное ей королевство Наваррское, отнятое у французского дома Фуа д'Альбре еще Фердинандом Католиком. Карл, видимо, нарочно тянул, истощая терпение французов. Наконец весной 1521 года французы не выдержали и вторглись в пределы Испании. Вся область транспиренейской Наварры была возвращена, за исключением лишь Пампелуны, отчаянно защищавшейся под начальством Игнатия Лойолы. Но торжество Франции длилось недолго. Испанцы напряглись и наголову разбили врагов; французский полководец был убит, а отвоеванная им страна так же быстро воссоединилась с Испанией, как и отторглась от нее. Туда были посланы Бониве и Гиз, которые опять отобрали часть Наварры и возвратили ее дому д'Альбре.
В то же время шла война с Карлом и в Италии. Она окончилась полным поражением французов, потерей Милана и многих других важнейших владений, а с августа 1523 года был заключен союз между папой и почти всеми государями Европы, так что Франция оказалась одна против всех. В союз вошли: папа, император, английский король, австрийский эрцгерцог, герцог Миланский и все остальные государи Италии, за исключением герцога Савойского, маркизов Монферратского и Салюче. Союзниками же Франции были только швейцарцы и шотландцы.
Карл V
Между тем и в самой Франции было неспокойно: во всех слоях населения происходили волнения, вызванные успехами Реформации. А еще вся страна напряженно следила за тем, как разбиралась (и ждала – чем закончится) земельная тяжба между матерью короля и могущественным герцогом Бурбонским, коннетаблем[48] Франции. Дело было запутанное, трудное и опасное для судей из-за высокого положения вовлеченных в него лиц. Король стоял на стороне Луизы (столько же из любви к матери, сколько и из антипатии к герцогу); парламент и многие дворяне были на стороне Бурбона, могущественного и независимого вассала. Генрих VIII, разговаривая однажды с Франциском I о герцоге Бурбонском, сказал, что если бы тот был его подданным, он не задумываясь казнил бы его, ибо невозможно допускать, чтобы вассал был почти так же силен, как сюзерен.
Раздраженный несправедливым к себе отношением, герцог Бурбонский решил перейти на сторону Карла V, думая, что враги сумеют лучше оценить его.[49]
Король Франциск I готовился к войне. Он назначил Луизу правительницей, а коннетабля, которого опасался и хотел задобрить, – генеральным наместником; сам же намеревался стать во главе армии. Неожиданные и очень важные события расстроили его план. Открывшаяся измена коннетабля, вторжение англичан, немцев и испанцев сразу с трех сторон, в Ломбардии поражение французов под командой Бониве и, наконец, месячная (с 19 августа по 24 сентября 1524 года) осада Марселя Карлом Бурбонским – все это задержало короля на юге Франции до октября 1524 года. Главная квартира его находилась в это время в Лионе, куда вслед за ним переехали его мать, сестра, королева Клод с детьми и весь двор.
Лион в XVI веке считался центром интеллектуальной жизни страны, так что даже Париж уступал ему в этом отношении пальму первенства. Географическое положение придавало городу совершенно исключительное значение: он связывал Францию с Италией так же, как Страсбург связывал Францию с Германией. По замечанию Р. Мийе (Millet), Лион находился «в двух шагах от Женевы, в которой скоро должно было прогреметь имя Кальвина, в трех шагах от Базеля, где мирно угасал великий Эразм, наконец, в четырех шагах от родины Возрождения, где процветали Бембо и Садолетто». Лион не мог не сделаться местом столкновения всяких философских систем и всевозможных мнений. Он славился своими типографиями, которых в нем было великое множество и в которых работали знаменитые люди того времени вроде Доле, Рабле, Ано, так что эти типографии являлись не производственными заведениями, как теперь, а учеными кружками, объединявшими самые разнообразные и самые блестящие элементы духовной жизни. «Лионский кружок» славился на всю Францию. В него входили не только ученые, но и художники, и артисты, и поэты. К участию в нем допускались и женщины – писательницы и поэтессы, которых в Лионе было очень много и которыми он гордился перед всеми другими городами королевства.
Франсуа Рабле
Когда Маргарита приехала в Лион вместе с некоторыми из своих друзей (мэтром Мишелем и другими), она принялась задело пропаганды нового учения со всем пылом своей души.
Почти накануне Марсельской осады, когда король был всецело поглощен военными опасностями и, торопливо готовясь к обороне, разъезжал из города в город, из крепости в крепость, – скончалась его супруга, королева Клод (25 июля 1524 года). У постели умиравшей женщины не было никого из близких, кроме герцогини Алансонской. Маргарита самоотверженно ухаживала за невесткой и потом искренне оплакивала ее.
Едва осада Марселя была снята, король решил идти в Италию, не внимая мольбам своей матери, не слушая убеждений сестры, которая отговаривала его от поступка, признававшегося всеми опытными полководцами безумным. Стоял октябрь, и переход через Альпы в такое время года был слишком рискованным; король уводил всех способных к войне людей, и королевство, оставшись беззащитным, могло подвергнуться нападению врагов; завоевание Италии казалось более чем проблематичным. Но все эти доводы не убеждали Франциска. Он горел нетерпением отомстить Карлу V за предшествовавшие неудачи и наказать дерзкого Бурбона, «забывшего честь и Бога» и осмелившегося воевать против своего государя и отечества. Кроме того, близкий друг короля, легкомысленный адмирал Бониве, только что потерпевший поражение в Ломбардии, но не наученный этим горьким опытом, постоянно рисовал королю заманчивые картины будущих побед.
Королевскую семью постигло новое несчастье: заболела семилетняя дочь Франциска, принцесса Шарлотта. Маргарита снова превратилась в сиделку – дни и ночи проводила у изголовья своей маленькой племянницы. Через месяц Шарлотты не стало.
В письме к епископу Брисонне герцогиня признается:
Господь украшал мой дух и разум; но, кроме ее смерти, я пережила еще горе короля, от которого я долго скрывала ее кончину, но который догадался об истине по сну, приснившемуся ему три раза подряд. Он видел принцессу, говорившую ему: прощайте, государь, я ухожу в рай.
Сохранилась длинная (1250 строк) поэма «Диалог как ночное видение» (Dialogue en forme de vision nocturne) герцогини Алансонской, написанная ею на смерть Шарлотты. Это произведение интересно потому, что в нем Маргарита прямо ставит все те вопросы догматики и культа, которые уже занимали тогда представителей Реформации, и отвечает на них в евангелическом духе.
25 февраля 1525 года произошла злополучная Павийская битва. Французская армия была уничтожена Карлом V, король Франциск I попал в плен.[50]
В Париже о поражении узнали только 7 марта. Страшная паника охватила все население. По распоряжению городского совета ворота города были закрыты и к ним приставлены часовые, всю ночь напролет на улицах горели фонари; запрещено было переезжать в лодках Сену. Архиепископ Парижский приказал выставить мощи святого Дионисия, и вокруг них днем и ночью толпился народ.
Франциск собственноручным письмом уведомил мать о своем несчастье. Впоследствии молва исказила это письмо и включила в него фразу, достойную короля-рыцаря: «Мадам, все потеряно, кроме чести и жизни!» (Madame, tout est perdu sauf l'honneur et la vie!) Франциска вместе с товарищами по несчастью (королем Наваррским Генрихом д'Альбре, Флеранжем, маршалом Монморанси, поэтом Клеманом Маро и другими) враги окружили заботой, всячески выказывая глубочайшее уважение. В императорском лагере Франциску была выделена палатка. Он пользовался такой популярностью, что Ланнуа, вице-король Неаполя, которому пленник специально был поручен, решил заключить его ради большей безопасности в замок Пиццигитон, недалеко от Павии.
Недобрая весть о павийском несчастье повергла мать и сестру короля в глубокое отчаяние. Это настроение еще усилилось, когда в Лион приехал муж Маргариты, герцог Алансонский, на которого народная молва возлагала всю ответственность за проигранную битву. Говорили, что он так растерялся в самый критический момент, что велел трубить отбой вместо того, чтобы ринуться на помощь к королю. Далее легенда прибавляла: упреки тещи и отчаяние и презрение жены до того измучили герцога, что он заболел от стыда и раскаяния и умер через несколько дней по своем приезде в Лион.
Все это справедливо лишь наполовину. Действительно, герцог Алансонский никогда не отличался ни военными талантами, ни особенной доблестью, но трудно сказать, насколько он лично виновен в проигрыше битвы; достоверно известно, что Франциск I, увлекшись атакой, сам сделал крупнейшую ошибку в расположении войск, прикрыв своих врагов и таким образом лишив свою артиллерию возможности действовать. Верно, что герцог умер по возвращении в Лион, хотя и не так скоро, как утверждает легенда. Но он умер не от стыда и раскаяния, а от плеврита, проболев только пять дней, – умер на руках у Маргариты, заботливо и преданно ухаживавшей за своим мужем. О его последнем дне (герцог Алансонский умер 11 апреля 1525 года) она сама рассказывает в поэме «Темницы королевы Наварры» (Les prisons de la reine de Navarre). Читая это произведение, лучше всего можно убедиться, насколько легенда исказила истину, утверждая, будто Маргарита презирала своего супруга и упрекала его в трусости и низости. Королева повествует, как умирал герцог – тихо и спокойно, как подобает истинному христианину.
Маргарита была поглощена заботами о брате, о делах государства, о здоровье все хворавшей матери, о своих племянниках, которым она теперь заменяла мать. В апреле, через несколько дней после смерти своего мужа, она пишет королю:
Так как Господь дал мне случай написать Вам (что для меня является таким большим утешением), то осмеливаюсь поручиться, что по получении двух Ваших писем я успокоилась и пришла в то состояние [здоровья], которое вы для меня желали. Ибо слово Ваше имеет такую силу и власть надо мной, что оно обращает сожаление о прошедшем в страстную жажду будущего, надеясь, что Тот, Кто погрузил меня в пучину [скорби], спасет меня вестью о Вашем желанном освобождении; ибо нет другого утешения, способного проникнуть в самую глубь моего сердца, и надеждой на него поддерживается жизнь матери и сестры… Не сомневайтесь, Государь, что кроме тех первых двух дней, когда горе заглушало голос рассудка, она [Луиза] не видела ни моего грустного лица, ни единой слезы; ибо я считала бы себя слишком несчастной (принимая во внимание, что ничем не могу Вам служить), если бы к тому же нарушила спокойствие духа той, которая так много делает для Вас и для всего, что Ваше. Все, чем я могу ее развлечь, верьте, Государь, делается, ибо я так страстно хочу видеть вас обоих [то есть мать и брата] довольными и счастливыми, что, уповая на Бога, не могу и не хочу теперь думать о чем-либо другом…
Луиза, по воле Франциска, была поставлена во главе государственного управления и, несмотря на свое крайне расшатанное здоровье, деятельно взялась за работу. Понимая, что прежде всего надо затушить все распри внутри королевства и объединить силы страны для борьбы с врагами, она составила верховный совет, в состав которого вошли важнейшие сановники государства, пользовавшиеся особенным уважением и популярностью во Франции (в том числе Гиз и Лотрек, хотя последний был ее личным врагом). Председательство в этом совете она передала герцогу Вандомскому, который после измены герцога Бурбонского и смерти герцога Алансонского стал первым принцем крови. Герцог Вандомский пользовался симпатиями партии, враждебно смотревшей на регентство Луизы; таким образом, дворянство было удовлетворено: оно видело себя стоящим непосредственно у кормила правления и могло не только контролировать, но и иметь некоторую власть над регентшей, как это и обнаружилось в первом же заседании.
Зная о популярности своей дочери, Луиза привлекла к государственным делам и ее. Брантом говорит:
Во время плена Франциска Маргарита очень помогала своей матери управлять государством… и привлекать на свою сторону дворянство, ибо доступ к ней для всех был очень легок и она завоевывала сердца своими прекрасными качествами.
Луиза резко изменила свое отношение к представителям нового религиозного учения, опасаясь, как бы религиозная распря между Сорбонной и протестантами не отняла у нее помощи и содействия папы. Когда парламент громко заявил, что павийское несчастье есть кара Божия за попущения, оказанные «ереси лютеристов», регентша обратилась к Сорбонне с вопросом: что же делать, чтобы искоренить ересь и умилостивить небесное правосудие? Сорбонна ответила, что «нужно употребить власть и насилие против личности лжеучителей, ибо те, кто противится свету, должны быть к нему приводимы пытками и ужасом». Папа одобрил этот совет и благословил буллой от 20 мая 1525 года комиссию, которая, в сущности, вводила во Франции инквизицию.
Луиза целиком отдалась делу освобождения своего сына. Дипломатии была задана трудная задача. Всюду искали друзей и помощи; обратились даже к турецкому султану, и это явилось важным событием в сфере международных отношений: заклятый враг, «неверный мусульманин», призывается на выручку «христианского короля»! Венеция и папа, опасаясь нарушения политического равновесия, поддерживали Луизу, обещая ей всяческое содействие; Генрих VIII Английский заключил с Францией мир; оставалось только справиться с самим Карлом V. Но это оказалось не так-то легко.
Генрих VIII
Павийская победа была для молодого, 25-летнего, императора столь неожиданным и столь страстно желанным торжеством, что у него кружилась голова от грандиозности планов, начинавших теперь казаться ему осуществимыми. Он уже фактически владел большей частью Европы: император Германский, король Испанский, почти полновластный господин Италии, владетель Нидерландов… Карл мнил себя уже победителем Франции и основателем новой всемирной монархии. Для этого ему понадобится еще только одолеть турок и прибавить к своим владениям весь Балканский полуостров. В письме к Ланнуа он признается в своем намерении:
Так как Вы захватили короля Французского, которого я Вас прошу хорошенько хранить, то я не знаю, куда бы я лучше мог обратиться теперь, как не против неверных!..
Заключение становилось Франциску невмоготу. Роскошная итальянская весна врывалась в узкое окно его тесной кельи, у которого он тоскливо простаивал часами, блуждая взором по цветущей долине и по горам, за которыми лежала его родина. От тоски король-рыцарь, король-пленник сделался королем-поэтом. Именно к этому периоду его жизни, ко времени его плена, начавшегося в Пиццигитоне и кончившегося только в Мадриде, относятся многочисленные стихотворения Франциска, посвященные матери, сестре и «даме сердца». В них он описывает красоты расстилавшихся перед его глазами видов, свою тоску, свое одиночество без близких его сердцу людей; вспоминает Павийскую битву и другие события последнего времени.
Наконец завязались переговоры о выкупе короля. Первые же требования Карла V ужаснули Францию своей чрезмерностью. Они сводились к следующему: союз с императором против турок; брак дофина с инфантой[51] Португальской; возвращение императору Бургундии и всех других графств, городов, принадлежавших некогда Карлу Бургундскому; уступка Прованса герцогу Бурбонскому, будущему зятю императора, и возвращение ему всех его прежних доменов, которые вместе с Провансом составят королевство, вполне независимое от Франции; возвращение Генриху VIII Английскому Нормандии, Гиени и Гаскони.
Франциск хотел быть рыцарем до конца и подтверждал уже раз написанное им к грандам королевства.
Подобно тому, как я предпочел ради чести моей нации и своей собственной избрать тюрьму вместо постыдного бегства, никто никогда не скажет, что я из желания быть освобожденным нанес ущерб своему королевству: почитаю себя счастливым весь остаток дней своих провести в тюрьме за свободу родины!
Но благородный порыв его скоро миновал, и он сам начал писать условия для своего освобождения, в которых делал много уступок сопернику.
В начале августа короля привезли в Мадрид. Франциск I думал, что Карл V примет его почти как дорогого гостя и немедленно вступит с ним в личные переговоры и что ему, славившемуся своим ораторским талантом, легко удастся склонить императора в свою пользу. Однако его поместили в мрачную башню. Теперь он находился в маленькой низкой комнате с одной дверью, с небольшим оконцем под самым потолком и двойной железной решеткой – нужно было становиться на стол, чтобы видеть что-нибудь из этого окна. Башня стояла на почти отвесной высокой скале; в глубине пропасти виднелось высохшее русло реки. Очевидно, императору хотелось довести короля до изнеможения, до полного отчаяния и принудить к тем уступкам, на которые он до сих пор не соглашался. Прошел целый месяц, а король еще ни разу не виделся с императором.
Между тем послы и уполномоченные делали свое дело. Переговоры не прекращались. Поняв, что Карл не хочет его видеть и настаивает на своих условиях, Франциск написал домой письмо, прося мать или сестру приехать к нему. Маргарита, не колеблясь, решила ехать в Испанию и известила об этом Франциска:
Так как регентша не может доставить Вам радость видеть ее, то ей угодно осчастливить меня, приказав мне ехать к Вам. Не буду распространяться относительно того, насколько это повиновение вам обоим мне приятно…
С отъездом Маргарите медлить не хотелось, но необходим был паспорт от Карла V, который гарантировал бы ей безопасность проезда и пребывания во враждебном государстве. После долгих проволочек это было наконец улажено маршалом Монморанси,[52] уже выкупленным из плена и деятельно работавшим теперь над освобождением своего господина. Карл разрешил герцогине Алансонской навестить брата, заключил перемирие с Францией на шесть месяцев, то есть до 1 января 1526 года, и согласился на личное свидание с королем.
Анн де Монморанси
Непривычные условия жизни, в которые был поставлен Франциск, подкосили его крепкое здоровье. У него открылась сильнейшая горячка. Весь Мадрид взволновался при этом известии, поскольку Франциск был всеобщим любимцем. Церкви наполнились молящимися, как будто вопрос шел о здоровье испанского государя. Доктора заявили, что только Карл может вернуть ему здоровье, вернув надежду на свободу. Из отдаленнейших концов Европы летели к Карлу послания, ходатайствующие за французского короля. Свидание Карла с Франциском состоялось 18 сентября, а на следующий день в Мадрид прибыла Маргарита, разбитая от усталости, тяжелого пути и счастливая тем, что застала еще в живых своего брата.
В те времена путешествие в Мадрид было далеко не легким. Тысячи препятствий и опасностей возникали на пути, и поступок Маргариты, одинаково говорящий о ее преданности брату и о бесстрашии, вызывал всеобщее удивление и восторг. Эразм прямо называл ее «героиней». Конечно, она ехала не одна. Ее сопровождали президент парижского парламента, епископ Тарбский и придворные дамы. Мать проводила ее почти до Авиньона, так как Маргарита должна была сесть на корабль в Эг-Морте. Но внезапно разыгралась непогода. 27 августа она сообщает королю:
Государь, гонец расскажет Вам, каким образом небо, море и советы людей задержали меня здесь. Но Тот, Кому все повинуется, разрушил все препятствия, послав теперь такую хорошую погоду, что даже те, которые еще вчера вечером колебались, сегодня утром советуют мне ехать, что я и исполняю с таким желанием Вас видеть, какое Вы, Государь, можете себе лишь вообразить.
Ничто мне не помешает больше: ни опасность, ни море, беспокойное в это время года, и я не остановлюсь раньше того места, где увижу Вас. Ибо мысли о смерти, о горе, об опасностях мне теперь столь привычны, что я готова их считать за свободу, жизнь, здоровье и славу, думая хоть таким образом участвовать в Вашей судьбе, которую я со счастьем взяла бы для себя одной.
Маргарита высадилась в испанской гавани Паламос после тяжелого и опасного морского переезда. Но ей предстоял еще утомительный и длинный путь до столицы, по земле, выжженной палящими лучами солнца. Это путешествие совершалось в носилках (litire), несомых мулами. Двигались очень медленно, останавливаясь для ночевки в плохих гостиницах. Наконец Маргарита достигла цели своего путешествия.
Император встретил ее в дверях своего дворца Аль-казара и, торжественно приветствовав, провел во внутренние покои. Она была одета, как всегда, в черное бархатное платье, и белое покрывало ниспадало до пола мягкими складками с ее темных волос.
Франциску становилось все хуже, хотя его успокаивало постоянное присутствие любимой сестры. Он часами слушал ее рассказы о том, что делалось без него на родине и в его семье, и забывался под тихие звуки ее ласкающего голоса.
Брантом пишет:
Лучше всяких докторов зная его природу и сложение, она заставляла их лечить короля по-своему и делала это так успешно, что спасла его, почему впоследствии Франциск часто говаривал, что без нее ему бы не выжить и что она даровала ему жизнь.
Через неделю Франциск чувствовал себя уже настолько хорошо, что мог расстаться с сестрой, которая 2 октября выехала в Толедо (императорскую резиденцию), чтобы приступить к выполнению своей дипломатической миссии.
Ей предстояла непростая и щекотливая задача. Хотя бывшие до сих пор переговоры не привели ни к какому положительному результату, зато они выяснили требования и желания обеих сторон и хорошо познакомили друг с другом противников. Трудно было найти людей более противоположных по складу характера и уму, чем французский король и германский император. Маргарита сама хорошо знала это. Для того чтобы примирить их, сказала она однажды венецианскому послу, нужно было бы переделать одного из них по образцу другого. Мезере удачно охарактеризовал их различия:
Франциск имел блестящие внешние качества и гибельные недостатки, а Карл имел политические качества и полезные недостатки.
Карл V был расчетлив в поступках, обладал железной волей и огромным честолюбием. И с этим человеком пришлось теперь вступить в дипломатическое единоборство женщине, отличительную черту которой, по ее собственному признанию, составляла «глупая мягкость». Луиза, Франциск и многие другие надеялись, что Карл, как обычно и все, подпадет под обаяние Маргариты: один час совещаний между императором, королем и герцогиней подвинет дело более, чем целый месяц споров между юристами.
Император встретил Маргариту очень любезно, выразил ей удовольствие по поводу выздоровления ее брата.
Она информирует Франциска:
Сегодня после обеда по совету вице-короля я пойду к императору и мы начнем Вас освобождать. Он [император] желает, чтобы в комнате не было никого, кроме нас двоих и одной из моих женщин, которая будет держать дверь. Сегодня же вечером сообщу Вам обо всем, что сделаем. Умоляю Вас, Государь, притворяться перед д'Аларсуа [тюремным надзирателем] больным и угнетенным, ибо Ваша слабость меня укрепит и подвинет мою задачу.
Задача эта, при ближайшем с ней ознакомлении, оказывалась все труднее и труднее. Правда, Карл V аккуратно совещался с герцогиней Алансонской, но она скоро поняла, что ее хотят провести и не думают убавлять своих требований: королю предлагали купить свободу не иначе, как ценой герцогства Бургундского. Неискренность и непрямота действий испанской дипломатии раздражали Маргариту, и она утомлялась от траты времени пустые на разговоры, которые ни к чему не приводили. Ее настроение вполне сказалось во втором ее письме из Толедо.
Государь, я не писала Вам раньше, желая сообщить Вам что-нибудь более приятное, чем то, что я здесь до сих пор видела; но ввиду постоянного оттягивания и того странного поведения относительно меня, которого здесь придерживаются, я решилась пойти сегодня после обеда к императору и узнать от него хоть какое-нибудь решение дела, на чем я и буду настаивать всей моей властью, и немедленно уведомлю Вас. Вчера вечером ко мне заходил вице-король, ужасно недовольный тем, что не может нам служить, как того хотел бы; сказать правду, мне кажется, что они все здесь очень стеснены. Я разговаривала с ним долго и с раздражением указала на то, что не видела уже два дня императора, прибавив, что у них у всех мало чести, зато много недоброжелательства, и что я отлично знаю, что я их стесняю и что им очень бы хотелось удовлетворить меня, ничего не сделав по совести. Я высказала ему также, что мне было бы гораздо приятнее, если бы они прекратили всю эту комедию и откровенно высказали мне свое решение, с чем он вполне согласился… Уверяю Вас, Государь, что роль истца среди таких неблагоразумных людей мне кажется гораздо труднее, чем должность врача, наблюдающего за Вашим здоровьем.
В другом письме ее тон становится еще решительнее:
Вчера я была у императора, который обошелся со мной очень холодно. Он пригласил меня в свой кабинет для беседы, но все его разговоры были притворны; он поручил мне поговорить с его Советом. Посылаю Вам человека, который расскажет все, что здесь делается, дабы Вы ознакомились с теми приемами, которые они здесь употребляют, несмотря на то, что очень опасаются, как бы я не соскучилась здесь, ибо я даю им понять, что, если они не переменят свой образ действий, я уеду.
Очевидно, однако, эти угрозы мало действовали на Карла и его советников. Герцогиня жалуется брату:
Если бы еще мне приходилось иметь дело с хорошими людьми и которые понимают, что значит слово «честь», я бы не беспокоилась так об этом опаздывании, но тут как раз обратное. Каждый мне говорит о своей любви к королю, но доказательств этому нет никаких.
Чтобы ясно представить себе беспокойство и раздражение Маргариты, отметим, что паспорт был ей выдан лишь на строго определенный срок, пропустив который, она лишалась всех гарантий безопасности и даже личной свободы. Поэтому ей необходимо было и закончить все дела, и своевременно попасть на французскую границу. Время шло, а разработка пунктов мирного договора подвигалась вперед очень медленно. Карл не хотел отказываться от Бургундии и под всевозможными предлогами уклонялся от окончательного объяснения с Маргаритой; у него также не было желания выступать перед Европой, с напряженным вниманием следившей за всем, что происходило в Мадриде и Толедо, в виде жестокого и несправедливого притеснителя, пользующегося несчастьем своей благородной жертвы. Маргарита перестала ходить к императору, поняв, что он избегает ее, да и роль просительницы ей не нравилась. Она пишет Франциску:
Вице-король советовал мне побывать у императора, но я ответила ему, что никогда в жизни не выходила из дому, не будучи специально званной, и что когда императору заблагорассудится меня пригласить, – меня могут найти в монастыре. Здесь я пробыла с часу дня до пяти и до сих пор никакого ответа не получила. Вот уже три дня, как я нигде не бываю, и думаю – это (как я и объяснила вице-королю) для того, чтобы все они поняли, что если я не разговариваю о делах с императором, то мое положение не дозволяет мне разговаривать о них и с его слугами.
Сколько могу судить по некоторым их разговорам, они очень смущены и опасаются, что я с ними совсем распрощаюсь. Мне кажется, что если мы будем еще в течение некоторого времени обращаться с ними построже, то они заговорят с нами иным языком. Что бы ни случилось, умоляю Вас, раз они поступают так низко, не слишком тяготиться замедленим, которое потребуется для того, чтобы довести их до той точки, до которой я хочу.
Как видно из этого письма, отношения Маргариты с Карлом становились очень натянутыми. Наконец терпение герцогини истощилось, и она, по словам Брантома, обратилась к императору с такой смелой и прямой речью, что он остолбенел от неожиданности и удивления. Она доказывала ему неблагородство его отношения к Франциску, его сюзерену, упрекала его в жестокости сердца и говорила, что если король умрет от его гадкого отношения, то смерть эта не останется безнаказанной, ибо у него есть сыновья, которые – настанет день – жестоко отомстят за своего отца.
Брантом продолжает:
Эти слова, сказанные с величием и большой горячностью, заставили Карла призадуматься, так что он умерился и даже навестил короля, которому наобещал массу всяких прекрасных вещей, которых он, впрочем, не дал ему. Но если она хорошо говорила с императором, то еще лучше сказала в его Совете, в заседании которого присутствовала. Там она всех победила своей блестящею речью, сказанной притом с грацией, которой далеко не была лишена, так что, в конце концов, она стала всем приятна, а не антипатична; тем более что она была прекрасная молодая вдова, и в цвете лет!.. А все это очень способно растрогать и смягчить людей суровых и жестоких. Словом, она добилась того, что ее доводы найдены были основательными, и она завоевала себе всеобщее уважение: императора, его Совета и всего двора.
Но это уважение к самой Маргарите, к ее твердости и уму не отразилось на дальнейшем ходе переговоров. Несмотря на утверждение Брантома, что «ее доводы были найдены советом основательными», ни одна из предложенных ею комбинаций не была принята. Видя, что дипломатические переговоры ни к чему не приводят, она решила устроить заговор и спасти Франциска путем бегства. Было условлено, что король наденет одежду негра, каждое утро приносившего дрова в его комнату, замажет себе лицо сажей и с наступлением ночи выйдет из своего заключения. Все уже было приготовлено, но внезапно заговор раскрылся: его выдал подкупленный испанцами королевский камердинер. Аларсуа, смотритель тюрьмы, получил предписание не впускать больше негра в комнату Франциска, а к паспорту Маргариты было приписано, что ее свобода и спокойствие гарантируются испанским правительством лишь в том случае, если она ничего не предпримет против воли императора и во вред испанскому государству. Эта приписка звучала угрозой и создавала герцогине положение с очень относительной безопасностью.
Весьма вероятно, что именно в это время у Карла появилась мысль оттянуть под разными предлогами отъезд Маргариты, чтобы ее паспорт, как просроченный, утратил свою силу, и тогда можно было бы задержать ее в качестве пленницы, а потом, распоряжаясь братом и сестрой, принудить Францию к согласию на все требования. Это казалось тем исполнимее, что 1 января 1526 года кончалось перемирие и Карл, становясь в положение военного врага, мог уже не стесняться никакими условиями. Однако ему, кажется, не удалось вполне скрыть свои коварные замыслы: его неожиданно вернувшаяся любезность относительно герцогини породила кое-какие подозрения – если не у нее самой, то у ее спутников и у брата.
Франциск стал уговаривать сестру уехать. Долгое время торопливый отъезд герцогини объясняли тем, что она увозила с собой акт первостепенной важности: именно «Отречение» Франциска от престола, который следовало доставить как можно скорее во Францию и который резко изменял все положение дел, оставляя в руках императора вместо короля частного человека.
Шамполльон-Фижак (Champollion-Figeac), отыскавший оригинал документа, сначала оспаривавшегося учеными, установил ошибочность этого мнения и выявил, что Франциск только предполагал послать его с сестрой, но что потом вследствие каких-то причин передумал и отправил его с Монморанси. Наверное, узнав, что Маргарите может угрожать задержание, он вручил ценную бумагу тому, кто меньше рисковал. В «Отречении» Франциск объявлял королем своего наследника, дофина Вьеннского; до его совершеннолетия поручал регентство своей матери, Луизе Савойской, а в случае ее смерти – сестре Маргарите, герцогине Алансонской.
Маргарита рассталась с братом в середине ноября. Находясь в пути, она надеялась, что Карл наконец откажется от некоторых своих требований и тогда она вернется во Францию не одна, а с освобожденным братом. Маргарита пишет Франциску:
Завтра я сделаю только четыре лье, ожидая от вас известий для того, чтобы, если понадобится, поскорее вернуться к Вам.
Из Медины в середине декабря она советует не уступать врагу и не отказываться от своих условий, но вскоре тон ее меняется; проехав Сарагосу, она шлет послание уже совсем иного характера:
…Если Вы видите, что даже Ваше терпение не может принудить их говорить в Вашу пользу, тогда не останавливайтесь ни перед землями, ни перед детьми,[53] ибо королевство Ваше нуждается в Вас более, чем когда-либо, в силу любви, которую оно несет Вам. И поверьте, Государь: если бы я думала, что Ваше долгое заключение для Вас почетнее, то даже грусть, испытываемая мною по поводу Вашего горя, не заставила бы меня посоветовать Вам что-либо неподходящее. Но, видя, как Вы необходимы… я осмеливаюсь умолять Вас не откладывать своей свободы из-за чего бы то ни было…
Маргарита, очевидно, потеряла надежду на освобождение короля без уступки Бургундии. К тому же безнадежному выводу пришла и Луиза, давшая в конце ноября своим послам разрешение уступить Карлу, если уж нельзя обойтись без этого. Вероятно, письмо произвело глубокое впечатление на Франциска. Зная его характер (скоро воспламенялся, но так же скоро и отчаивался), легко предположить: после отъезда сестры, умевшей будить в его сердце благороднейшие струны и поддерживать его энергию, король впал в совершенное уныние и сам испугался того, что написал в своем «Отречении». Очень может быть, что именно в это время ему пришла в голову мысль обмануть Карла V: купить свободу ценой Бургундии, но не отдать ее. И как раз в это же время его любимая сестра, суждениям которой он привык безусловно доверять, говорит ему: не смущайтесь их требованиями; отдайте земли, отдайте детей своих, только получите свободу.
19 декабря, в день отъезда во Францию маршала Монморанси, увозившего с собой «Отречение», король приказал французским послам отдать Бургундию. В этом проявился характер Франциска I: в один и тот же день отправить в Париж отречение от престола, а в Толедо – приказ уступить императору! Карл V добился своего. За Бургундию, которую он получал в полное владение, император отказывался только поддерживать интересы герцога Бурбонского.
14 января 1526 года Мадридский договор, освобождавший (после почти годового плена) короля Франции, был скреплен нужными подписями. По этому договору кроме Бургундии Франциск отказывался в пользу своего соперника от Милана, Генуи, Асти и Неаполя, от сюзеренства над Фландрией и Артуа, а также от всякой возможности когда-либо помогать своим верным друзьям-союзникам графам де Ла Марк (Флеранж) и Генриху д'Альбре Наваррскому. Накануне король секретно «опротестовал» подпись, которую он, «вынужденный насилиями», собирался дать Карлу. Этот «протест» – небольшой документ, врученный французским уполномоченным, заранее объявлял Мадридский договор как бы несуществующим, а Франциска – обязанным вместо того, чтобы отдать Бургундию, вручить Карлу соответственную денежную сумму.
Советники Карла V отлично сознавали, что уступки, делаемые королем, слишком велики, чтобы их одобрили в королевстве, и потому не доверяли искренности Франциска. Один из дипломатов императора писал ему:
Или поставьте короля французского так низко, чтобы он не мог Вам вредить, или обращайтесь с ним так хорошо, чтобы он не хотел Вам вредить, или оставьте его у себя пленником. Но горе Вам, если Вы отпустите его наполовину довольным.
Между тем все отлично понимали, что Франциска «отпускали наполовину довольным». Да и могло ли быть иначе, когда его вынуждали отдать одно из лучших владений его короны? Но Карл спешил, опасаясь влияния «Отречения», слух о котором уже распространился по всей Европе. Как бы то ни было, 14 января 1526 года Франциск получил свободу, хотя фактически ему удалось ею воспользоваться только двумя месяцами позже.
Король не выполнил Мадридского договора, ссылаясь на Бургундские штаты, созванные им и решившие, что страна, их уполномочившая, не желает быть отделенной от французской короны. Взбешенный император, видя себя побежденным хитростью Франциска, к политической сообразительности которого он относился очень скептически, потребовал, чтобы тот снова вернулся в тюрьму, раз он не мог сдержать данных им обещаний. Франциск ответил на это провозглашением (8 июля 1526 года) Священной лиги – для освобождения Италии. Но, объявив себя защитником Апеннинского полуострова, Франциск и не думал серьезно отдаваться этому. После неудачи при Павии война перестала манить его, а государственные дела всегда были ему в тягость. Поэтому, хотя он, вернувшись в Париж, отменил регентство, Луиза осталась фактической правительницей королевства. А Франциск предался удовольствиям и наслаждениям, которых так долго был лишен.
Глава 7
С надеждой в сердце
Франциск совсем забыл про религиозные распри, которые росли в его королевстве. Сорбонна с большой энергией принялась за истребление ереси еще тогда, когда короля не было в стране. Поражение в битве при Павии и дальнейшие события очень помогли ей в этом. Чтобы освободить сына из плена, Луиза всюду искала помощи и союзников. Она обращалась и к папе, и к духовенству, и к Сорбонне. Что до Сорбонны, она, заявив, что король навлек на себя гнев Божий теми снисхождениями, которые он оказывал еретикам, посоветовала возобновить пытки. Парламент поддержал предложение университета. Буллой от 20 мая 1525 года папа благословил назначенную для выявления ереси комиссию, власть которой простиралась даже над герцогами и архиепископами. Провинциальные парламенты последовали примеру столицы. Были сооружены эшафоты, запылали костры и потекла кровь отступников от единой католической церкви.
Ужас охватил последователей нового учения. Никто не был защищен от насилия и своевольных жестокостей инквизиционной комиссии. Она уже почти не судила, а только приговаривала, и притом уничтожала своих противников часто не казнью, но простым убийством посредством подкупа и яда.
Снова было возбуждено дело епископа Брисонне. Его потребовали к суду, опять он присягнул в своей «правоверности» и отрекся от «лютеровой ереси». Тогда Сорбонна приказала арестовать пятерых человек, казавшихся ей особенно подозрительными, и прежде всего Лефевра, Русселя и Кароли. Но когда за ними явились, их уже не было у епископа. С помощью Маргариты он скрыл их и дал им возможность бежать в Страсбург, который давно играл роль убежища для всех преследуемых за веру. В Страсбурге беглецы нашли самый радушный прием у тамошнего ученого Капитона, раньше уже приютившего у себя Фареля. Вскоре к ним присоединились Мишель Аранд, обвиненный в ереси, Симон де Турне, обратившийся в протестантство из евреев и пользовавшийся большой поддержкой Маргариты, Корнелиус Агриппа, бывший придворный врач Луизы, и еще несколько человек, которых связывало не только единство убеждений и веры, но и чувства глубокого уважения, любви и благодарности к королевской сестре, не перестававшей всячески помогать своим друзьям, даже в изгнании. Она посылает им крупные денежные пособия. Вот как описывает ее деятельность один из католических историков того времени, Флоримон де Ремон (Florimond de Rmond):
Герцогиня Алансонская, добрая, но легкомысленная женщина, охотно их [протестантов] слушает, получает от них книги и заставляет королевского духовника, епископа де Санлис, переводить на французский язык латинские молитвы. Она говорит королю о лютеранстве, развивает ему тезисы их религии, думая сделать его более мягким и гибким. Она из жалости открывает свой дом всем изгнанным и осужденным. Всеми историками обеих партий отмечено, что эта принцесса, не желая худого, одна виновата в сохранении французских лютеранцев и в том, что церковь, с тех пор присвоившая себе название «реформатской», не могла быть уничтожена в самом своем зародыше, ибо она не только внимала их беседам, которые вначале были вполне благонамеренны и не так смелы, как впоследствии, но, кроме того, содержала нескольких из них на свой счет в школах Франции и Германии. Она с удивительным рвением спасала и защищала всех тех, кто находился в опасности из-за своих религиозных убеждений, и помогала скрывшимся в Страсбурге и Женеве. Туда-то послала она ученым четыре тысячи в один раз. Словом, эта мягкая принцесса в продолжение девяти или десяти лет не имела другой заботы, как спасать тех, кого король хотел подвергнуть строгостям суда. Она часто говорила ему о них и понемногу старалась внушить ему жалость к ним, в чем ей помогала герцогиня д'Этамп.
Даже находясь в Испании и будучи занята там сначала болезнью брата, а потом – дипломатическими переговорами, она не забывает преследуемых. Под ее влиянием Франциск, уведомленный об опасности, грозившей Лефевру и Русселю, 12 ноября 1525 года пишет письмо своему парламенту, в котором жалуется на «клеветы, направленные против лиц такого великого знания и ума», и приказывает приостановить процессы до его возвращения из плена, так как он «решил, неуклоннее, чем когда-либо, выказывать свое благоволение людям науки (aux gens de lettres)». Но это письмо не произвело никакого впечатления: Сорбонна хотела в отсутствие короля погубить своих врагов. Поэтому 15 декабря парламент постановил «продолжать расследование дела ввиду необходимости пресечь зло в корне», и в январе 1526 года Пьер Туссен был брошен в тюрьму, а Беркен объявлен еретиком и приговорен к казни. На защиту Беркена выступила герцогиня Алансонская, только что вернувшаяся из Испании и воспользовавшаяся промахом самой Сорбонны, затеявшей уж слишком смелое дело: университетские мэтры обвинили в ереси ни больше ни меньше, как самого Эразма. В качестве обвинителя выступил синдик Беда, «в котором сидело три тысячи монахов», по выражению Эразма (in uno Beda sunt tria millia monachoruin), и который усмотрел еретические мысли в остроумных «Беседах» (Colloques) ученого. Эго было большой ошибкой со стороны теологов, ибо Эразм не только не симпатизировал новому религиозному движению, но прямо был ему враждебен. Возмущенный дерзостью Сорбонны, он резко выступил против нее. Эразм писал тем из французских богословов, с которыми еще не порвал отношений:
Что породило это страшное пламя лютеранства, что разжигало его, как не безумствования Беды? На войне всякий солдат, честно выполнявший свое дело, получает награду от своих полководцев, а я – вся награда, которую я получаю от вас, предводителей этой войны, заключается в клеветах какого-то Беды, возводимых им на меня!..
С таким же письмом он обратился и к парламенту:
Как! В то время, когда я боролся с этими лютеранцами и давал им настоящее сражение по приказанию (!) императора, папы и других государей, чуть не рискуя для этого своей головой, Беда и Лекутюрье осаждают меня с тылу своими бешеными книжонками! О, если бы судьба не отняла от нас короля Франциска, я обратился бы к нему, защитнику муз, прося помощи против этого нового нашествия варваров. Но пока он отсутствует, вы, парламент, должны пресечь такую несправедливость!
Не довольствуясь этими воззваниями, Эразм обратился с письмами к Карлу V и к Франциску I. Королю он так охарактеризовал Сорбонну и ее друзей: